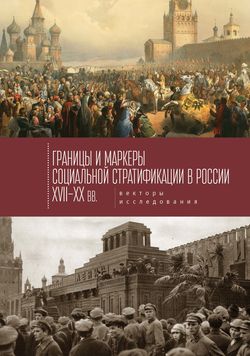Читать книгу Границы и маркеры социальной стратификации России XVII–XX вв. Векторы исследования - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 5
Раздел I
Осмысление социального
Глава 1
Адаптация социологических моделей в исторических исследованиях: «исторический поворот» в социологии
1.2. Прочтение истории социума: проблема языка и метода интерпретации
ОглавлениеСпецифика предметного поля исторической науки не позволяет использовать метод опроса или анкетирования, наблюдения или эксперимента[68]. Единственный канал, связывающий историка с ушедшей в прошлое социальной реальностью, – текст исторического источника. Таким образом, история социального – это история текстов, различных по своему назначению, содержанию и объему, в которых зафиксированы различные типы внутри- и межгрупповых взаимодействий, представления о своем месте в системе общественных отношений, мотивация практических действий и представления о возможных перспективах развития как на локальном уровне, так и в масштабах города, страны или мира.
Посредством анализа текста историк может выявить содержание, направленность и результаты социальных взаимодействий, а, следовательно, обязательным условием их адекватного понимания является изучение языковых практик. К таким языковым практикам следует отнести различные способы публичной и межличностной коммуникации, зафиксированные в письменной форме: материалы периодической печати; учебные пособия и научно-публицистические произведения; тексты устных выступлений с докладами или «речами»; распоряжения властных структур в форме манифестов, указов, законов и другие нормативно-правовые акты; прошения, жалобы, доносы и иные обращения, направляемые представителями различных социальных групп; личную переписку и дневниковые записи. Во всех этих текстах, наряду с обоснованием необходимости их составления и/или совершения каких-либо практических действий, в явной или скрытой форме содержится информация об особенностях индивидуальной и групповой самоидентификации автора, характере взаимоотношений с другими группами, представления о власти и социальной иерархии.
Выявление подобного рода информации возможно при концентрации внимания исследователя не только на том, что было сказано или записано, но и с помощью каких языковых средств это было сделано. Методологическим основанием для проведения анализа языковых практик могут служить наработки немецкой школы Begriffsgeschichte и англосаксонского варианта изучения истории понятий – History of Concepts. Идейные основы первого были сформулированы в ряде теоретических работ Рейнхарда Козеллека[69], который совместно с О. Брунером и В. Конце был руководителем проекта по написанию «Исторического лексикона социально-политического языка в Германии»[70]. Методологические установки второго направления отражены в работах Джона Покока и Квентина Скиннера[71]. Наличие подробных историографических обзоров[72] основных положений немецкой и англосаксонской школы снимает необходимость подробного описания методологических установок истории понятий и позволяет сконцентрировать внимание на альтернативных моделях анализа языковых практик и возможности их применения в исторических исследованиях.
При всех имеющихся разногласиях представители двух направлений признают необходимость при работе с текстом выявлять, что подразумевали и какие действия совершали его авторы, употребляя то или иное понятие, какие дополнительные коннотации оно получало при использовании в различных контекстах, каким образом происходила корректировка содержания как уже известных ранее, так и заимствованных из «чужой» культурной среды понятий. Такой подход позволит избежать «осовременивания» языка прошлого и уйти от некорректного использования понятий, возникших в более поздний хронологический период.
Например, хорошо известное современному исследователю понятие «сословие» уже на рубеже XVIII ‒ первой четверти XIX в. использовалось для обозначения различий положения индивида в обществе, но еще не имело четко определенного значения[73]. Составители «Словаря Академии Российской» объясняли читателям, что «сословие ‒ собрание, число присутствующих где особ» или «общество, состоящее из известного числа членов»[74], а М. М. Сперанский писал о «законодательном сословии» как группе лиц, причастных к системе обсуждения наиболее важных вопросов[75]. Одновременно с такой трактовкой понятие «сословие» могло использоваться и для обозначения различных по своему функциональному назначению и уровню «просвещения» категорий населения. В записке «Опыт о просвещении относительно к России» И. П. Пнин упоминал о «гражданском сословии», которое «…должно непременно составлено быть из мужей истинно достойных, опытных и благонамеренных, известных обществу, сколько по доброхотству своему, столько по способностям и усердию», но одновременно предлагал «руководство к просвещению главнейших государственных сословий»: «земледельческого, мещанского, дворянского и духовного»[76]. Аналогичное деление общества, выделяя при этом в качестве самостоятельного «купеческое сословие», использовал в черновых «записках для памяти» Н. С. Мордвинов[77].
В большинстве случаев для описания юридически значимых различий, дифференциации прав и обязанностей российских подданных основным было понятие «состояние». Именно «состояние», а не «сословие» доминировало в законодательстве и официальном делопроизводстве Российском империи в первой половине XIX в. В данном контексте показательно, что в «Проекте дополнительного закона о состояниях» подчеркивалось, что «коренными государства нашего законами издревле установлены в нем четыре главные состояния: дворянство, духовенство, гражданство и крестьянство»[78]. Понятием же «сословие» обозначались различные категории внутри указанных «состояний»: «дворянское состояние» включало в себя «сословие личных» и «сословие потомственных дворян»; «состояние гражданства» ‒ купеческое и мещанское «сословие»; «крестьянское состояние» подразделялось на «сословие крестьян казенных» и «сословие крестьян помещичьих»[79]. В условиях семантической многозначности понятие «сословие» в конце XVIII – начале XIX в. использовалось чаще всего представителями дворянства в размышлениях о преимуществах образованного человека и естественном разделении общества на группы по роду деятельности.
Интересный вариант трактовки общих подходов к изучению социальных процессов посредством обращения к «исторической социологии понятий» предложил российский социолог Александр Бикбов[80]. Для исследователя, изучающего различные проявления социального в исторической ретроспективе, определенный интерес представляет несколько методологических установок «исторической социологии понятий».
Во-первых, в отличие от истории слов, историческая социология понятий ориентирована не на реконструкцию «исторической траектории лексем от общества к обществу, из одной языковой среды в другую, или от одних авторов к другим», а на «прояснение того, как понятия направляют практики», каким образом они определяют характер социальных взаимодействий[81]. Признание возможности с помощью ключевых социально-политических понятий влиять на общественное мнение, формировать целевые установки индивидов, способствовать групповой консолидации или, напротив, порождать конфликты и дискуссии обусловливает необходимость выявления логической взаимосвязи между понятиями, способами их использования и практическими действиями людей в условиях окружающей их социальной реальности.
В связи с этим принципиально важным является вопрос о том, кто и как создает и актуализирует ключевые понятия, каким образом они влияют на поддержание и изменение социального порядка. В поисках ответа на эти вопросы исследователь неизбежно приходит к констатации существования множества трактовок и дополнительных коннотаций одного и того же понятия. Инициаторами создания новых смыслов и их трансляции могут выступать как «коллективные инстанции» (например, государство в лице чиновников различного уровня, профессиональные экспертные сообщества, партийные структуры, образовательные институты и средства массовой информации), так и отдельные индивиды, позиция которых озвучивается публично и становится предметом для обсуждения современниками (например, философические письма П. Я. Чаадаева). На наш взгляд, продуктивным будет исследование не только индивидуальных текстов, чье авторство может быть установлено, но и совместно создаваемых коллективных текстов, ставших результатом поиска современниками конвенциональных соглашений по какому-либо вопросу. В данном случае можно согласиться с рассуждениями А. Бикбова: «Даже если в отдельных случаях можно проследить вклад тех или иных инстанций и участников в итоговую конструкцию понятия, следует исходить из того, что продукт подобных конструкторских усилий соотносим не с индивидуальной авторской интенцией, или результирующим вектором нескольких интенций, а с практиками, локализованными в различных, в первую очередь профессиональных, институциях по производству смыслов»[82].
Анализ процесса трансляции и распространения понятий в ходе разнообразных языковых практик подразумевает обращение историка к широкому спектру текстов. А. Бикбов предлагает отслеживать использование понятий в официальной риторике (публичные речи руководителей к населению и политическому аппарату); материалах политических дебатов и экспертных дискуссий, возникавших в процессе подготовки или принятия новых законов; текстах, создаваемых для внутреннего использования различными административными, финансовыми и техническими подразделениями; проводить статистический анализ распределения ключевых понятий в заглавиях публикаций, библиотечных указателях и классификаторах[83].
Во-вторых, необходимость обращения к исторической социологии понятий обусловлена не только важностью реконструкции особенностей мировосприятия людей прошлого, но и «проективной силой» ключевых социально-политических понятий, т. е. «способностью понятий создавать будущее, доопределяя реальность в форме институтов»[84]. Наличие у понятия потенциальной «проективной силы» позволяет современникам использовать его для обоснования направлений внутренней и внешней политики, консолидации какой-либо группы или описания перспектив развития общества. В качестве примера, подтверждающего существование и способы использования понятий-проектов, А. Бикбов приводит анализ понятий «средний класс» и «третье сословие»[85]. Эти понятия российские власти активно использовали со времени Екатерины Великой для обозначения естественного неравенства состояний в России, а также декларации позитивно оцениваемой тенденции сближения социальной структуры России и стран Европы[86].
Такой подход к изучению социальных процессов в исторической ретроспективе, как представляется, задает двухуровневую структуру исследования: на первом уровне – изучение попыток государства и его институтов структурировать общество, юридически определяя разделение на «состояния», «сословия», «разряды», «ранги» и т. п., а на втором – выявление особенностей восприятия и трактовок подобной политики государства представителями различных социальных групп. На внутригрупповом уровне принципиально важно выяснить, насколько отчетливо современники понимали значение и границы формального разделения и с помощью каких понятий они выражали отличительные характеристики своей социальной группы. При этом важно фиксировать не только юридически установленные верховной властью «маркеры» социальной стратификации, такие как, например, право собственности на населенные земли, влекущее за собой право распоряжения крепостными крестьянами, или размер объявленного капитала для купца соответствующей гильдии, но и то, насколько эти маркеры становились действенными инструментами для личной и группой самоидентификации российских подданных.
Внимательное прочтение источников, создаваемых в России вне правительственного дискурса, позволяет утверждать, что в ходе взаимодействий с представителями различных социальных групп индивид соотносил себя с другими, используя несколько критериев одновременно. Личная и групповая идентификация не могла быть описана одним понятием и предполагала систему взаимосвязанных категорий, с помощью которых он мог безошибочно определить свое положение. Именно поэтому, в полном соответствии с основными принципами истории понятий[87], необходимо реконструировать значение не одной социальной категории, а системы взаимосвязанных понятий, с помощью которых индивид отождествлял себя с той или иной группой или отстаивал необходимость совершения каких-либо действий.
Например, в первой половине XIX в. элементами такой системы были понятия «свобода», «рабство», «собственность», «владение», «состояние», «закон». Все они употреблялись, в частности, при обосновании крестьянских прошений о предоставлении «свободы от рабства», жалобах на несправедливое, с точки зрения заявителя, решение суда о взятии имения в опеку или необоснованном отказе в праве участия в выборах на должности в городских органах самоуправления и дворянских губернских собраний. Системный подход к реконструкции нескольких ключевых понятий в текстах различного происхождения позволяет выявить особенности мировосприятия и социальной самоидентификации индивида в условиях окружающей его социально-экономической и политико-административной обстановки.
Яркой иллюстрацией эвристического потенциала «истории понятий» являются результаты сравнительно-текстологического анализа крестьянских прошений и слухов о возможных сценариях отмены крепостного права в первой четверти XIX в.[88] Обращаясь к властным структурам, крестьянин вынужден был не только отождествить себя с определенной социальной группой, но и описать характер взаимоотношений с другими крестьянами, а также с приказчиками, помещиком и/или его родственниками. Сопоставление содержания прошений и контекстов употребления понятий «свобода», «рабство», «вольность», «состояние», «владение» позволило выявить несколько особенностей социальной идентификации крепостных людей в России.
Во-первых, «рабство» как система взаимоотношений, предполагающая возможность «своевольного» применения физического насилия и отсутствие имущественных прав, вызывала неприятие у представителей различных сословий российского общества. Особенностью крестьянского понимания было то, что противоположностью «рабства» одновременно выступали понятия «свобода/вольность» и «законное владение». При этом для крестьян-земледельцев «свобода/вольность» не обязательно означала переход в другое «состояние», а лишь отсутствие мелочного контроля со стороны помещика. Крепостные же, находящиеся на положении «дворовых людей», особенно те из них, кто длительное время проживали в городах, отождествляли «свободу» с предоставлением личной независимости и возможности уйти от помещика. Во-вторых, наиболее вероятный, с точки зрения крестьян, сценарий решения крепостной проблемы предполагал, что инициатива должна исходить не от помещика, а непосредственно от императора, который, проявляя отеческую заботу обо всех российских подданных, незамедлительно окажет необходимую финансовую помощь бывшим владельцам «населенных земель». Таким образом, сравнительно-контекстуальный анализ использования понятий в текстах исторических источников может стать важным инструментом при выявлении социально-политических представлений и тактических установок практических действий.
68
Лишь при изучении недавнего прошлого, сохранившегося в памяти ныне живущих современников, возможно частичное заимствование инструментария социологов или этнографов и использование комплекса методов «устной истории». См. подробнее: Томпсон П. Голос прошлого. Устная история. М., 2003.
69
Козеллек Р. К вопросу о темпоральных структурах в историческом развитии понятий // История понятий, история дискурса, история метафор: сб. ст.: пер. с нем. / под ред. Х. Э. Бёдекера. М., 2010. С. 21–33; Его же. Можем ли мы распоряжаться историей? (Из книги «Прошедшее будущее. К вопросу о семантике исторического времени») // Отеч. зап. 2004. № 5. С. 226–241; Его же. Социальная история и история понятий // Исторические понятия и политические идеи в России XVI–XX века: сб. науч. работ. СПб., 2006. С. 33–53; Его же. Теория и метод определения исторического времени // Логос: журн. по философии и прагматике культуры. 2004. № 5(44). С. 97–130.
70
Geschichtliche Grundbergriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Stuttgart, 1972–1993. Bd. 1–8. В 2014 г. было осуществлен перевод нескольких статей этого словаря на русский язык, см.: Словарь основных исторических понятий: избр. ст.: в 2 т. М., 2014.
71
Скиннер К. Коллингвудовский подход к истории политической мысли: становление, вызов, перспективы // Новое лит. обозрение. 2004. № 66. С. 55–66. Pocock J. G. A. Politics, Language and Time. Essays in Political thought and History. L., 1972.
72
См. подробнее о методологических основаниях, сходствах и отличиях Begriffsgeschichte и History of Concepts: Дмитриев А. Контекст и метод (предварительные соображения об одной становящейся исследовательской индустрии) // Новое лит. обозрение. 2004. № 66. С. 6–16; Копосов Н. Е. История понятий вчера и сегодня // Исторические понятия и политические идеи в России XVI–XX века. С. 9–32; Рощин Е. История понятий: новый старый подход общественных наук // Полит. наука. 2009. № 4. С. 43–58; Бёдекер Х. Размышление о методе истории понятий // История понятий, история дискурса, история метафор. С. 34–65; Миллер А. И., Сдвижков Д. А., Ширле И. «Понятия о России»: к исторической семантике имперского периода. Предисловие // «Понятия о России»: к исторической семантике имперского периода. М., 2012. Т. 1. С. 5‒46.
73
См.: Фриз Г. Л. Сословная парадигма и социальная история России // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Императорский период: антол. / сост. М. Дэвид-Фокс. Самара, 2000. С. 123–162.
74
Косвенным подтверждением того, что понятие «сословие» в конце XVIII в. не рассматривалось в качестве основного при описании социальной структуры общества, является его размещение не в отдельной словарной статье, а в списке понятий, имевших корень «слов». Для сравнения: Словарь Академии Российской. Ч. 5: От Р до Т. СПб., 1794. С. 544; Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. Ч. 6: От С до конца. СПб., 1822. С. 395.
75
Сперанский М. М. Введение к уложению государственных законов (1809): (План всеобщего государственного преобразования). М., 2004. С. 23–25.
76
Пнин И. П. Опыт о просвещении относительно к России // Общественная мысль России XVIII века. Т. 2: Philosophyia moralis. М., 2010. С. 585, 600–622.
77
Архив графов Мордвиновых. СПб., 1903. Т. 9. С. 54.
78
Проект дополнительного закона о состояниях с принадлежащими к нему приложениями // Сб РИО. Т. 90: Бумаги комитета, учрежденного Высочайшим рескриптом 6 декабря 1826 года. СПб., 1894. С. 363.
79
Там же. С. 364–366.
80
См.: Бикбов А. Грамматика порядка: Историческая социология понятий, которые меняют нашу реальность. М., 2014.
81
Там же. С. 13, 14.
82
Бикбов А. Грамматика порядка… С. 19.
83
Там же. С. 19–20.
84
Там же. С. 10.
85
Там же. С. 31, 47–162.
86
См. подробнее: Ширле И. Третий чин или средний род: история поиска понятия и слов в XVIII века // «Понятия о России»: к исторической семантике имперского периода. Т. 1. С. 225–248.
87
См. подробнее о принципах и методах конкретно-исторического исследования на основе интеграции методологических установок Begriffsgeschichte и History of Concepts: Тимофеев Д. В. Европейские идеи в социально-политическом лексиконе образованного российского подданного первой четверти XIX века. Челябинск, 2011; Его же. «История понятий» как теоретико-методологическая основа исследований по истории российской модернизации первой четверти XIX века // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2014. № 4(133). С. 123‒136; Его же. Методология «история понятий» в контексте истории дореволюционной России: перспективы и принципы применения // Диалог со временем: альм. интеллектуал. истории. М., 2015. Вып. 50. С. 116–138.
88
См. подробнее: Тимофеев Д. В. «Свобода» и «рабство» в крестьянских прошениях первой четверти XIX века // Вопр. истории. 2015. № 7. С. 79–90.