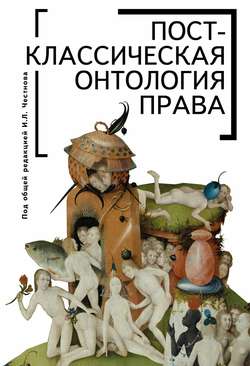Читать книгу Постклассическая онтология права - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 12
Концепция правовой реальности
С.И. Максимов
9. Кто является (может быть) субъектом права?
ОглавлениеС позиции юридической догматики ответ на вопрос о субъекте права не представляет труда: это лицо, обладающее право – и дееспособностью. Однако, выяснение того, что стоит за этой конструкцией на содержательно-бытийном уровне, представляет собой один из сложнейших вопросов философии права. Представление о правовой реальности как правовом способе бытия человека, актуализирует вопрос о центральном компоненте правовой реальности – человеке в модусе его правового бытия. Тем самым основной вопрос философии права в его онтологическом выражении («Что есть право?») в антропологическом преломлении оказывается вопросом: «Что такое правовой человек?». Поэтому вопрос: кто может быть субъектом права? – трансформируется в вопрос: благодаря каким способностям мы можем идентифицировать правового человека как субъекта права?
Обосновывая введение понятия «человек юридический» («homo juridicus»), Ж. Карбонье подчеркивал, что только человек из всех живых существ «наделен свойством быть юридическим существом» и только ему присуща способность «создавать и воспринимать юридическое»[51].
Правовой человек в качестве субъекта права предстает как носитель качества правового и ведущего элемента правовой реальности. Правовой субъект как единство трансцендентального и эмпирического, сущности и существования является носителем способности к осуществлению ценностно-значимых актов признания. Способность к признанию является собственно правовой способностью, делающей право возможным.
Акты признания – это особые интенциональные акты, выражающиеся в направленности на Другого, при этом он рассматривается как ценность вне зависимости от степени его достоинств, как ценность, заслуживающая гарантий защиты со стороны права. Ценностно-значимый акт признания есть то, что конституирует «клеточку» права, представляет собой конститутивный момент правосознания. Он отличается от моральной способности (любви, уважения), хотя и может иметь их в качестве своей предпосылки. Отношения взаимного признания – это отношения гипотетического «естественного состояния», однако свое фактическое воплощение они приобретают в сфере гражданского общества и государства, иными словами, при институциональном опосредовании. Человек здесь признает других «тем, чем сам хотел быть признанным, т. е. свободным человеком, личностью»[52].
Признание, или взаимопризнание людей представляет такой тип взаимоотношений, когда люди не пытаются приспособить друг друга к своим целям и потребностям, т. е. не являются утилитарными. Это отношения равных партнеров, внимательно относящихся к различиям Другого. Именно такое признание способно стать основой для осуществления равных прав. Основой этой способности является то, что «самость», мое Я конституируется лишь благодаря Другому и посредством Другого в моем признании.
Акты признания можно назвать сознательными и разумными актами. Поэтому способность признания предполагает определенную интеллектуальную и моральную зрелость, выражением которой выступает метафора субъекта права как «совершеннолетнего», т. е. автономного субъекта. Человек понимает происходящее с ним и Другим, поступает осмысленно, отдает отчет в происходящем, является ответственным. Поэтому способность признания, предполагает наличие таких качеств у субъекта, как автономия и ответственность. Именно с этими качествами, в первую очередь, связывают универсальный образ человека как необходимую форму его самопонимания, необходимую для ориентации на нормы и общие принципы в процессе деятельности. Ю. Хабермас, в частности, обращает внимание на то, что «либеральная евгеника», которая отдает принятие решения (о возможном в будущем) вмешательстве в геном на усмотрение родителей, «затрагивает необходимую для сознания подвергшейся генетическому вмешательству личности естественную предпосылку быть способной действовать автономно и ответственно»[53].
Согласно герменевтической концепции П. Рикера собственно правовая структура отношений между людьми выражается местоимением «Любой», что дает основание реконструировать такое определение права: Право – это такой тип взаимодействия между людьми (как «дальними»), который нуждается в институциональном опосредовании (третьей стороной), в его рамках социальные субъекты выступают в своей типичной роли, а их характер может быть выражен местоимением «Любой». «Субъект права – пишет П. Рикер, – Любой. Я являюсь любым по отношению ко всем. Мы входим в юридическое пространство, когда рассматриваем себя как “любого” из всех остальных “любых”»[54].
Что же скрывается за выражением «Любой»? Какая из форм индивидуального бытия человека – индивид, индивидуальность или личность – имеется в виду, когда ставится вопрос о субъекте права?
В предложенной Э.Ю. Соловьевым концепции содержание и соотношение основных форм индивидуального бытия человека раскрывается через установление их соответствия определенным типам норм – обязанностям, призванию, правам[55]. Так, индивид – это отдельный представитель рода «человек», «один из» множества людей, и в таком качестве – продукт общества, объект общественных отношений. Он является субъектом (носителем) обязанностей, без которых немыслимо никакое общество, центром вменения, т. е. уже по отношению к нему применимы понятия вины и ответственности. Для индивида характерна установка на социальную адаптированность к существующим условиям.
Для обозначения же активной стороны человеческого бытия, субъекта общественных отношений применяются понятия «индивидуальность» и «личность». Э. Ю. Соловьев подчеркивает, что в индивидуальности мы ценим ее самобытность, а в личности – самостоятельность, или автономию[56]. Индивидуальность – субъект призвания, или состояния, когда право превращается в обязанность, для нее характерна установка на самореализацию (самоосуществление). Это индивид, который социальнее наличного социума. Внешнему авторитету здесь противопоставляется надличностная принудительность совести, веры, вкуса.
Личность – это субъект прав, или права (если сущность права видеть в правах человека), а, следовательно, субъект свободы. Ее отличительной чертой является стремление к собственной независимости и уважение к независимости чужой. Именно с образом человека как личности коррелируется право. Ведь сущность права образует категорически требуемое морально-автономным субъектом признание его моральной самостоятельности (свободы) как предварительное доверие к воле и самодисциплине каждого человеческого индивида[57].
Право, казалось бы, безразличное к внутреннему миру человека, не может функционировать и развиваться без личностно развитых людей, способных сказать: «На том стою и не могу иначе». Оно испрашивает таких людей, признавая за ними способность решать самостоятельно, что для них значимо, ценно и выгодно. Гарантируя пространство для осуществления этих способностей, оно тем самым стимулирует «производство» личностно развитых индивидов. Без личностно развитого субъекта права современная правовая культура была бы просто невозможной.
Структура правового субъекта представляет собой единство внутреннего и внешнего планов, сущности и существования. На внешнем уровне – это лицо, носитель прав и обязанностей, на внутреннем – носитель правосознания. Внутренний план представляет собой единство индивидуальности («внутреннего Я») и персональности («ориентации на Другого»). Основным моментом структуры правового субъекта является то, как личность представляется Другими, т. е. персона. Право порождается отношениями персон. Для достижения понимания в сфере права необходим дискурс, темой которого было бы истинное право, а основой и критерием – личность как единство отношения и его носителя.
В силу отмеченных обстоятельств право в одном из своих измерений – антропологическом, может быть определено как способ человеческого взаимодействия (сосуществования), возможный благодаря человеческой способности быть автономным субъектом, который п р и з н а е т таким же субъектом любого другого. Носителем данной способности является определяемая признанием Других личность, или персона, а ее реализация и воспроизводство составляет задачу политико-правовых институтов[58].
51
Карбонье Ж. Юридическая социология. – М., 1986. – С. 61.
52
Гегель Г. В. Ф. Философия права. – М., 1990. – С. 243.
53
Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. На пути к либеральной евгенике? / пер с нем. – М., 2002. С. 93.
54
Рикер П. Торжество языка над насилием. – С. 30.
55
Соловьев Э. Ю. От обязанности к призванию, от призвания к праву // Одиссей. Человек в истории. 1990.– М., 1990. – С. 48–55.
56
Соловьев Э. Ю. Личность и право. // Вопросы философии. – 1989. – № 8. – С. 87.
57
Соловьев Э. Ю. От обязанности к призванию, от призвания к праву. – С. 52.
58
Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления. С. 234–252.