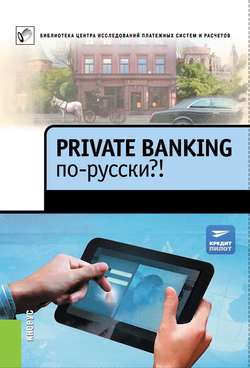Читать книгу Private Banking по-русски?! - Каллум Хопкинс, Коллектив авторов, Сборник рецептов - Страница 4
А. Гусев
В российском private banking’е начинают доминировать давно известные программы корпоративной лояльности, на основе которых новым, более прагматичным игрокам удается выстраивать весьма эффективный банковский бизнес
Внешняя конкуренция: кто же все-таки наш клиент?
ОглавлениеДаже сейчас, когда кризис далеко позади, VIP’ам просто нельзя требовать к себе от банков особого отношения, тем более от крупных банков (которые в подавляющем большинстве используют универсальную, нежели более закрытую, подчас даже клубную модель), подразделение privat’а которых является всего лишь одним, причем отнюдь не самым приоритетным, как в среднем и мелком, из множества его подразделений и бизнесов. Например, валовые показатели по привлеченным средствам и прибыли заметно уступают той же рознице и корпоративному блоку! Для крупных банков вал более важен, чем показатели эффективности, а именно привлеченки и прибыли, но приходящиеся на одного сотрудника или одного клиента этого подразделения, чем privat как раз и выделяется. А ведь еще важен и баланс, ведь главное – это привлеченка по клиентским счетам, в карточки, на депозиты и в ОФБУ, что прямо отражается на активах банка. И основные операции, которые так важны для VIP-клиента, причем связанные именно с доверительным управлением через дочерние компании, через контрагентов, да и любые продукты и услуги через тех же контрагентов, не отражаются, по сути, в балансе, что нивелирует работу всего подразделения privat’а. То, что клиент в основном работает «за балансом», банк не видит, вернее, видит, но в рамках того, что средства клиентов покидают банк, например, если идет отток средств из депозитов в инструменты фондового рынка.
Для крупного банка это принципиально, поскольку любое клиентское подразделение должно обеспечивать соответствующие показатели, позволяющие сейчас занимать лидирующие позиции в рейтингах по активам. Для среднего и мелкого банка более важна консолидация средств клиента внутри самого банка, холдинга или группы компаний, и эти банки при обслуживании VIP’ов сразу же получают фору в виде большей устойчивости бизнеса и широкого спектра возможных действий. Например средние и мелкие банки просто будут избавлены от необходимости всяческим образом удерживать клиентов в банке, убеждая их в том, что те же депозиты для них гораздо лучше, чем продукты фондового рынка от контрагентов, причем независимо от того, что фондовый рынок начинает расти и подобный переход объективно необходим самому клиенту. Да и конкретный результат средним и мелким банкам нужно показать как можно быстрее – у них нет подушки прочности крупных банков, так что, если речь идет о privat’е как о бизнесе, нынешние результаты этих банков однозначно являются теми достижениями, которые в комментариях не нуждаются. Причем даже если принять во внимание тот факт, что рынок отечественного privat’а до сих пор не слишком сильно сегментирован, особой конкуренции на нем нет и места хватает всем, подобный результат на фоне не столь оптимистичных и иногда даже весьма сомнительных достижений остальных игроков просто не может не вызвать уважения! А здесь интересно и то, что лидеры новой волны не только с оптимизмом смотрят в будущее, но и весьма рационально и критически рассматривают свои возможности, стараясь не переоценивать их понапрасну. И в первую очередь они совершенно четко заявляют, что все их результаты основаны на том, что ими была заранее сделана ставка на российскую специфику и именно она, по сути, и обеспечивает все их нынешнее позиционирование. Причем четкость и однозначность формулировок, которые привлекают не столько своей простотой, сколько наглядностью, весьма примечательны. Именно тут и уместно поднять вопросы: а что же такое отечественный privat и чем он так уж отличается от западного в обслуживании состоятельных клиентов?
Начнем с того, что классический private banking, будь то швейцарская модель (ориентированная в большей степени на задачи управления активами состоятельных или VIP-клиентов) или английская (все-таки более близкая к банковскому обслуживанию этих клиентов и к эффективной передаче их состояния наследникам), непосредственно обслуживает личное состояние, и с этими столетними традициями работы конкурировать трудно. Однако отечественный privat отнюдь не стал здесь лишь одним из множества чисто локальных продолжений этого направления с его чисто региональными инвестиционными инструментами и состоятельными клиентами, которые могут получить соответствующий сервис по управлению личным состоянием лишь вне своей страны (как на это рассчитывали аналитики еще лет пять тому назад).
В конце концов, до Европы далеко. Да и отечественные состоятельные клиенты хотят получить обслуживание, напоминающее им западный privat, непосредственно в России, в которой они проводят довольно много времени, например, управляя своим собственным бизнесом. Одно дело, когда клиента по тому же статусному сопровождению обслуживает западный банк и клиент много времени проводит на Западе. Но когда его интересы смещаются в Россию, ему уже недостаточно того, что его обслуживают так далеко. Требуется кто-то, кто может предложить соответствующий сервис здесь, на месте. Новый VIP давно обслуживался на Западе и прекрасно видел, как именно западный privat обслуживает новых VIP’ов из других стран. Если клиент был из Восточной Европы, то его мобильность также была высока (час-два лету до Швейцарии, Австрии, Люксембурга или Лихтенштейна) и локальный privat ему в своей стране уже и не требовался. Но если же говорить о России, то с учетом того, сколько придется лететь из самой Москвы, вывод о необходимости поиска локального privat’а, причем на месте – в России, – уже был более обоснован. А ведь кроме московского VIP-клиента есть и VIP’ы из регионов. И их численность весьма впечатляет. То есть после того, как исчерпан потенциал московского рынка, предстоит заниматься и регионами, где три-четыре часа надо потратить не на перелет из Москвы в Европу, а просто на то, чтобы добраться до Москвы! А значит, и роль фактора мобильности только увеличивается за счет подобных, фактически новых или потенциальных VIP-клиентов из регионов, так что локальный, на месте ведения бизнеса, private banking, и private banking отнюдь не западный, просто необходим!
Ну а теперь вспомним, что наши состоятельные клиенты немного по-другому оценивают для себя и риски инвестиций в российские же финансовые инструменты, а также и прямые вложения в близкие им бизнесы. А это позволяет именно здесь, уже непосредственно в России, на месте, предлагать таким клиентам адекватные финансовые услуги со стороны отечественных банков, как раз и понимающих эту специфику. Но что самое важное, для западного privat’а все эти наши московские и региональные VIP’ы-миллионеры отнюдь не являются основной целевой клиентской группой, есть и более традиционные и понятные рынки (например, «старой» Европы), а из развивающихся остается Юго-Восточная Азия (особенно Китай), значительно превосходящая Россию по числу тех же миллионеров, а значит, и по потенциалу рынка. Поэтому максимум того, что западный privat может предложить своим российским VIP-клиентам непосредственно в России, – это достаточно консервативное, без учета локальной, страновой составляющей и в минимальным образом адаптированное к отечественной специфике обслуживание.
А значит, чуть ли не с момента возникновения отечественного privat’а и еще в ближайшие лет пять (это – как минимум!) пока мы не интересны западному privat’у, но по российским меркам представляем из себя весьма перспективный сегмент финансового и банковского рынков, у отечественного privat’а был, есть и будет весьма неплохой шанс строить бизнес с учетом своего локального позиционирования, с учетом собственной, ни на что не похожей специфики. И если результаты десятилетней давности нас не впечатляют, у нас еще вполне достаточно времени, чтобы эти результаты исправить, подготовившись к тому моменту, когда на Россию все-таки обратит внимание западный privat, которому придется иметь дело уже с весьма конкурентоспособным противником! В конце концов, по российским же меркам этих VIP-клиентов вполне достаточно для того, чтобы рынок отечественного privat’а, после того как он сформировался в середине 1990-х как некий дополнительный статусный сервис для наиболее значимых клиентов банков и их акционеров, превратился во вполне сложившееся эффективное и прибыльное направление банковского бизнеса. И к его особенностям стоит отнести не только обслуживание в основном российских же VIP-клиентов и предпочтение инвестиционных продуктов отечественного рынка (хотя в рамках открытой архитектуры через своих зарубежных контрагентов клиентам российских банков доступен весь продуктовый ряд западного privat’а).
За это время российский же privat к тому же научился целенаправленно, совместно с корпоративным блоком обслуживать собственников и топ-менеджеров крупных компаний как своих VIP-клиентов, что поначалу вызывало резкое отторжение у аналитиков, которые поначалу не считали такое обслуживание за «классический private banking» вообще. Но кто теперь об этом помнит: ведь из подобных программ «корпоративной лояльности», пока их многие игроки просто игнорировали, вырос весьма прибыльный бизнес, а с этим бизнесом спорить трудно!
К тому же локальное понимание локальным пониманием, но все это находится и в рамках более глобально тренда, и в рамках эволюции самого западного privat’а. Так, еще перед кризисом, когда рынок бурно рос, в глобальном обзоре PriceWaterhouseCoopers, в котором рассматривались уже апробированные отдельными игроками практики по итогам 2006 г., впервые была упомянута необходимость именно такой региональной сегментации, особенно в плане привлечения новых клиентов из числа тех же владельцев бизнеса, в том числе и с учетом обслуживания не только их состояния, что раньше и было единственной прерогативой privat’а. Но через год гораздо больший эффект сыграл более свежий обзор от Oliver Wyman, где более четко ставились вопросы влияния географических факторов, моделей дистрибуции, значения организационной структуры. Особое внимание было обращено на группу предпринимателей, в том числе и тех состоятельных лиц, которые еще не приняли решение о том, каким образом им надо выводить свои средства из бизнеса. Для новых игроков рынка privat’а, которые в тот момент активно выходили на рынок, конкурируя с традиционными игроками, это было важно, поскольку неправильный выход на целевых клиентов мог привести к серьезным убыткам. Как результат, в позиционировании игроков с тех пор стало проявляться все меньше пафоса и все больше конкретики о том, кто именно является их целевым клиентом, как его собираются привлекать, а также за счет чего такое обслуживание превратится в доходный бизнес[3].
Уже тогда, в 2008 г., это обсуждалось и по отношению к отечественному privat’у, бо́льшая часть клиентов которого не просто вписывалась в эти региональные ограничения, но и непосредственно относилась к владельцам бизнеса, которым было необходимо консолидированное обслуживание и их бизнеса, и их состояния. И большинство дискуссий на предкризисных конференциях по российскому privat’у весной – летом 2008 г. были посвящены именно данному вопросу: «А, собственно, где же наш российский VIP-клиент, обеспечивающий развитие нашего бизнеса, и кто он?». Ну а затем – увы – наступил кризис, и об этом просто забыли! Однако важен не просто прецедент, а то, что рано или поздно мы все равно заговорим об этом, только сначала об этом упомянет не западный privat, а потом и отечественный (как это было до кризиса), а наоборот, ведь как раз в России мы и развиваем сейчас подобную идеологию!
К тому же пока мы развиваем ее, ограничиваясь Россией, мы формируем для западников весьма эффективный защитный барьер. У нас появляется преемственность почти двадцатилетнего ведения бизнеса, который начинался как программа корпоративной лояльности и во многом продолжает оставаться таким и поныне. Его отличительной особенностью помимо консолидированного обслуживания бизнеса и состояния является как раз наличие апробированных, качественных сервисов для обеспечения статусного стиля жизни своего VIP-клиента (те же различные консьерж-сервисы и программы life style management, или LSM, теперь постепенно превращающиеся в своеобразные продукты-локомотивы), которые сейчас могут эффективно дополнить любую такую программу корпоративной лояльности: ведь даже занятым свои бизнесом VIP’ам необходимо обеспечить подобный сервис здесь, на месте, у нас. И этого нам вполне достаточно, чтобы всерьез конкурировать с традициями Запада на своей территории. Как было сказано на одной из конференций: теперь я больше могу не бояться того человека с ружьем, из западного privat’а, у которого на штыке виднеется лозунг «Двести следующих лет с состоятельными клиентами». Эти двести лет – все там, а здесь у меня опыт, хотя и в десять раз меньше, но у таких признанных грандов европейского и мирового privat’а этого нет вообще!
Остается лишь утвердить это преимущество, причем у нашей новой волны для этого вполне достаточный срок. И дело не в том, что в ближайшие десять лет мы по прежнему неинтересны Западу, поскольку наши VIP’ы по-прежнему не будут входить в число целевых клиентов его privat’а. Через те же десять лет средний возраст нашего VIP’а, который является собственником бизнеса, станет уже критическим, и он начнет задумываться об уходе на покой. А значит, ему понадобятся именно те продукты и услуги, которые сейчас отечественный privat если и развивает, то не как приоритетные, полагаясь в этом на опыт своих контрагентов, в первую очередь западных, фактически уступая им своего клиента. Но даже если и не уступать им его, то отечественный privat проигрывает здесь в рамках идеологии: открытая архитектура позволяет при минимальной адаптации внедрить соответствующий продуктовый ряд непосредственно у себя, но это продуктовый ряд западного privat’а. А значит, когда появится вполне осознанный и сформировавшийся спрос на подобные продукты и услуги, их непосредственный разработчик сможет просто забрать себе наших клиентов! Впрочем, у нас если не десять, то уж пять лет есть, и внести свою специфику в этот продуктовый ряд, так, чтобы западный privat не смог с нами конкурировать, мы сможем: раньше-то это всегда нам удавалось! Да и мешать эти конкуренты нам опять не будут.
Поэтому практически не вызывает вопросов то, что собираются реализовать лидеры новой волны уже в ближайшей перспективе. В самом деле, сейчас не стоит так уж бездумно рассчитывать на привлечение сразу во всех категориях VIP-клиентов. Право слово, целевые клиенты в верхней части пирамиды состоятельности, готовые разово, на год разместить в вашем банке порядка 40–50 млн дол. личных средств и более, обладают суммарным состоянием, легко позволяющим им приобрести собственный банк или финансовую компанию (а тем более на паях вместе со своими ближайшими друзьями), которая обеспечит им эффективное управление их собственным капиталом. И этих VIP-клиентов будет вполне достаточно, хотя новые VIP’ы им, безусловно, не помешают. В любом случае зачем здесь мы, когда клиентам можно нанять весьма квалифицированного независимого управляющего? Лишь в редких случаях можно надеяться на их привлечение: наш большой опыт и имя на рынке, или нам просто повезло – наш банк по дороге домой и одному из акционеров такие клиенты доверяют лично. Лучше сразу признать, что мы не можем гарантировать привлечение таких VIP-клиентов, на что так рассчитывает руководство банков, не замечающее, что такие клиенты приходят в банк благодаря ему и обслуживаются также благодаря таким кураторам – одного и того же бизнес-круга с ними. А ведь это справедливо и для менее состоятельных VIP-клиентов!
К тому же российские состоятельные лица сейчас четко диверсифицируют страновые риски. Например, за год после кризиса тот клиент, который хотел закрыть позицию, это фактически сделал: он уже продал свой бизнес или уже непосредственно выводит всю получаемую прибыль за границу, готовясь к продаже. Он потерян для нас – он формирует свою кредитную историю, и на обслуживание такого клиента не стоит рассчитывать – его вполне утраивают, может, и не столь представительные, но с его точки зрения вполне надежные продукты и услуги представительств западных банков в России, в том числе и по направлению privat’а. Российская специфика его уже мало прельщает, разве что мы со своей стороны предложим ему своего западного контрагента. Но рано или поздно он полностью сделает выбор в пользу полного обслуживания, в том числе и в России, его самого западными банками, и только ими, так что этого клиента мы все равно потеряем.
Приходится просто забыть про этих клиентов, просто уступив их иностранным банкам, вернее, их privat’у. Мы отказываемся от клиента, которому не можем обеспечить там, на Западе, тот сервис, к которому он уже привык у нас в России. Нас там нет, и ему не стоит рассчитывать на особые условия и тем более на российскую специфику. Как я уже сказал, можно лишь подобрать контрагента из числа западных банков, который здесь в сотрудничестве с нами как предыдущим банком клиента сделает этот переход менее болезненным. Только здесь мы можем хоть как-то помочь своим клиентам, сохраняя с ними хорошие отношения на будущее, а в рамках установления долгосрочных отношений – это не лишнее, вдруг в будущем этот клиент вспомнит о нас, когда у него возникнет проблема. Мы все равно потеряем клиента, так давайте таким образом здесь поддержим собственную высокую репутацию среди нынешних клиентов и заодно хоть что-то заработаем на самом уходе клиента!
Абсолютно бессмысленно конкурировать с западными игроками за российского клиента, если он выбирает именно западный privat! И дело не в тех банках, которые декларируют, что они также эффективно готовы работать и следующие 200 лет с теми же состоятельными клиентами. В конце концов, этих банков-бутиков, составляющих основу западного privat’а и придерживающихся индивидуального, персонализированного подхода к каждому состоятельному клиенту и к каждой его операции, не так уж и много. Но реальных конкурентов, готовых побороться за российского состоятельного клиента, не столь избалованного вниманием западных банкиров, после кризиса гораздо больше. Ведь несмотря на то что мы уже упоминали о том, что они не являются целевыми клиентами, речь идет о новом клиенте, которого не надо привлекать самим, вынуждая его покинуть его нынешний региональный банк в другой стране. Этот клиент уже сделал свой выбор и просто выбирает конкретный западный банк, соглашаясь на то, что его прошлая специфика обслуживания уже не столь важна! А здесь за него готовы побороться многие! Возьмите еще от 2009 г. аудит европейского privat’а от немецкой исследовательской фирмы Fuchsbriefe. «Тайный покупатель» с российской легендой не вызвал никакого удивления, и подавляющее большинство из более чем 100 аудируемых банков не только смогли предложить ему адекватные его запросам услуги, но и сделали это на весьма качественном и конкурентоспособном уровне!
Именно поэтому в большей степени стоит ориентироваться на тех VIP-клиентов, которые связывают свое ближайшее будущее как раз с Россией, даже если затем они собираются переехать на Запад. Ничего удивительного в последнем нет: средний возраст большинства таких состоятельных клиентов-бизнесменов в ближайшие пять-десять лет приблизится к пенсионному, когда такие предпочтения оправданны. Максимум, что мы можем здесь сделать, – это помочь им в этом, подобрав соответствующих контрагентов, а пока им стоит предложить консолидированный VIP-сервис с одновременным обслуживанием и их состояния (как VIP-клиента отечественного privat’а), и их бизнеса. Именно здесь российские банки могут не только обеспечить своим VIP’ам преемственность сервиса, но и гарантировать его высокое качество в ближайшей перспективе.
Только для примера эффективной работы именно клуба, а не модели универсального банка здесь рассмотрим один из наиболее приоритетных вопросов обеспечения стабильного развития бизнеса банка в целом – проблему кредитования и перекредитования клиентских бизнесов (не только на пике кризиса, но и сейчас) – и даже в рамках прямой покупки-продажи бизнесов, не ограничиваясь продуктовым рядом корпоративного блока банка. Так, еще до кризиса банки – лидеры российского privat’а, использующие модель клиентского клуба[4], прекрасно понимали, что в области управления портфельными активами им трудно конкурировать с инвестиционными компаниями и западными банками, не говоря уже об отечественных конкурентах с универсальной моделью. Поэтому они, развивая закрытую клубную схему обслуживания (где клиенты не только прекрасно знали друг друга лично, но и понимали специфику ведения бизнеса других членов такого клиентского VIP-клуба privat’а, например принадлежа к одной и той же бизнес-среде), постепенно стали предлагать своим VIP’ам продукты в области прямого инвестирования. Обычно это были инвестиции в отдельные бизнес-проекты банка, проекты собственников банка и других VIP-клиентов, например для краткосрочного кредитования бизнес-проектов клиентов клуба, и не только напрямую, но и на условиях синдикации с банком или другими VIP’ами клуба. Важно было то, что такие проекты были более доходны, чем портфельное инвестирование на фондовом рынке, и косвенно были даже гарантированы клубом для его членов. Ведь принадлежа к той же бизнес-среде, VIP-клиент изначально более наглядно представлял и оценивал все связанные с подобным проектом риски, приобретая инвестиционный продукт, где портфельное инвестирование, по сути, было заменено проектным финансированием. А сам privat, используя интерес VIP’а к такому инвестированию, успешно позиционировал свои продукты по синдикации, используя для этого не столько технологии обслуживания, сколько фактор знания клиентом своего бизнеса и того бизнеса, в который ему и предлагалось инвестировать свободные средства.
В кризис такие решения оказались наиболее востребованы членами клуба, которые прекрасно понимали, насколько перспективны инвестиции в конкретные проекты и кто именно из потенциальных заемщиков нуждается в подобном кредитовании и прямом финансировании, вплоть до готовности уступить свой бизнес по приемлемой цене, а также насколько эта операция была бы рискованной и почему. Здесь любой из VIP’ов осознавал, что выжить со своим бизнесом он может лишь в рамках клуба, где ему может быть предоставлен оперативный кредит и не только банком, но и такими же, как он сам, VIP’ами, которые обладали на тот момент свободными ресурсами и могли его профинансировать, достаточно хорошо понимая, под что именно они выделяют средства и как конкретно будет осуществляться контроль за их расходованием, чтобы их кредит не пропал втуне. К тому же и комиссии были не так высоки, как у других банков: всегда был выбор из предложений других членов клуба, а значит, и конкуренция среди потенциальных кредиторов. Да и сам банк понимал, что его устойчивость определяется стабильностью бизнеса его VIP’ов, и старался поддерживать их, выступая в качестве такого же оперативного кредитора, впрочем, отнюдь не забывавшего и о своей выгоде.
К середине прошлого года, когда пережившие пик кризиса члены клуба не только успешно реструктуризировали свои активы, но и смогли заработать на помощи менее удачливым партнерам, задача дальнейшего развития бизнеса этого нового ядра клиентской базы VIP’ов privat’а стала решаться тем же проверенным способом – через клуб. Ведь VIP’ы прекрасно видели, что именно им необходимо предпринять: от каких активов избавляться, кто именно и по какой цене их может приобрести, что конкретно стоит сохранить, а что приобрести и тем более у кого из потенциальных продавцов. Вся персонификация нивелировалась фактором принадлежности к одной и той же бизнес-среде и априорным доверием к своему контрагенту, такому же VIP-клиенту privat’а, для которого собственная репутация внутри клуба оставалась значимой. Да и сам банк продолжал поддерживать своих VIP’ов, например, финансируя их кассовые разрывы или кредитуя и даже принимая в залог, а также под непосредственное управление их активы.
Более того, в прошлом году уже многие privat’ы, использующие схему клуба, постепенно стали возвращаться к тому, чтобы предлагать своим VIP’ам прямые инвестиции в бизнес как инвестиционные продукты. И именно такое предложение оказалось не просто востребованным, но и весьма эффективным для дальнейшего развития схемы клиентского клуба в отечественном privat’е. Ведь основными целевыми покупателями таких непрофильных для VIP’ов клуба бизнесов при этом становятся уже не столько члены клуба, сколько клиенты, которые до этого вообще не обслуживались в этом privat’е и банке. Что неудивительно, ведь на фоне недостатка инвестиционных продуктов становится значимой косвенная гарантия клиентского клуба по этому продукту, а это не просто привлекательно для его потенциальных покупателей, но и заставляет их задуматься о переходе на обслуживание в такой клуб из своего текущего privat’а. И это еще притом, что для самих VIP’ов здесь заметно повышается и ликвидность их бизнесов, теперь весьма привлекательных и для других покупателей за рамками клуба!
И не воспользоваться такими докризисными наработками было бы неразумно, особенно для обслуживания немосковских клиентов, чей спрос на подобное обслуживание сейчас заметно растет. Особенно в модели «20–25», согласно которой общий объем рынка российского privat’а различные эксперты оценивают сейчас в 20–25 млрд дол., а темпы роста на уровне 20–25 % в год. И хотя это весьма консервативные оценки, за этот кусок стоит побороться. С учетом того, что те же эксперты считают, что эти состоятельные лица доверяют финансовым институтам лишь 20–25 % своих сбережений, появляются и новые возможности: упомянутые наработки автоматически повышают лояльность клиента, а лояльность в свою очередь увеличивает и общую долю сбережений под управлением конкретного банка. Причем именно российского, из новой волны!
3
Гусев А.И. Отечественный рынок private banking: новые возможности, но старые игроки // Банковский ритейл. 2010. № 3. С. 59–65.
4
Гусев А.И. «Клиентский клуб» вместо конвейера // Национальный банковский журнал. 2008. № 11. С. 55–57.