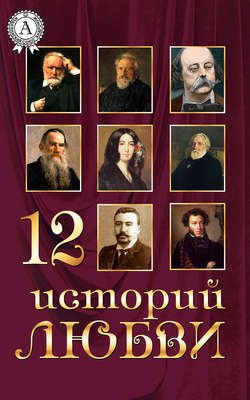Читать книгу 12 историй о любви - Коллектив авторов - Страница 73
Лев Толстой. Анна Каренина
Часть первая
XI
ОглавлениеЛевин выпил свой бокал, и они помолчали.
– Одно еще я тебе должен сказать. Ты знаешь Вронского? – спросил Степан Аркадьич Левина.
– Нет, не знаю. Зачем ты спрашиваешь?
– Подай другую, – обратился Степан Аркадьич к татарину, доливавшему бокалы и вертевшемуся около них, именно когда его не нужно было.
– Зачем мне знать Вронского?
– А затем тебе знать Вронского, что это один из твоих конкурентов.
– Что такое Вронский? – сказал Левин, и лицо его из того детски-восторженного выражения, которым только что любовался Облонский, вдруг перешло в злое и неприятное.
– Вронский – это один из сыновей графа Кирилла Ивановича Вронского и один из самых лучших образцов золоченой молодежи петербургской. Я его узнал в Твери, когда я там служил, а он приезжал на рекрутский набор. Страшно богат, красив, большие связи, флигель-адъютант и вместе с тем – очень милый, добрый малый. Но более, чем просто добрый малый. Как я его узнал здесь, он и образован и очень умен; это человек, который далеко пойдет.
Левин хмурился и молчал.
– Ну-с, он появился здесь вскоре после тебя, и, как я понимаю, он по уши влюблен в Кити, и ты понимаешь, что мать…
– Извини меня, но я не понимаю ничего, – сказал Левин, мрачно насупливаясь. И тотчас же он вспомнил о брате Николае и о том, как он гадок, что мог забыть о нем.
– Ты постой, постой, – сказал Степан Аркадьич, улыбаясь и трогая его руку. – Я тебе сказал то, что я знаю, и повторяю, что в этом тонком, нежном деле, сколько можно догадываться, мне кажется, шансы на твоей стороне.
Левин откинулся назад на стул, лицо его было бледно.
– Но я бы советовал тебе решить дело как можно скорее, – продолжал Облонский, доливая ему бокал.
– Нет, благодарствуй, я больше не могу пить, – сказал Левин, отодвигая свой бокал. – Я буду пьян… Ну, ты как поживаешь? – продолжал он, видимо желая переменить разговор.
– Еще слово: во всяком случае, советую решить вопрос скорее. Нынче не советую говорить, – сказал Степан Аркадьич. – Поезжай завтра утром, классически, делать предложение, и да благословит тебя Бог…
– Что ж ты все хотел на охоту ко мне приехать? Вот приезжай весной на тягу, – сказал Левин.
Теперь он всею душой раскаивался, что начал этот разговор со Степаном Аркадьичем. Его особенное чувство было осквернено разговором о конкуренции какого-то петербургского офицера, предположениями и советами Степана Аркадьича.
Степан Аркадьич улыбнулся. Он понимал, что делалось в душе Левина.
– Приеду когда-нибудь, – сказал он. – Да, брат, женщины – это винт, на котором все вертится. Вот и мое дело плохо, очень плохо. И все от женщин. Ты мне скажи откровенно, – продолжал он, достав сигару и держась одною рукой за бокал, – ты мне дай совет.
– Но в чем же?
– Вот в чем. Положим, ты женат, ты любишь жену, но ты увлекся другою женщиной…
– Извини, но я решительно не понимаю этого, как бы… все равно как не понимаю, как бы я теперь, наевшись, тут же пошел мимо калачной и украл бы калач[43].
Глаза Степана Аркадьича блестели больше обыкновенного.
– Отчего же? Калач иногда так пахнет, что не удержишься.
Himmlisch ist’s, wenn ich bezwungen[44]
Meine irdische Begier;
Aber doch wenn’s nicht gelungen,
Hatt’ich auch recht hubsch Plaisir![45]
Говоря это, Степан Аркадьич тонко улыбался. Левин тоже не мог не улыбнуться.
– Да, но без шуток, – продолжал Облонский. – Ты пойми, что женщина, милое, кроткое, любящее существо, бедная, одинокая и всем пожертвовала. Теперь, когда уже дело сделано, – ты пойми, – неужели бросить ее? Положим: расстаться, чтобы не разрушить семейную жизнь; но неужели не пожалеть ее, не устроить, не смягчить?
– Ну, уж извини меня. Ты знаешь, для меня все женщины делятся на два сорта… то есть нет… вернее: есть женщины, и есть… Я прелестных падших созданий не видал[46] и не увижу, а такие, как та крашеная француженка у конторки, с завитками, – это для меня гадины, и все падшие – такие же.
– А евангельская?
– Ах, перестань! Христос никогда бы не сказал этих слов, если бы знал, как будут злоупотреблять ими. Изо всего Евангелия только и помнят эти слова. Впрочем, я говорю не то, что думаю, а то, что чувствую. Я имею отвращение к падшим женщинам. Ты пауков боишься, а я этих гадин. Ты ведь, наверно, не изучал пауков и не знаешь их нравов: так и я.
– Хорошо тебе так говорить; это все равно, как этот диккенсовский господин[47], который перебрасывает левою рукой через правое плечо все затруднительные вопросы. Но отрицание факта – не ответ. Что же делать, ты мне скажи, что делать? Жена стареется, а ты полон жизни. Ты не успеешь оглянуться, как ты уже чувствуешь, что ты не можешь любить любовью жену, как бы ты ни уважал ее. А тут вдруг подвернется любовь, и ты пропал, пропал! – с унылым отчаянием проговорил Степан Аркадьич.
Левин усмехнулся.
– Да, и пропал, – продолжал Облонский. – Но что же делать?
– Не красть калачей.
Степан Аркадьич рассмеялся.
– О моралист! Но ты пойми, есть две женщины: одна настаивает только на своих правах, и права эти твоя любовь, которой ты не можешь ей дать; а другая жертвует тебе всем и ничего не требует. Что тебе делать? Как поступить? Тут страшная драма.
– Если ты хочешь мою исповедь относительно этого, то я скажу тебе, что не верю, чтобы тут была драма. И вот почему. По-моему, любовь… обе любви, которые, помнишь, Платон определяет в своем «Пире»[48], обе любви служат пробным камнем для людей. Одни люди понимают только одну, другие другую. И те, что понимают только неплатоническую любовь, напрасно говорят о драме. При такой любви не может быть никакой драмы. «Покорно вас благодарю за удовольствие, мое почтенье», вот и вся драма. А для платонической любви не может быть драмы, потому что в такой любви все ясно и чисто, потому что…
В эту минуту Левин вспомнил о своих грехах и о внутренней борьбе, которую он пережил. И он неожиданно прибавил:
– А впрочем, может быть, ты и прав. Очень может быть… Но я не знаю, решительно не знаю.
– Вот видишь ли, – сказал Степан Аркадьич, – ты очень цельный человек. Это твое качество и твой недостаток. Ты сам цельный характер и хочешь, чтобы вся жизнь слагалась из цельных явлений, а этого не бывает. Ты вот презираешь общественную служебную деятельность, потому что тебе хочется, чтобы дело постоянно соответствовало цели, а этого не бывает. Ты хочешь тоже, чтобы деятельность одного человека всегда имела цель, чтобы любовь и семейная жизнь всегда были одно. А этого не бывает. Все разнообразие, вся прелесть, вся красота жизни слагается из тени и света.
Левин вздохнул и ничего не ответил. Он думал о своем и не слушал Облонского.
И вдруг они оба почувствовали, что хотя они и друзья, хотя они обедали вместе и пили вино, которое должно было бы еще более сблизить их, но что каждый думает только о своем и одному до другого нет дела. Облонский уже не раз испытывал это случающееся после обеда крайнее раздвоение вместо сближения и знал, что надо делать в этих случаях.
– Счет! – крикнул он и вышел в соседнюю залу, где тотчас же встретил знакомого адъютанта и вступил с ним в разговор об актрисе и ее содержателе. И тотчас же в разговоре с адъютантом Облонский почувствовал облегчение и отдохновение от разговора с Левиным, который вызывал его всегда на слишком большое умственное и душевное напряжение.
Когда татарин явился со счетом в двадцать шесть рублей с копейками и с дополнением на водку, Левин, которого в другое время, как деревенского жителя, привел бы в ужас счет на его долю в четырнадцать рублей, теперь не обратил внимания на это, расплатился и отправился домой, чтобы переодеться и ехать к Щербацким, где решится его судьба.
43
…пошел мимо калачной и украл бы калач. – В «Отечественных записках» за 1866 г. в статье М. Стебницкого (Н. Лескова) «Русский драматический театр в Петербурге», посвященной нашумевшей пьесе Н. Чернявского «Гражданский брак», «свободная любовь» сравнивалась с воровством.
44
Himmlisch ist’s, wenn ich bezwungen… – Куплет из оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь» (1874).
45
Великолепно, если я поборол // Свою земную страсть; // Но если это и не удалось, // Я все же испытал блаженство! (нем.)
46
Я прелестных падших созданий не видал… – Из пушкинского «Пира во время чумы». У Пушкина: «Прелестное, но падшее созданье» (слова Вальсингама).
47
…Это все равно, как этот диккенсовский господин… – Речь идет о герое романа Диккенса «Наш общий друг» мистере Подснепе, который «даже выработал себе особый жест: правой рукой он отмахивался от самых сложных мировых вопросов (и тем совершенно их устранял) – с этими самыми словами и краской возмущения в лице. Ибо все это его оскорбляло» (Ч. Диккенс. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 24. М., 1962, с. 158).
48
…обе любви, которые… Платон определяет в своем «Пире». – Платон (427–347 гг. до н. э.) в «Симпозионе» («Пире») утверждает, что есть два рода любви, как и две Афродиты: любовь земная, чувственная (Афродита-Пандемос), и любовь небесная, свободная от чувственных желаний (Афродита-Урания) (Сочинения Платона, ч. IV. СПб., 1863, с. 162). По имени старшей «чистая» любовь получила название «небесной» или «платонической».