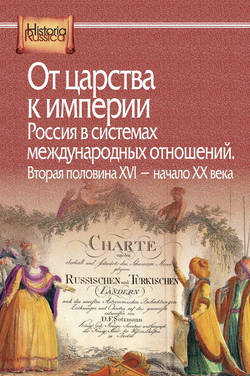Читать книгу От царства к империи. Россия в системах международных отношений. Вторая половина XVI – начало XX века - Коллектив авторов - Страница 6
Глава первая
Русское государство в системе межгосударственных договоров в 70-х – начале 80-х гг. XVI в. (А. В. Виноградов)
Крымская карта в отношениях с Речью Посполитой
ОглавлениеПребывание датского посольства совпало с резкой активизацией попыток Москвы урегулировать отношения с Крымом. После кончины хана Девлет-Гирея I летом 1577 г. отношения Крыма и Русского государства были неопределенными. Положение на престоле нового хана Мухаммед-Гирея II (1577–1584) изначально оставалось неустойчивым, продолжался его конфликт с братьями, получивший в историографии название как «…кризис наследования ханской власти в Крыму в 1577–1588 гг.»[75]. К концу 1577 г. в Бахчисарае с посланником Е. Л. Ржевским договорились об обмене «большими послами» с целью заключения договора.
На возобновление попыток Москвы добиться мирного соглашения с Бахчисараем повлияло резкое обострение отношений Русского государства с Речью Посполитой. Как известно, оба государства с начала 1578 г. стремились привлечь Крым на свою сторону. Иван Грозный предполагал осуществить посольский размен еще в январе-феврале 1578 г. в момент пребывания в Москве польско-литовского посольства, но крымское посольство вернулось обратно. Посольский размен был совершен только в августе 1578 г. В Крым двинулось посольство князя В. В. Масальского, в Москву – посольство Араслана-мурзы Яшлавского («Сулешева»). Посольство князя Масальского везло в Бахчисарай русский проект договора, который рассмотрен А. И. Филюшкиным[76]. Его выводы нуждаются в некоторых уточнениях. Филюшкин верно отмечает, что в данном документе «в отличие от проектов договоров 1563–1564 гг. опущен пункт о союзе против литовского короля». Но отсутствие этого пункта возмещается устными инструкциями данными посольству. Совершенно справедливо А. И. Филюшкин отметил фрагмент, «где Россия берет на себя обязательство не нападать на татарские улусы, причем в этих нападениях не должны участвовать “ливонские люди”, а которые твои воеводы и ливонские люди без твоего ведома нашу землю и улусы повоюют»[77]. Но тем не менее, утверждение Филюшкина о том, что данном случае речь шла о признании Крымом де-юре в случае принесения ханом шерти «вхождения Ливонии в состав России» далеко не бесспорна.
На наш взгляд, упоминание о «ливонских людях» должно было продемонстрировать прочность позиций Москвы в Ливонии. Интересно, что в Москве предусматривали возможность требований крымской стороны о внесении в «шертную грамоту» пункта о том, «чтоб на его улусы царя и великого князя людям войною не приходити ни казанским ни астроханским людям и прочим… и казакам не приходити»[78]. Послам предписывалось «не конкретизировать принадлежность государевых людей» а пункты о казаках отвергнуть, ссылаясь на обычаи писать «грамоты по старине»[79]. Правительство Ивана Грозного, где важную роль в это время играл бывший посол в Крыму А. Ф. Нагой учитывало при отправлении посольства князя Масальского сложности заключения договора с Крымом.
В посольских «речах» содержалась предложенная русской стороной следующая церемония утверждения нового договора: «Ты бы брат нащ велел о добром деле договор учинить и о крепкой дружбе утвердити и шерть бы еси сам бы брат наш в головах и брат твой калга Адыл-Кирей царевичь и иные твои братья царевичи и дети твои царевыичи и каречеи и князья и уланы и все твои приближенные люди на шертной грамоте учинили каков список с шертной грамоты мы к тебе прислали с послом своим со князем Василием и ты бы брат наш с того списка написать велел шертную грамоту и к той шертной грамоте свой золотой нишан велел подвесить и послал бы еси своего доброго человека и с ним вместе нашего посла князя Василия с товарищами отпустив и шертную грамоту к нам прислал и как будет у нас твой посол и мы перед твоим послом тебе брату своему по прежнему обычаю правду учиним и посла своего со своею грамотою с золотой печатью с ним вместе отпустим с великими поминками»[80].
Но это была идеальная схема заключения договора трудно осуществимая на практике. На самом деле в Москве не сомневались, что в русский текст договора крымская сторона неизбежно внесет изменения. Характер этих изменений и степень уступок определялись в «наказной памяти» посольству Масальского с учетом практики переговоров о заключении договора проведенных в Крыму посольством Нагого в 60-х гг. «Наказная память» разрабатывалась в августе-сентябре 1578 г. и, как отметил Филюшкин, неоднократно корректировалась по мере нарастания неуверенности русского правительства в том, что хан не ведет «двойную игру»[81].
Так категорически предписывалось препятствовать традиционным уловкам крымской стороны к немедленной ратификации договора. Русским послам следовало обратить особое внимание на то, как именно «царь похочет к шертной грамоте нишан золотой привесить»[82]. Он должен был «по старине» подвешен «снизу». В Москве знали и такую уловку крымской стороны как «написать» на «золотом нишане» «тамгу», т. е. лаконично исполненный родовой и государственный знак тюркских и монгольских правителей. В этом случае «золотой нишан» был равнозначен «алому нишану», и договор считался немедленно вступившим в силу. Посольству Масальского были даны на этот счет развернутые инструкции. Рекомендовалось тщательно проверять полную идентичность противней, отправляемых в Москву и оставляемых в Крыму. В «наказной памяти» повторялся категорический отказ брать «не такову грамоту какову шертную грамоту взяти мне велено»[83].
Особенно тщательно надлежало сверять списки городов, входивших в зону безопасности на рубежах страны, т. е. тех мест на которые крымская сторона обязывалась не совершать нападений. Как уже говорилось должны быть отвергнуты требования крымской стороны внести в договор вопрос о казаках в плане обязательства Москвы препятствовать их нападений на крымские улусы, так как «в прежних грамотах про казаков именно не написано». Как и прежде отвергалось русской стороной всякое упоминание в договоре о пресловутых «поминках». В целом следовало исходить из того, что «какова шертная грамота (в Москве. – А. В.) написана и с нею противень (должен быть. – А. В.) послан»[84].
В Москве придавали важное значение вопросу о титулатуре. Русский проект содержал следующий порядок: «Великой Орды великого царя Магмет Киреево слово с своим братом со царем и великим князем Иваном Васильевичом всеа Русии от сего дня быти нам…»[85]. В «наказной памяти ««посольству князю В. В. Масальскому» была предусмотрена ситуация когда в крымском противне хан «захочет писати великого князя Ивана Васильевича всеа Русии», т. е. без царского титула[86]. Русским послам было предписано «стояти накрепко» с тем, чтобы «царь царским именем писати в шертной грамоте»[87]. При этом предусматривался и вариант отказа русской стороны от заключения договора[88].
В целом русский проект договора лежал в русле прежних традиций. Как и в проекте 1563 г. содержалась формулировка: «Тот то кто мне друг тот и тебе друг, кто мне недруг тот и тебе недруг». Сохранялась формулировка «не воевати» «мне Магмет-Кирею царю и моему брату калге (наследнику ханского престола. – А. В.) Адыл-Кирею царевичю и братьем моим царевичам и детям моим царевичам и каречеем и князьям и мурзам и казакам и всем нашим людям ближним и дальним и всем нашим донским людям твоих брата нашего царя и великого князя земель»[89]. Далее следовало: «мне царю Магмет-Кирею, и брату моему царевичу Адыл-Гирею, и иным моим братьям царевичаем и моим детям царевичем и карачеем и моим и уланам и князем и мурзам и казакам и всем ближним людем и дальнем и всяким воинским людемтвоих брата моего царя и великого князя Ивана украинных городов не воевать»[90]. Далее следовал список «украйных городов»: Путивль, Рыльск, Новгород-Северский, Стародуб, Чернигов. Почеп Трубчевск, Брянск, Карачеев, Козельск, Белев, Одоев, Мценск, Тула, Дедилов, Новосиль, Плова (Плавск) Солова, Михайлов, Пронск, Донков, Ряжск, причем все города перечислялись по конкретным «украйнам». Особый раздел в наказной памяти содержал инструкции относительно поведения во время принесения ханом «шерти». Необходимо было следить, чтобы «царь куран поцеловал» и чтобы его клятва была точно «слово в слово» переведена толмачем[91].
Вступление в силу договора должно было осуществиться «по старине» – после нового посольского обмена, в ходе которого будет осуществлено «крестоцелования» государя и окончательное «шертование» хана… Отметим, что Иван Грозный испытывал, как оказалось не вполне обоснованную уверенность в том, что хан пойдет на «шертование». Между тем переговоры с посольством А. Яшлавского («Сулешева») ознаменовались возобновлением крымских требований об уступке Астрахани, как условии заключения договора. Крым действительно вел «двойную игру» – почти одновременно с отправлением посольства в Москву во Львов для переговоров со Стефаном Баторием отправилось посольство Ибрагима Белецкого (польский шляхтич, перешедший на службу хану).
Там в сентябре 1578 г. при посредничестве Порты было достигнуто предварительное соглашение о заключении в Бахчисарае союзного договора Крыма с Речью Посполитой, для чего в Бахчисарай отправлялось посольство М. Брониевского. При этом Стефан Баторий рассчитывал с помощью союзного договора вовлечь Крым в войну против Русского государства, а Порта стремилась урегулировать отношения Крыма с Речью Посполитой с тем, чтобы крымская орда двинулась в поход против Ирана, война османов с которым уже начиналась. В этих условиях хан одновременно отказался от заключения в Бахчисарае договора и с посольством кн. В. В. Масальского и с польским посольством М. Брониевского. При этом формально переговоры с обеими послами были приостановлены в связи с отбытием хана на персидский фронт.
Таким образом, попытка сделать Крым союзником фактически завершились неудачей для обеих сторон. Однако вплоть до начала войны между Речью Посполитой и Русским государством летом 1579 г. и при дворе Стефана Батория и при дворе Ивана Грозного предполагали заручиться обещанием крымских нападений на «украйны» противника либо, сохранением «дружественного нейтралитета» со стороны хана Мухаммед-Гирея II. Подобные надежды существовали и в 1579–1580 гг., о чем свидетельствуют инструкции, даваемые обеими сторонами своим задержанным в Крыму посольствам. Эти надежды рухнули только с началом летом 1581 г. как раз в момент начала третьей кампании Батория против Русского государства. Открытая вооруженная борьба в Крыму между ханом и его братьями Алп-Гиреем и Селамет-Гиреем создала принципиально новую ситуацию превратив Крымское ханство в фактор нестабильности и неопределенности для обеих сторон.
Мятежные «царевичи» бежали на территорию Речи Посполитой и обратились за военной поддержкой к Стефану Баторию (июль 1581 г.). В конфликт вмешалась Порта – один за другим в королевский лагерь под Псковом, а затем в Вильно прибывали османские эмиссары с требованием отправить «царевичей» в Стамбул. Со своей стороны хан Мухаммед-Гирей II требовал вернуть братьев в Крым. В конечном итоге в феврале 1582 г. оба Гирея были отправлены в Стамбул с посольством И. Филипповского. В этих условиях не могло быть и речи о крымско-польско-литовском союзном договоре против Москвы. Однако осенью 1578 г. ни король Стефан Баторий, ни царь Иван Грозный не могли предполагать такого развития событий и рассчитывали использовать крымский фактор.
Между тем именно осенью 1578 г. появились признаками грядущих осложнений с Речью Посполитой – первые свидетельства того, что ратификация московского договора пройдет далеко не гладко. 30 августа 1578 г. в Александровскую слободу прибыл королевский гонец Петр Гарабурда, отправленный в марте 1578 г. из Варшавы, т. е. еще до возвращения польско-литовского посольства[92]. Там только что закончился сейм принявший решение начать войну с Русскими государством, если переговоры польско-литовского посольства в Москве не приведут к уступкам со стороны Ивана Грозного.
В послании, выдержанном в осторожных, но жестких тонах, Стефан Баторий давал понять, что если Москва продолжит наступательные действия в Ливонии, перемирие не будет ратифицировано[93]. Ознакомившись с документом, Иван Васильевич распорядился задержать посла и отправить его в Боровск. Когда стало ясно, что ратификации московского договора королем не будет, Иван Грозный после аудиенции отпустил посла в январе 1579 г. со своим посланием к королю, требуя отпустить его послов, но это не смогло изменить ситуацию. Ратифицировать заключенный в Москве договор должно было посольство в составе Михаила Долматовича Карпова, Петра Ивановича Головина и дьяка Тараса-Курбата Григорьевича Грамотина, которое выехало из Москвы 16 мая 1578 г.[94]
Посольство снаряжалось почти месяц – «приговор» о его отправлении зафиксирован 20 апреля 1578 г.[95] Иван Грозный надеялся «обрадовать» короля посольским разменом с Крымом, и послы должны были информировать польско-литовскую сторону, что он произойдет в самое ближайшее время. Возможность союза Речи Посполитой с Крымом рассматривалась в Москве как реальная угроза. «Наказная память» «…посольству помимо всего прочего требовала “проведовати о ссылках” Батория с Крымом и султаном»[96]. Вообще инструкции послам свидетельствуют о том, что руководители русской дипломатии видели трудности с ратификацией польско-литовской стороной московского договора, хотя и не предполагали безоговорочного отказа.
Между тем Стефан Баторий, который с мая находился во Львове, ожидая крымское посольство и османских эмиссаров (чавушей), явно ставил прием послов в зависимость от исхода переговоров с крымцами и османами. Поэтому он предписал затягивать следование посольства, о чем, в частности, свидетельствует указной лист, отправленный из Львова 3 июня 1578 г. литовским приставам маршалку господарскому Дмитрию Скумину Тышкевичу и тивуну и городничему Троцкому Мартину Стравицкому[97]. Первоначально король предполагал принять послов в Люблине после возвращения из Львова, затем рассматривалась возможность доставить послов во Львов после завершения переговоров там с османами и крымцами[98] Затягивая переговоры, король вообще отложил прием послов на неопределенное время.
В пути умер посол М. Д. Карпов и руководство дипломатической миссией перешло к П. И. Головину. Стефан Баторий оттягивал прием посольства и после завершения львовских переговоров. Даже когда они закончились, послы были не допущены к королю. Сами русские дипломаты прекрасно понимали суть происходившего. «А ис под Львова король пошел а Краков, а в Кракове стоял долго и послов московских для того держал, дожидался своего посла как из Крыма приедет, а до тех пор как его посол из Крыма приедет послам московским у него не бывати», – информировали приставы русских дипломатов[99].
Аудиенция послов у короля в Кракове 5 декабря 1578 г. в присутствии объединенного («спольного) сената Речи Посполитой закончилась отказом короля ратифицировать заключенный в Москве договор о продолжении перемирия[100]. Переговоров с послами не вели и 11 декабря они выехали из Кракова, но их пребывание в Речи Посполитой затянулось до лета. Стефан Баторий упорно задерживал послов: он выжидал возвращения своих посольств из Крыма и Стамбула, ответа на свои демарши в Стокгольме, словом – исхода всех предпринятых действий по дипломатической подготовке войны с Русским государством. Формально послы следовали за королем из Кракова к Вильно для проведения отпускной аудиенции на территории Великого княжества.
Затянувшееся пребывание послов в Великом княжестве Литовском, (в Кракове им не вручили даже письменного «ответа») завершилось краткими переговорами в Вильно 10 июня 1579 г. Позиция польско-литовской стороны озвученная М. Гарабурдой была предельно жесткой. Утверждалось, что польско-литовские послы в Москве действовали «не по королевскому россказанию», т. е. не имели права «целовать крест» на «припесе» к договору, в русском противне содержалась перечень замков и территорий в Ливонии, на уступку которых послы не имели полномочий. Русская сторона обвинялась в подлоге – московский государь «в грамоте писал не те городы которые в инфлянской земле»[101]. По сути, польско-литовская сторона воспользовалась при срыве ратификации договора нарушениями при его заключении со стороны Ивана Грозного. Письменный «ответ» врученный М. Гарабурдой послам был по существу объявлением войны[102]. Это заставило правительство Ивана Грозного скоординировать курс в отношении Швеции.
75
Беннигсен А., Лемерсье-Келькеже Ш. Восточная Европа Средневековья и раннего Нового времени глазами французских исследователей. Казань, 2009. С. 220–248.
76
Филюшкин А. И. Проекты русско-крымского военного союза в годы Ливонской войны // Труды кафедры истории России с древнейших времен до XX века. Т. II. СПб., 2007. С. 329–331.
77
РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 261.
78
Там же. Л. 227 об.-228.
79
Там же. Л. 228.
80
Там же. Л. 203 об.-204
81
Филюшкин А. И. Проекты русско-крымского военного союза… С. 329.
82
РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 228 об.-229.
83
Там же. Л. 229.
84
Там же. Л. 231.
85
Там же. Л. 258 об.
86
Там же. Л. 229 об.
87
Там же. Л. 229 об.-230.
88
Там же. Л. 230.
89
Там же. Л. 259.
90
Там же. Л. 259 об-260.
91
Там же. Л. 230 об.
92
Дата королевского листа 12 марта 1578 г. // КПЛМ. Ч. 2. С. 38; РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Ед. хр. 10. Л. 503 об.
93
Бантыш-Каменский Н. Н. Переписка между Россией и Польшею. М., 1862. Ч. 1. С. 155; Щербатов М. М. История Российская. Т. 5. Ч. 3. Стлб. 534–535.
94
РГАДА. Ф. 79. Оп. 1 Ед. хр. 10. Л. 497; Бантыш-Каменский Н. Н. Переписка между Россией и Польшею. Ч. 1. С. 155.
95
РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Ед. хр. 10. Л. 415.
96
Там же. Л. 455.
97
РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. Ед. хр. 60. Л. 212 об.-213.
98
Новодвоский В. В. Борьба за Ливонию… С. 78.
99
РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Ед. хр. 11. Л. 36–36 об.
100
Там же. Л. 46 об.
101
Там же. Л. 92–92 об.
102
Там же. Л. 83–84 об.