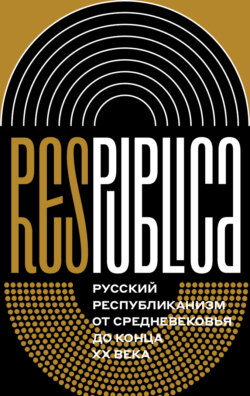Читать книгу Res Publica: Русский республиканизм от Средневековья до конца XX века - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 10
Глава II
Республиканская риторика в Древней Руси
Отчина великого князя, люди вольные
ОглавлениеЧрезвычайно важно наименование Новгорода в цитировавшейся выше статье НПЛ под 1255 г. «своей отчиной» новгородцев, причем в данном случае от имени новгородского политического коллектива выступили прежде всего «меньшие», а не знать234. Что такое «отчина» в этом контексте? Составители «Словаря древнерусского языка XI–XIV вв.» полагают, что у этого слова было три значения: 1) «родина, отечество»; 2) (собирательное) «отцы, предки»; 3) «отцовское земельное родовое владение»235. Упоминание «отчины» в статье 1255 г. здесь отнесено к первой категории, что вполне понятно: второе и третье толкования сюда явно не подходят. Между тем А. А. Горский, на наш взгляд, в принципе верно заметил, что под отчиной как владением, полученным от отца, в источниках – по крайней мере раннего времени, до конца XIV – начала XV в. – всегда подразумевается не частное земельное владение, а государственная территория под властью князя236. И действительно, обращение к примерам, приведенным в СДРЯ, убеждает в справедливости этой оценки. Однако если проанализировать примеры из того же словаря, которые призваны подтвердить значение слова «отчина» как «родина» или «отечество» (в современном, «десемантизированном» значении), можно увидеть, что нечто подобное можно усмотреть только для контекстов из переводных или книжных текстов. Там действительно лексема «отьчина» может передавать греческое πατρίς («родина, родной город, отечество») или восходить к нему. Однако летописные контексты, в которых якобы представлено это значение, вызывают большое сомнение. Помимо известия под 1255 г., их два, и оба относятся к князьям.
Так, в начальной летописи киевляне в 968 г., во время осады Киева печенегами, упрекают Святослава, отправившегося в Дунайскую Болгарию: «…аще не поидеши, ни обраниши насъ, да паки ны возмуть, аще ти не жаль очины своея, ни матере стары суща и дѣтии своих»237. Киевским князем был уже отец Святослава Игоревича, и, с точки зрения киевлян (и летописца), Киев был, несомненно, его отчинным владением, а не просто абстрактной родиной. Именно поэтому тут речь идет о Киеве, а не о Русской земле в целом.
Второй пример – из рассказа Ип. под 1188/1189 г.238 о попытке занять Галич (Южный), предпринятой князем-изгоем Ростиславом Ивановичем, заявившим: «А язъ не хочю блудити в чюже землѣ, но хочу голову свою положити во отчинѣ своеи»239. Здесь тоже вряд ли подразумевается ностальгия по родине. Отец Ростислава, князь Иван Ростиславич Берладник, княжил в Галиче некоторое время в 1145 г.240, и, естественно, его сын считал себя законным наследником галицкого стола.
Таким образом, понимание «отчины» в статье 1255 г. как абстрактного «отечества» лишается убедительных параллелей и «повисает в воздухе». Но, как справедливо однажды сказал Шерлок Холмс, «когда вы отбросите невозможное, что бы ни осталось, пусть даже это кажется невероятным, и будет истиной» («when you have eliminated the impossible whatever remains, however improbable, must be the truth»241). В данном случае истиной оказывается представление автора летописной статьи о том, что Новгород – наследственное владение новгородского «политического народа», республиканской «коллективной личности», материальным воплощением которой служит городское собрание – вече. В этом представлении отчинные права князя и отчинные права «всего Новгорода» принципиально не отличаются друг от друга.
Заявление об отчинных правах новгородцев на Новгород, которое, как говорилось выше, в уста «меньших» новгородцев вложил (или зафиксировал его), по-видимому, владычный нотарий и летописец архиепископов Спиридона и Далмата Тимофей, в то же время вряд ли соответствовало концепции новгородской вольности как дарованной древними князьями. Вполне понятно, что Рюриковичи придерживались по этому вопросу совершенно иного мнения.
В 1179 г.242 в Новгород был приглашен на княжение Мстислав Ростиславич из рода смоленских Ростиславичей. Если верить Киевскому своду в составе Ип., он испытывал колебания, «но понудиша и братья своя и мужи свои, рекуче ему: „Брате, аже зовуть тя съ честью, иди; а тамо, ци не наша очина?“ Он же, послушавъ братьи своеи и мужѣи своеихъ, поиде съ бояры Новгородьцкими»243. Любопытно, что эти заявления князей иногда принимаются историками за чистую монету. Как утверждает П. П. Толочко, «[г]лавная причина частой сменяемости князей на новгородском столе заключена не в какой-то особой свободолюбивости боярской знати города и земли, а в особом наследственном их статусе», и в подтверждение приводит, в частности, этот летописный фрагмент244. Непонятно, однако, почему надо верить словам князей, а не их поведению (тот же Мстислав не горел желанием идти в Новгород из «Русской земли») или не заявлению пономаря Тимофея о новгородцах как о наследственных владетелях своей земли. П. П. Толочко, несомненно, прав в том, что в домонгольский период бывали ситуации, когда новгородцы вынуждены были признавать власть тех или иных могущественных князей и принимать на княжение их ставленников245. Но вне зависимости от того, какова была реальная ситуация (она, как и всюду, как и всегда, определялась прежде всего фактическим соотношением сил), сами новгородцы, как правило, все равно описывали это с помощью риторики добровольного призвания князя «политическим народом». Яркий пример – замена в 1205 г. владимирским князем Всеволодом Большое Гнездо на новгородском столе одного сына на другого (Святослава на Константина). Хотя новгородский летописец не скрывает, что инициатором этого перемещения был Всеволод, он тем не менее заключает известие об этом не очень логичной, на первый взгляд, концовкой: «И рад бысть всь град своему хотѣнию»246.
Иногда конфликт интерпретаций попадает на страницы летописей. В 1199 г.247 Всеволод Большое Гнездо прислал в Новгород упомянутого выше сына Святослава. Владимирский летописец рассказывает об этом так: «Тое же осени придоша Новгородци лѣпшиѣ мужи Мирошьчина чадь к великому князю Всеволоду с поклономъ и с молбою всего Новагорода, рекуще: „Ты, господинъ князь великыи Всеволодъ Гюргевич, просимъ у тобе сына княжитъ Новугороду, зане тобѣ отчина и дѣдина Новъгород“. Князь же великыи здумавъ с дружиною своею, и утвердивъ ихъ крестомъ честнымъ на всеи своеи воли, да имъ сына своего Святослава. Новгородци же пояша и у чюдное святое Богородици с радостью великою и с благословленьемь епископа Иоанна. Иде Святославъ сынъ Всеволожь внукъ Юргевъ княжитъ Новугороду месяця декабря въ 12 день на память святаго отца Спиридона. Братья же проводиша и с честью – Костянтинъ, Юрги, Ярославъ, Володимеръ – и бысть радость велика в градѣ Володимери»248. Совсем иную интерпретацию этого же события мы видим в НПЛ: «Идоша людье съ посадникомь и съ Михалкомь къ Всѣволоду; и прия е съ великою честью и вда имъ сынъ Святославъ; а въ Новъгородъ, съдумавъ съ посадникомь, присла, и съ новъгородьци…»249.
Различия в описаниях очевидны, начиная с поклонов и мольбы новгородцев в Лавр. vs прием Всеволодом новгородской делегации «с великой честью» в НПЛ и кончая отправкой великим князем сына в Новгород «на всей своей воле» vs вокняжение Святослава в Новгороде с согласия посадника и новгородцев. В Лавр. новгородской «риторике вольности» противопоставлено провозглашение Новгорода «отчиной и дединой» (наследственным владением) Всеволода Юрьевича (хотя заметим, что ни отец Всеволода Юрий Долгорукий, ни дед Владимир Мономах никогда в Новгороде не княжили). В новгородской летописи эта тема обходится и акцент сделан на добровольном согласии новгородцев. Тем не менее есть и нечто общее, и это позволяет, во-первых, догадываться о том, каково было реальное положение дел, во-вторых, понять, как «конфликт интерпретаций» был разрешен в дальнейшем и почему это произошло именно таким образом. И здесь полезно посмотреть на некоторые невыгодные для общей концепции летописцев проговорки.
В Лавр. новгородцы довольно униженно умоляют «господина великого князя» Всеволода послать своего сына на княжение в свою «отчину и дедину». Но зачем вообще понадобилась такая сложная процедура? Ведь применительно к другим «отчинам и дединам» владимирского князя ни о чем подобном не говорится и никакие делегации оттуда его в подобных случаях не посещают. Даже когда в 1207/1208 г.250 Всеволод отправил другого своего сына, Ярослава, княжить в Рязань, которая вообще не имела никакого отношения к «отчинам и дединам» суздальских Мономашичей, об этом сказано значительно проще: «Посла великыи князь Всеволодъ сына своего Ярослава в Рязань на столъ»251 (хотя в реальности, как известно из других летописных сообщений, там имели место и военные конфликты, и переговоры, и проявления самостоятельной политической активности со стороны рязанцев). При этом между князем и новгородцами совершается крестоцелование. А самое главное – новгородская делегация представляет «весь Новгород» и реализует его «мольбу». Тем самым владимирский летописец, пытаясь подчеркнуть полную зависимость Новгорода от Всеволода Юрьевича, как бы бессознательно зафиксировал и роль «политического народа» в Новгороде как главного действующего лица (причем с использованием присущей Новгороду терминологии), и особый статус Новгорода, который требовал специфических процедур со стороны «господина великого князя».
В НПЛ избрана иная риторическая стратегия. Ничего не сказано об «отчине и дедине», Всеволод Большое Гнездо не назван ни великим, ни господином (зато говорится об оказанной им новгородскому посольству «великой чести), фигурирует «дума» посадника и новгородцев, благодаря чему у читателя должно сложиться впечатление о совершенно добровольном согласии новгородцев на вокняжение Святослава. При этом, однако, новгородский летописец не смог утаить того – видимо, вполне реального – обстоятельства, что Всеволод Юрьевич своего сына новгородцам просто «вда» (дал), очевидно, не прося их предварительного согласия на это (оно было оформлено задним числом, и неизвестно, в какой степени интересовался этим владимирский князь).
Если же вновь обратиться к северо-восточному летописанию, то мы увидим, как эти противоречивые тенденции преломляются в известии Лавр. о вокняжении в Новгороде в 1205 г.252 Константина Всеволодича, еще одного сына Всеволода Большое Гнездо. Это довольно пространный и весьма патетический рассказ, относительно которого можно согласиться с Я. С. Лурье: он, несомненно, связан с Константином Всеволодичем и, очевидно, входил в состав ростовского летописного свода, впоследствии (видимо, в начале 80‐х гг. XIII в.) соединенного со сводом владимирским253. Этот ростовский источник был в высшей степени специфическим: его автор полностью переписал подлинную историю Суздальской земли после смерти Всеволода Большое Гнездо таким образом, что место ожесточенной борьбы за власть практически полностью заняла идиллическая картина братства его сыновей. В результате в Лавр. даже знаменитая Липицкая битва 1216 г. из крупнейших сражений домонгольской Руси превратилась в «нѣкую котору злу», которая была вскорости увенчана «великой любовью» между братьями. В распре не был – вопреки трактовкам альтернативных версий в НПЛ и смоленской «Повести о Липице», которые, между прочим, отражают точку зрения союзников Константина, соответственно новгородцев и Мстислава Удатного, – виновен никто конкретно, только «злыи врагъ дьяволъ»254. Таким образом, ростовский летописец был готов на многое ради устранения «неправильных» трактовок. Посмотрим, как он описывает вокняжение своего главного героя – Константина Всеволодича – в Новгороде. Текст перемежается цитатами из Священного Писания и насыщен восхвалениями обоих князей – сына и отца. Всеволод сам посылает Константина «Новугороду Великому на княженье». Почему Константин должен княжить в Новгороде? Это разъясняет своему сыну сам Всеволод Юрьевич: «На тобѣ Богъ положилъ переже старѣишиньство во всеи братьи твоеи, а Новъгородъ Великыи старѣишиньство имать княженью во всея Русьскои земли. По имени твоем тако и хвала твоя: не токмо Богъ положилъ на тебѣ старѣишиньство в братьи твоеи, но и въ всеи Русскои земли, и язъ ти даю старѣишиньство, поѣди в свои городъ»255. Понятно, что эта речь призвана убедить читателя прежде всего в том, что Всеволод Большое Гнездо еще при жизни подтвердил «старѣишиньство в братьи» Константина. Это было принципиально важно для его сторонника – ростовского летописца, поскольку в реальности дело обстояло почти с точностью до наоборот: отношения между отцом и сыном были далеки от идиллических, перед смертью Всеволод передал старшинство «в братьи» другому сыну – Юрию, а потом между Всеволодичами началась жестокая война256. В этом контексте летописец подчеркивает значимость Новгорода, где предстояло вокняжиться Константину, используя эпитет «великий», – но как древнейшего русского города, где возникло «княженье». Это отнюдь не республиканская, а монархическая риторика. Но далее, когда после описания чудовищного горя владимирцев от расставания с любимым княжичем летописец переходит к встрече Константина в Новгороде, мы опять сталкиваемся с «проговорками». И они носят, можно сказать, «республиканский» характер: «И пришедшю ему в церковь святыя Софья, и посадиша и на столѣ». Кто «посадиша»? Те самые новгородские мужи, которых Константин после этого одаривает: «И мужи Новгородьскыѣ учредивъ, отпусти ихъ с честью»257. Таким образом, мы видим, что ростовский летописец XIII в., один из самых промонархических книжников этого времени, почти как Валаамова ослица, помимо своей воли засвидетельствовал тот факт, что «мужи новгородские» были определенной политической общностью, обладающей признанным и в Суздальской земле правом сажать на престол даже такого идеального и полновластного князя, каким был в его изображении Константин.
В приведенных выше летописных известиях как в капле воды уже видно дальнейшее развитие отношений между Новгородом и великими князьями владимирскими (а потом московскими). В случае если верховная власть над Новгородом закреплялась бы за ними (пусть даже и формальная), а Новгород сохранял свою фактическую самостоятельность, должна была возникнуть риторика, которая бы объяснила эту неоднозначную ситуацию. И поэтому неудивительно, что она возникла.
После монголо-татарского нашествия, как известно, происходят изменения в отношениях между Новгородом и князьями. С одной стороны, развиваются и укрепляются республиканские институты и утверждается фактическая самостоятельность Новгорода, с другой – исчезает общерусский «рынок» потенциальных князей и с 50‐х гг. XIII в. Новгород признает верховную власть великих князей владимирских, которые одновременно считаются новгородскими князьями258.
Эта двойственность проявляется и на уровне политической риторики. Теперь уже в самих новгородских текстах закрепляется представление о том, что Новгород – «отчина» владимиро-суздальских Рюриковичей, потомков Ярослава Всеволодича. В 1270 г. происходит конфликт между новгородцами и князем Ярославом Ярославичем, сыном Ярослава Всеволодича. Этим решил воспользоваться его брат Василий Ярославич, прислал послов в Новгород со следующим обращением: «Кланяюся святои Софьи и мужемъ новгородцемъ: слышалъ есмь, аже Ярославъ [Ярославич] идеть на Новъгородъ со всею силою своею … жаль ми своея отчины»259. Тут можно различить сразу два «слоя» представлений. Во-первых, здесь проявляется та риторическая двойственность, о которой говорилось выше: князь называет Новгород своей отчиной и при этом кланяется «мужам-новгородцам», явно признавая право новгородского «политического народа» на «вольность в князьях». Во-вторых, это известие принадлежит перу владычного летописца. А им, судя по всему, был тот самый нотарий архиепископов Спиридона и Далмата Тимофей, с творчеством которого связано внедрение в новгородское летописание ряда важнейших республиканских тем и сюжетов, о чем уже говорилось выше260. Весьма существенно, что он – будучи убежденным сторонником новгородской вольности – вполне сочувственно фиксирует претензии князя на отчинное владение Новгородом.
В самом по себе провозглашении князем Новгорода своей отчиной не было ничего нового. Так, этим отметился даже один из главных положительных героев НПЛ, упомянутый выше Мстислав Мстиславич Удатный, который еще в 1208/1209 г. пришел на выручку новгородцам, чтобы защитить их от владимиро-суздальских князей. Согласно летописи, он кланялся «святѣи Софии», гробу своего отца и «всѣмъ новгородьцемъ» и заявил: «…пришьлъ есмь къ вамъ, слышавъ насилье от князь, жаль ми своея отцины»261. Этот фрагмент рассматривается сейчас А. А. Гиппиусом как вставка, включенная в более ранний текст летописцем архиепископа Антония после его возвращения на новгородскую кафедру в 1225 г.262 Нотарий Тимофей, таким образом, просто во многом воспроизвел риторику своего предшественника. Однако в новых условиях – «монополизации» суздальскими Рюриковичами прав на новгородское княжение – притязания на «отчинное» владение Новгородом приобрели уже иное значение, предопределяя двойственность концепции новгородской вольности.
В дальнейшем эта двойственность так или иначе отражалась во многих новгородских текстах. После поражения на Шелони в июле 1471 г. статус Новгорода как отчины великих князей Московских был юридически закреплен в августе того же года в Коростынском мирном договоре, но двойственность сохранилась в виде формулы «ваша отчина – мужи вольные». Согласно новгородскому проекту договора, новгородцы обещали: «…от васъ, от великихъ князеи, намъ, вашеи отчинѣ Великому Новугороду, мужемъ вол[ь]нымъ не отдатися никоторою хитростью…»263. Но еще раньше похожую риторику мы видим и в летописи.
В 1397/1398 г.264 после конфликта из‐за Двинской земли архиепископ Новгородский Иоанн вел переговоры с московским великим князем Василием I и, согласно летописи, попросил, чтобы он «от Новагорода от своих мужии от волных нелюбье бы отложилъ»265. Здесь не говорится об «отчине», но новгородские «вольные мужи» называются «своими» по отношению к князю, что близко по смыслу.
Церемониальная «икона» этой формулы в ее новгородской интерпретации очень хорошо представлена в рассказе «Летописи Авраамки» (одна из летописей новгородско-софийской группы) о визите в Новгород в 1460 г. московского великого князя Василия Темного. Сначала там говорится о воздании «чести» новгородскими властями московским гостям: «…архиепископъ владыка Иона возда честь князю великому Василью Васильевичю всея Руси и сыномъ его, князю Юрью и князю Андрѣю, и ихъ бояромъ, чтивше его по многи дни и дары многы въздасть ему, и сыномъ его и боярамъ его; такоже и князь Василей Васильевичь Новгородчкый въздалъ честь князю великому Василью Васильевичю и дары многы, и сыномъ его князю Юрью и князю Андрѣю и его бояромъ; потому же и степенныи266 Великого Новагорода, и боярѣ и весь Великый Новъгородъ честь велику воздаша ему князю великому Василью Васильевичю и сыномъ его, князю Юрью и князю Андрѣю, и дары многы, и боярамъ его добрѣ честь въздаша ему»267. Ответ на это не заставил себя ждать. Великий князь, его сыновья Юрий и Андрей и его бояре «удариша челомъ святѣй Софии и боголѣпному Преображению святого Спаса на Хутины и преподобному Варламу великому чюдотворцю и святымъ церквамъ, и у архиепископа владыкѣ Ионѣ благословение возмя, поклонивъся у всѣхъ седми соборовъ, а Новугороду отчинѣ своеи мужемь волнымъ такоже поклонивъся, поѣха на Москву одаренъ Божиею благодатию и преподобнымъ Варламомъ и архиепископа владыкѣ Ионѣ благословлениемъ и многыми дары, и всего Великого Новагорода здоровыемъ и смирениемь, и отъѣха мирно…»268. Отношения между великим князем и Новгородом изображаются здесь как фактически равноправные, церемониал (приветствия, поклоны, дары) выглядит «зеркальным», а Василию II принадлежит лишь, если так можно выразиться, «первенство чести». Новгородское политическое сообщество называется в разных случаях по-разному: «весь Великий Новгород» и «Новгород, своя отчина, мужи вольные». Характерен контекст последнего обозначения: летописец как бы вынуждает великого князя кланяться своей «отчине». Главное и по сути единственное право (оно же – обязанность), которое принадлежало, по мысли новгородских книжников, придерживавшихся этой идеологической концепции, владимирским (а потом московским) великим князьям как «отчинникам» Новгорода, – защита своей отчины от внешней угрозы. Недаром новгородцы в летописи вспоминают о том, что у них есть формальный сюзерен, когда им становится необходима военная поддержка, как это было в 1348 г., когда новгородские послы звали Симеона Гордого «оборонять своея отчины» из‐за того, что «идеть на нас король свѣискыи (шведский. – П. Л.)…»269.
Однако была, по-видимому, в Новгороде и другая тенденция. Ее сторонники искали какие-то идеологические обоснования и риторические ходы, которые позволили бы вернуться к представлению о Новгороде как об «отчине» самих новгородцев. Эксплицитных выражений этой тенденции мы практически не встретим, но кое-какие данные об этом имеются.
Во-первых, встречается представление о том, что новгородская «воля» имеет своим источником не древних или современных князей, а Бога. В «Слове о Знамении», посвященном знаковому для новгородцев событию, о котором шла речь выше, – удачной обороне от войск коалиции во главе с Андреем Боголюбским в 1170 г., имеется следующее рассуждение: «Сице бо живущемъ новгородцемъ и владѣяху своею областью, якоже имъ Богъ поручилъ, а князя держаху по своеи воли». Из дальнейшего изложения становится понятно, что под «новгородцами», владевшими подчиненными им территориями, понимаются жители концов, т. е., как нам уже известно, новгородское политическое сообщество, состоявшее из членов городских территориальных организаций270. «Слово» датировалось по-разному, в пределах XIV–XV вв. (по современным представлениям, в окончательной редакции – скорее XV в.)271.
В несколько более позднем произведении из Знаменского цикла, «Воспоминании о Знамении» (по-видимому, 30‐х гг. XV в.), которое, как правило, связывается с творчеством известного книжника XV в. Пахомия Серба (Логофета), эта тема представлена еще более выраженно. Пахомий работал в Новгороде по приглашению новгородского архиепископа Евфимия II (1429–1458), поэтому, если автор этого сочинения действительно он, не может быть сомнений в том, что высказанные там оценки соответствуют позиции новгородских властей и отражают официальную новгородскую идеологию того времени. Обычно в историографии справедливо акцентируется ее антимосковская направленность272. Но этим ее содержание отнюдь не исчерпывается. Открывает «Воспоминание» следующая фраза: «Бысть убо знамение се дивное и преславьное иконою Пречистыя Владычице Нашея Богородица, житие проходящимъ человекомъ Великого Новаграда самовластно, и никым же обладаеми, нъ … влядяще областию своею, яко же и лѣпо бѣ, и князя имѣюще от иных странъ призванаго въ отмщение съпротивнымъ; бѣ же тогда у нихъ князь Романъ Мьстиславличь, внукъ Ижеславьль»273. Новгородское «самовластие» здесь не связывается ни с какими князьями. «Человеки Великого Новгорода», т. е. новгородское политическое сообщество, никем к моменту осады 1170 г. не было «обладаемо». Более того, специально подчеркивается, что князья призывались по воле новгородцев «от иных стран» и не для того, чтобы «обладать» Новгородом, а для конкретной цели – военной («въ отмщение съпротивным»). Чуть ниже в том же тексте говорится: «Едина от власти града того (Новгорода. – П. Л.) Двина глаголемая отметнувьшеся убо обычную дань даяти Новуграду, но предавшеся князю Андрѣю Суздальскому. Новгородци же съвѣщавшеся, даньника по обычаю на предреченную Двину послаша и с нимъ от пяти коньцевъ по сту мужь»274. В этой трактовке новгородский «политический народ», состоящий из горожан, входивших в кончанские объединения, оказывается полновластным владельцем новгородских волостей и получателем даней с них, причем особо акцентируется внимание на том, что такое положение соответствует обычаю, а попытки князей вмешаться в установленный порядок обычай нарушают. Естественно, речь идет именно об идеологии, а не о реальной ситуации второй половины XII в., когда даже еще не существовало и пяти концов275. Эта концепция явно была полемически заострена против идеи о Новгороде как о княжеской отчине – по крайней мере имплицитно (поскольку прямо в «Воспоминании» о происхождении новгородского «самовластия» не говорится).
Несколько позже Пахомий Логофет создал еще одно произведение на ту же тему – «Слово Похвальное иконе Знамение». В нем он в целом повторяет те же мотивы. Андрей Боголюбский «зря Великыи Новъградъ самовластенъ и никымже обладаемь, богатьством же исполнени, тѣмже и завистию разгорѣся…»276, но конкретики становится значительно меньше, а религиозной риторики – еще больше.
Любопытно, что в обоих произведениях, посвященных чуду от иконы Знамение, Пахомий Логофет, хотя и весьма позитивно отзывается о новгородском «самовластии» и осуждает покушение на него со стороны Андрея Боголюбского, нигде прямо не говорит о том, что это было божественное установление. Между тем в «Слове о Знамении», как мы помним, этот тезис выдвигался. В чем была причина этой редактуры, сказать сложно277. Но вряд ли она была случайной: Пахомий Логофет только усиливал религиозно-назидательную направленность текста с помощью, по характеристике В. Водова, «цветистой и напыщенной риторики»278. Ясно, так или иначе, что в Новгороде XV в. шло напряженное осмысление своей «вольности» и предпринимались как попытки вывести ее непосредственно от сверхъестественных сил, минуя любых князей, в том числе и «древних», так и полемика с этими попытками – как имплицитная, так и эксплицитная.
Во-вторых, фиксируются попытки «отвязать» новгородскую историю от князей-Рюриковичей с помощью создания альтернативного мифа de origine. Показательны в этом смысле легенды о варяжском (а не славянском) происхождении новгородцев и о «старейшине» Гостомысле, не принадлежащем к русской княжеской династии. Они приобрели особую актуальность в XV в., но, скорее всего, бытовали и ранее279.
В-третьих, – и здесь мы уже вступаем в пространство, где риторика соединяется с политической практикой, – существовавшая в Новгороде второй половины XV в. партия, ориентировавшаяся на Великое княжество Литовское, по-видимому, вообще стремилась устранить «отчинную» терминологию и из правовых документов. Так, в договоре (или проекте договора) Новгорода с Казимиром IV 1471 г.280 новгородская вольность есть, а признания себя его «отчиной» – нет. Там от имени великого князя Литовского и короля Польского говорится: «Докончялъ есми с ними миръ и со всѣмъ Великимъ Новымъгородомъ, с мужи волными»281.
Новгородская «вольность» не осталась незамеченной и внимательными наблюдателями извне, и характеризовали они ее в полном соответствии с новгородскими же источниками и достаточно определенно. Жильбер де Ланнуа, рыцарь из Фландрии, побывавший в Новгороде в 1413 г., с одной стороны, называет Новгород «вольным городом и владением общины» («ville franche et seignourie de commune»), с другой – замечает, что у новгородцев «нет другого короля или правителя, кроме великого короля Московского, правителя Великой Руси», добавляя, впрочем: «которого они, когда хотят, признают правителем, а когда не хотят – нет»282. Эти наблюдения полностью соответствуют концепции «люди вольные – отчина великого князя», точнее, ее новгородской интерпретации. Немецкий хронист и автор «Хроники Констанцского собора» (ок. 1420 г.) Ульрих Рихенталь сравнивал Новгород с Венецией. В хронике говорится о том, что на соборе, заседавшем в 1414–1418 гг., присутствовали представители Римско-Католической церкви Новгорода; и ее автору было известно, что Великий Новгород («groß Novograt») – самоуправляющийся город и что «он выбирает герцога, как венецианцы» («…daz ist ain statt für sich selb und welt ain hertzogen als die Venedier»)283. «Герцог» в данном случае применительно к Новгороду – не князь, а, скорее всего, тысяцкий (в ганзейских документах его обычно называли «hertoch» – «герцог»), применительно же к Венеции – конечно, дож. Выражение «ein stat für sich selb» (буквально: «город для себя самого») вполне можно считать проявлением той тенденции к республиканской «суверенизации», о которой шла речь выше.
Сохранялись на Западе представления о новгородской вольности и позднее, уже после присоединения Новгорода к Москве. Сигизмунд Герберштейн писал, что Новгород в период своего процветания «был самовластным» («sui <…> juris esset»), а в немецком переводе уточнял, что тогда этот город «пребывал в своих свободах» («in jren Freihaiten gewest ist»)284.
234
ПСРЛ. Т. III. С. 80–81, 307–308.
235
СДРЯ. Т. VI. М., 2000. С. 312–313.
236
Горский А. А. Русское средневековое общество: историко-терминологический справочник. СПб., 2019. С. 239.
237
ПСРЛ. Т. I. Стб. 67.
238
О дате см.: Бережков Н. Г. Хронология русского летописания. С. 204–205.
239
ПСРЛ. Т. II. Стб. 664–665.
240
Там же. Стб. 316–317. См. об этом: Грушевський М. С. Iсторiя Украïни-Руси. Киïв, 1992. Т. II. С. 420–421 (1‐е изд.: 1905). О дате см.: Бережков Н. Г. Хронология русского летописания. С. 146.
241
Conan Doyle A. The Sign of the Four [Электронный ресурс]: URL: https://www.gutenberg.org/files/2097/2097-h/2097-h.htm (дата обращения: 12.01.2021).
242
О дате см.: Бережков Н. Г. Хронология русского летописания. С. 199.
243
ПСРЛ. Т. ΙΙ. Стб. 607.
244
Толочко П. П. О новгородских «вольностях в князьях». С. 108.
245
Там же. С. 112–119.
246
ПСРЛ. Т. III. С. 49–50, 246.
247
О дате см.: Бережков Н. Г. Хронология русского летописания. С. 86.
248
ПСРЛ. Т. I. Стб. 415–416.
249
ПСРЛ. Т. III. С. 44, 238.
250
О дате см.: Бережков Н. Г. Хронология русского летописания. С. 100–101.
251
ПСРЛ. Т. I. Стб. 434.
252
Бережков Н. Г. Хронология русского летописания. С. 88.
253
Насонов А. Н. История русского летописания XI – начала XVIII в. М., 1969. С. 192–199; Лурье Я. С. О происхождении Радзивиловской летописи. С. 79–81 (там же см. обсуждение спорных вопросов, связанных с хронологией и текстологическим статусом ростовского источника Лавр.).
254
ПСРЛ. Т. I. Стб. 439–440. См. также: К[учкин] В. А. Летописные рассказы о Липицкой битве // Письменные памятники истории Древней Руси. Летописи. Повести. Хождения. Поучения. Жития. Послания: Аннотированный каталог-справочник / Под ред. Я. Н. Щапова. СПб., 2003. С. 70–73.
255
ПСРЛ. Т. I. Стб. 421–422.
256
См. об этом: Насонов А. Н. История русского летописания XI – начала XVIII в. С. 220–223.
257
ПСРЛ. Т. I. Стб. 423.
258
Янин В. Л. Очерки истории средневекового Новгорода. М., 2008. С. 136–163; Горский А. А. Русские земли в XIII–XIV веках: пути политического развития. СПб., 2016. С. 58–59, 63–64.
259
ПСРЛ. Т. III. С. 88–89, 320.
260
Гиппиус А. А. Новгородская владычная летопись XII–XIV вв. и ее авторы. С. 215.
261
ПСРЛ. Т. III. С. 51, 249. О дате см.: Бережков Н. Г. Хронология русского летописания. С. 255–256. См. также: ПСРЛ. Т. III. С. 54, 253.
262
Гиппиус А. А. Архиепископ Антоний, новгородское летописание и культ святой Софии. С. 197.
263
Грамоты Великого Новгорода и Пскова / Под ред. С. Н. Валка. М.; Л., 1949. № 26. С. 46 (далее – ГВНП).
264
О дате см.: Бережков Н. Г. Хронология русского летописания. С. 293.
265
ПСРЛ. Т. III. С. 390.
266
Вероятно, имеются в виду степенные посадник и тысяцкий.
267
ПСРЛ. Т. XVI. Стб. 201–202.
268
Там же. Стб. 202.
269
ПСРЛ. Т. III. С. 360 (о дате см.: Бережков Н. Г. Хронология русского летописания. С. 298).
270
Лосева О. В. Жития русских святых в составе древнерусских Прологов XII – первой трети XV в. М., 2009. С. 328. В обсуждении этого фрагмента в нашей монографии (Лукин П. В. Новгородское вече. С. 529) имеются неточности, связанные с характеристикой «Слова о Знамении» (датировка, воспроизведение текста).
271
См.: Агафонов И. С. Идеологические тенденции в нарративах Знаменского цикла XV–XVII вв. // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2015. № 4 (62). С. 16–22.
272
Дмитриев Л. А. Житийные повести Русского Севера как памятники литературы XIII–XVII вв. С. 126–128; Vodoff V. Le culte de Znamenie à Novgorod: Tradition et réalité historique // Oxford Slavonic Papers. New Series. Vol. XXVIII (1995). P. 6–7.
273
Агафонов И. С. Осада Новгорода в 1170 г. по письменным источникам. Дисс. … канд. ист. наук. М., 2015. Приложение 2. «Воспоминание о Знамении». Текст. С. 162.
274
Там же.
275
Два позднейших конца – Плотницкий и Загородский – возникли, скорее всего, не ранее XIII в. (Дубровин Г. Е. Формирование Плотницкого конца и государственные реформы в Новгороде в середине – второй половине XIII в. // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2013. № 1 (51). С. 41–53).
276
Яблонский В., священник. Пахомий Серб и его агиографические писания. Биографический и библиографически-литературный очерк. СПб., 1908. С. XCIII.
277
Об использовании Пахомием Логофетом «Слова о Знамении» см.: Дмитриев Л. А. Житийные повести Русского Севера как памятники литературы XIII–XVII вв. С. 115–119.
278
Vodoff V. Le culte de Znamenie à Novgorod: Tradition et réalité historique. P. 7.
279
Лукин П. В. Старейшина Гостомысл и первый дож Паолуччо Анафесто: республиканские мифы и их судьбы // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2019. № 1 (75). С. 67–71; Он же. Новгородцы «от рода варяжьска» и троянское происхождение венецианцев: две республиканские легенды de origine // Средние века. 2019. Т. 80. № 1. С. 93–111.
280
О датировке см.: Янин В. Л. Новгородские акты XII–XV вв. Хронологический комментарий. М., 1991. С. 187–189.
281
ГВНП. № 77. С. 130.
282
Œuvres de Ghillebert de Lannoy, voyageur, diplomate et moraliste, recueillies et publiées par Ch. Potvin avec des notes géographiques et une carte par J.-C. Houzeau. Louvain, 1878. P. 33.
283
Chronik der Konstanzer Konzils 1414–1418 von Ulrich Richental / Eing. und hrsg. von Th. M. Buck. Ostfildern, 2011 (Konstanzer Geschichts- und Rechtsquellen). S. 199.
284
Герберштейн С. Записки о Московии: В 2 т. / Под ред. А. Л. Хорошкевич. Т. I: Лат. и нем. тексты, рус. пер. с лат. А. И. Малеина и А. В. Назаренко, с ранненововерхненем. А. В. Назаренко. М., 2008. С. 338–339.