Мобилизованное Средневековье. Том II. Средневековая история на службе национальной и государственной идеологии в России
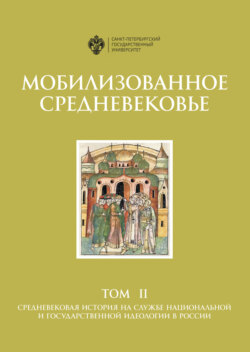
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Коллектив авторов. Мобилизованное Средневековье. Том II. Средневековая история на службе национальной и государственной идеологии в России
Введение. Российский вариант мобилизации средневековья
Глава I. Медиевализм до медиевализма: этногенетическое послание средневековой Руси
Историческое воображение древнерусского летописца и «origo gentis». Между «Византийским содружеством» и «младшей Европой»
«Origo gentis Sclavorum»
«Origo gentis Russorum»
Историческое воображение раннего русского Средневековья из перспективы позднего
Какую оптику взгляда на народ русь заложил летописец?
Формирование династического мифа и его развитие в XV–XVI веках
Создание Святой Руси как истока Российского царства
Особенности изображения в XVI веке древнерусской истории
Трактовки древнерусской истории в русинских землях Великого княжества литовского и Речи Посполитой в XVI веке: появление стихийных медиевальных идей
Глава II. Русский стихийный медиевализм XVII–XVIII веков
Замещение династического мифа этатистским в XVII веке
«Повесть о Словене и Русе» – русский вариант легенды об «origo gentis»
Рост интереса к древнерусскому прошлому в русинских землях Речи Посполитой в XVII веке
Киевский «Синопсис» и его роль в презентации Средневековья
Рождение стихийного медиевализма русскими старообрядцами
Русские дворянские генеалогии как форма стихийного медиевализма
Визуализация русского Средневековья в начале Нового времени
Обращение к Средневековью при Петре I: несостоявшийся медиевализм
В поисках своего Средневековья: стихийный медиевализм постпетровской эпохи
Старообрядчество XVIII века и медиевализм
Интерес к Средневековью в русском обществе второй половины XVIII века
Глава III. В поисках своего прошлого: формирование медиевального канона романтизмом и национализмом первой половины XIX столетия
Россия в начале XIX века
Этический медиевализм Николая Карамзина
Императорский медиевализм
Медиевализм славянофилов и западников: апелляция к Средневековью в спорах о будущем России
«Привесть в известность»: государственная политика по обретению своего прошлого
Раскопки, путешествия, реставрации: в поисках своего прошлого
«Если прошлое нас не устраивает, его надо выдумать»: исторические подделки в первой половине XIX века
Научить прошлому: медиевализм в системе образования в Российской империи первой половины XIX века
Увековечить Средневековье[659]
Воспеть Средневековье
Беллетризировать Средневековье
Построить Средневековье
Живописать Средневековье
Опредметить Средневековье
Глава IV. Русский медиевализм на пути к модерну. Вторая половина XIX – начало XX века
Медиевализм в Российской империи в эпоху модерна: подъем, забвение, ренессанс
Медиевализм на службе политики: мобилизация Средневековья в Российской империи на рубеже XIX и XX веков
Автопортрет империи: историческая перепись 1901–1903 годов
Апофеоз Романовых: монументальная политика второй половины XIX – начала XX века
Русский стиль второй половины XIX века
Маркировка территории: церковные архитектурные памятники в русском стиле
Средневековье в Серебряный век русской культуры
Коммеморации Средневековья: 900-летие крещения Руси
Русский бал 1903 года: неудавшаяся симфония с Московской Русью
Возродить художественную Русь!
Русское Средневековье на страницах учебников и учебных программ[961]
Появление медиевальной рекламы[1000]
Глава V. Медиевализм в советскую эпоху
«Отречемся от старого мира»: от угасания медиевализма в революционную эпоху к сталинскому медиевальному ренессансу
Новые взгляды на историю: школьные программы 1920–1930-х годов и медиевализм
Медиевальные образы в советской пропаганде в годы Великой Отечественной войны
Формирование памяти: советские военные мемориалы, посвященные Средневековью[1081]
Монументальная политика в области средневековой истории в послевоенные годы
Практики коммемораций: праздники и дни памяти
«Я эмигрировал в Древнюю Русь»: советский медиевализм как форма культурного диссидентства
Средневековые образы в кинематографе СССР
Место средневековья в образовательных программах послевоенного СССР
Наука и медиевализм: дискуссии в историографии и их влияние на общественную мысль
Образ русского средневековья в историко-культурном наследии в СССР
Глава VI. Медиевальный бум на постсоветском пространстве
Возрождение медиевализма после распада СССР
Кто подлинный наследник Киевской Руси? Медиевализм в национальной украинской идеологии
Найти свое средневековое государство: дискурс Великого княжества Литовского в белорусском национальном конструкте[1233]
Современный российский медиевализм: популярность в тени актуального прошлого
Вспомнить Батыя: культ Золотой Орды на постсоветском пространстве
Медиевализм в современных искусстве и архитектуре России
Мотивы Средневековья в кинематографе постсоветского пространства
Средневековые герои и события отечественной истории в сетевых ресурсах[1420]
Визуализация медиевализма на примере исторической реконструкции
Видеоигры на тему славянского Средневековья
Современная коммерческая реклама и медиевализм[1491]
Славянское фэнтези в России
Заключение
Отрывок из книги
В 2016–2018 гг. коллектив ученых Санкт-Петербургского государственного университета работал по гранту Российского научного фонда № 16-18-10080: «“Мобилизованное Средневековье”: обращение к средневековым образам в дискурсах национального и государственного строительства в России и странах Центрально-Восточной Европы и Балкан в Новое и Новейшее время». Итогом стала двухтомная коллективная монография. Первый том увидел свет в 2021 г. и был посвящен медиевализму у зарубежных славян и их соседей по Центрально-Восточной Европе, Балканам и Прибалтике[1]. Второй том, посвященный русскому медиевализму и аналогичным процессам у славянских соседей по постсоветскому пространству, украинцев и белорусов, предлагается вашему вниманию.
У российского медиевализма было несколько особенностей, которые существенно отличают его от сходных феноменов в других странах Восточной Европы. Первая особенность – довольно сложное представление о том, что такое Средневековье. Причем сложность здесь присутствует как в плане выбора объекта, так и в хронологии.
.....
При этом породившие безбрежную научную литературу споры о том, что именно являла собой эта древнейшая русь на самом деле[161], едва ли релевантны для понимания летописного текста. Для автора ПВЛ первоначальная русь, безусловно, была одним из северных народов: в космографическом введении она упомянута в числе народов «Иафетова колена», проживающих на берегах Балтийского и Северного морей. Однако в представлении летописца эта русь отнюдь не была тождественна той руси, которая в его время проживала в Киеве. Этой «новой русью» были словенские поляне, получившие новое название благодаря появившимся в Киеве варяжским русским князьям[162].
При рассмотрении проблемы преемственности форм средневекового русского исторического воображения от домонгольской Русской земли к Московскому государству в центре внимания оказываются основополагающие принципы групповой самоидентификации, структурировавшие образ далекого прошлого, иерархия этих принципов и их соотношение друг с другом. Коль скоро в Московском государстве конфессиональный и государственный (династический) принципы формирования групповой идентичности и структурируемой ею исторической памяти фактически замещали собой европейскую традицию «origo gentis», в чем справедливо усматривается одно из ключевых отличий в историческом воображении России и стран латинской Европы[163], то неминуемо возникает вопрос: являлось ли это обстоятельство наследием византинизации восточнославянской культуры, происходившей еще в киевскую эпоху[164], или же маргинализация этногенетического дискурса произошла позднее, в период формирования Московского государства?
.....