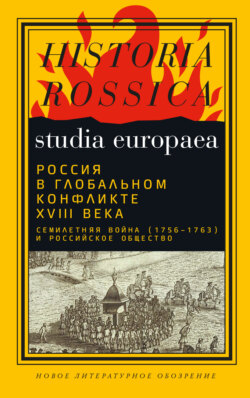Читать книгу Россия в глобальном конфликте XVIII века. Семилетняя война (1756−1763) и российское общество - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Проблемы и методы
Мариан Фюссель
МИР В ОГНЕ. К ИСТОРИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ СЕМИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ (1756−1763)64
ОглавлениеHow fatal a war has this been! From Pondicherry to Canada, from Russia to Senegal, the world has been a great bill of mortality!65
1. ВВЕДЕНИЕ
В 1755 и 1756 гг. на севере Германии землетрясения и нашествия мышей толковали как предвестников грядущей более масштабной и на сей раз рукотворной катастрофы – Семилетней войны66. Представлялось, что хаос в природе возвещает хаос среди людей. Восприятие таких феноменов как знамений было стандартной моделью интерпретации в раннее Новое время, хотя к середине XVIII столетия она уже вызывала критику у тех, кто отвергал наивное суеверие простецов67.
Семилетняя война стала событием глобального масштаба с театрами военных действий в Европе, Северной и Южной Америке, Западной Африке и Южной Азии68. В ней соединились две линии конфликтов, идущие от Войны за австрийское наследство (1740–1748): с одной стороны, колониальное соперничество между Англией и Францией, с другой – восходящий к аннексии Фридрихом II Силезии в первых двух силезских войнах антагонизм между Пруссией и Австрией. Из-за переплетения этих двух конфликтов военные действия распространились по всему миру и были закончены лишь в 1763 г. мирными договорами в Париже и Губертусбурге69.
Пока в 1755 г. холодная война между британцами и французами в лесах Северной Америки перерастала в горячую, мир с ужасом взирал на природную катастрофу невиданных масштабов. 1 ноября 1755 г. столица Португалии, Лиссабон, была почти полностью уничтожена цунами и пожаром. Вызвавшее их землетрясение ощущалось и в германских землях, но несравненно более драматическая участь Лиссабона превратилась в медийное событие европейского масштаба70. Однако уже в 1757 г., как показывает анализ каталога Лейпцигской ярмарки, рукотворная катастрофа войны практически затмила в публицистике землетрясение71. Через несколько лет Вольтер в своем «Кандиде» упомянул оба этих событиях как потрясение привычного образа мира72.
Толкования знамений в связи с землетрясением и нашествием мышей могут служить примером «лабораторной ситуации» в Семилетнюю войну, в ходе которой пересекались друг с другом традиции и инновации, домодерное и модерное73. Они же открывают темы и перспективы исторической антропологии, которая интересуется историей трансформации моделей восприятия, действий и интерпретаций, представляющихся нашему модерному миру инаковыми, чужеродными74. Впрочем, в определении «исторической антропологии» и ее программы исследователи далеки от единодушия75. Слишком разнятся между собой даже в пределах одной Германии местные школы исторической антропологии, скажем, в Берлине, Фрайбурге или Геттингене; у каждой из них свои справочники и своя научная периодика76. Нет недостатка и в программных заявлениях77. Историческая антропология – это междисциплинарное поле, формирование которого находится в постоянном развитии. Репертуар ключевых понятий и вопросов постоянно расширяется, так что даже в рамках одного течения уровни дискуссий 1985, 1995 и 2015 гг. могут существенно различаться. В начале 1980‐х на первом плане были вопросы теории действия об агентности (agency) исторических акторов, особенно в гендерном плане, а материальное ограничивалось в основном экономикой; в 1990‐х гг. фокус был дополнительно направлен на медиа, репрезентации и перформативные практики, а в 2000‐х гг. среди прочего – на вопросы симметричной антропологии, соотношение природы и культуры, глобальную историю и возвращение материальности историчного78. Это перечисление лишь выборочное и ни в коем случае не означающее смену одного другим, но постоянное расширение, при котором всегда оставались актуальными и прежние вопросы. Если, к примеру, материальным вещам в праксеологическом смысле приписываются качества, определяющие развертывание действия, то старый вопрос об агентности/agency обретает новую динамику79. Классические дихотомии вроде микро- и макроистории, о которых шли дискуссии в 1980‐х гг., отнюдь не потеряли актуальности, но с проекцией их на глобальный контекст лишь еще более усложнились80.
Существенно для профиля и сущности исторических подходов и определение их границ. В случае исторической антропологии в 1980‐х гг. таковыми были социальная и политическая история, в 1990−2000‐х гг. же стали скорее обращать внимание на отличие от новой культурной истории, которую историческая антропология в широком понимании стремилась считать своей81. Несмотря на высокую степень теоретизации – ибо историческая антропология несомненно представляет собой один из наиболее теоретизированных подходов к истории, – ее контуры лучше всего определяются в историографической практике82. Применяемый в настоящей статье подход следует традиции исторической антропологии, выросшей из социальной истории, которая понимает себя в общем и целом как историю социальных практик83. Соответственно далее на примере Семилетней войны будет намечено, какие вопросы может задавать историческая антропология войны и как она может работать с эмпирическим материалом. Эту цель я прослеживаю в три этапа: вначале характеризую некоторые основные результаты смены перспективы (2.), затем перехожу к тематическим полям истории повседневности войны (3.), чтобы, наконец, задаться вопросом, что может дать историко-антропологический подход для анализа Семилетней войны в глобальном аспекте (4.).
2. СМЕНА ПЕРСПЕКТИВ: К ИСТОРИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ ВОЙНЫ
Войны представляют собой в общем центральную область историко-антропологических исследований, поскольку служат экзистенциальным вызовом жизненному миру человека и одновременно требуют последовательной историзации84. Так, в целом ограниченные военно-исторические исследования склонны скорее к биологизирующей антропологии85. Историческая же антропология стремится прежде всего историзировать такие темы, как труд, питание, пол, тело, насилие, страдание, болезнь и смерть, а также медийность, религиозность, материальность и глобальность, но эта задача ставит перед ней и определенные эмпирические вызовы86. Среди них феномен, который можно назвать «парадоксом Зиммеля». В своей статье об историческом времени на материале Семилетней войны философ и социолог Георг Зиммель ставит вопрос о том, насколько близко мы можем подойти к исторической практике, не теряя при этом из виду ее историчности87. Как он пишет, каждый отдельный удар саблей в битве при Кунерсдорфе 1759 г. в микроперспективе ничем не отличается от любого другого удара саблей как составной части военного насилия. Но в чем особенность Кунерсдорфской битвы, или, шире, что характерного в исторической антропологии именно Семилетней войны?
До сих пор основной методологический путь исторической антропологии составляла, как правило, микроистория – история отдельной деревни, отдельного военного кровопролития, отдельного индивидуума88. Но как мы попадем отсюда на более высокую агрегирующую ступень? Возможным способом может служить последовательное игнорирование онтологического различения между микро- и макроуровнем и фиксация в духе плоских онтологий89 разнообразных переплетений сюжетных линий и отдельных практик90. В этом случае отдельный случай грабежа встраивается в более широкий процесс циркуляции товаров и ресурсов, отдельная пропагандистская листовка – в целую дискурсивную формацию, баталия – в совокупность различных практик насилия от малой войны до осады. «Большое» в этом случае не отличается по своему онтологическому статусу от «малого», различия зависят скорее от эпистемологического вопроса о видимости восприятия91. Например, такая битва, как Кунерсдорфская, сама по себе «невидимая», поскольку складывается лишь из множества отдельных действий92.
В то время как в макроисследованиях Семилетней войны недостатка нет, почти все они до сих пор оперировали классической историей в стиле battles and treatises – главных битв, великих людей, центральных решений93. Постановка проблем в духе исторической антропологии реализовалась, скорее, в форме статей и, как правило, на материале отдельных кейсов94.
В то же время историческая антропология не застрахована от одной из ловушек «культурных поворотов», а именно смешения перспективы и предмета, оптики и топики95. Так, безусловно, не всякое исследование об экономике, материальной культуре или смерти обязательно встроено в историко-антропологическую перспективу; это касается и большинства цитируемой здесь литературы по Семилетней войне. Однако вопросам об альтернативных акторах, практиках и традициях всегда была присуща критическая смена перспективы: от истории элит – к повседневности простых людей, от фиксации на письменных источниках – к широкой палитре исторического материала, от евроцентризма – к глобальным переплетениям и циркуляции и т. п. Если эти перспективы свести только к предметам, историческая антропология потеряет свой критический заряд. Иначе говоря, с рассмотрением новых тем должно фундаментально поменяться и представление о масштабных исторических контекстах: война предстанет тогда не последовательностью военных событий и договоров, а экзистенциальной борьбой за выживание, которая разыгрывается не только в политических кабинетах, но и на каждом отдельном крестьянском дворе96. Сведение же повседневности лишь к одной в ряду прочих тем приводит к тому, что хотя раздел о ней и включается в большие нарративы, но никак на них не влияет. После разделов о политической истории просто следует в конце еще один, об истории жизненного опыта (Erfahrungsgeschichte). Это в любом случае лучше, чем совершенно игнорировать историю военной повседневности, но в конечном итоге приводит к своего рода компартментализации, изолированному рассмотрению, а отсюда к нейтрализации критических импульсов истории повседневности и жизненного опыта97.
При этом требуется все же чем-то ответить на вероятный упрек из перспективы структурной или макроистории, утверждающей, к примеру, что Семилетняя война была «в действительности борьбой финансовых и экономических систем, развитости модерных государственных администраций, а также военной выносливости»98. Это утверждение не является ошибочным само по себе, но с точки зрения исторической антропологии оно остается неудовлетворительным без микроисторического прочтения «черного ящика» экономических систем и государственной администрации99. Необходимо определить акторов администрирования и финансирования с их конкретными практиками, иначе в противном случае грозит опасность опредмечивания структур и соотношений, превращения их в субъекты, как это очевидно происходит в формуле «борьбы систем»100. В то же время следует избегать отнюдь нередкой у исторических антропологов склонности выплеснуть с водой ребенка, поспешив вовсе исключить кабинетную политику и общие стратегии из поля зрения, поскольку это будет способствовать критиковавшейся выше «компартментализации». Как превратить кабинетную политику в тему для исторической антропологии? Различные наработки для этого уже есть в области новой истории дипломатии, которая затрагивает, к примеру, символическую коммуникацию, восприятие или неформальные сети101. Мое дополнение ориентировано, с одной стороны, на социологию организаций, предлагая обратить внимание на социальную логику фантазмов постановлений (Verfügungsphantasmen), то есть определяющих действия фикций управляемости и сферы действия решений, и на пробел между планированием и срывом плана. С другой стороны, можно учесть импульсы из истории знания, рассматривая кабинет и политические действия как своего рода ситуацию лаборатории102. Вместо того чтобы опираться на индивидуальных главных исторических акторов, таких как Питт, Шуазель, Кауниц, Фридрих II и т. п., следует рассматривать процессы решения под углом зрения социальной антропологии как коллективный акт103. Здесь также речь идет о практиках, социальный смысл которых требуется расшифровать, а не предполагать как данность. Многочасовая речь в парламенте была в том числе телесным, перформативным актом; на процессы принятия решений могли влиять страхи, эмоции и антипатии; технические системы записи, документация списков и дел порождали особые условия и влияли со своей стороны на решения104. Аналогично науке внешнюю политику следует понимать не как бесплотную игру расчетов, но привязывать к ее конкретным мерам реализации. Если посмотреть с другой стороны, «кабинетный стол» должен играть роль не только как метафора, но и как материальная составная часть комплексных политических установок (setting)105. И лишь в том случае, если удастся проработать на микроуровне политическую, военную и экономическую сферы, историческая антропология войны может дать больше, чем отводящееся на ее долю в процессе разделения компетенций исследование элементарных переживаний человека, значение которых в принципе не отрицает и классический военный и дипломатический историк, но с легкостью выводит их за пределы «существенного».
3. ВОЕННАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ: ВОСПРИЯТИЕ, ОПЫТ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
В центре исторической антропологии всегда был действующий, интерпретирующий и страдающий человеческий субъект106. Отсюда очевидно всплывает вопрос о страдающих в войну. И здесь нас также подстерегает парадокс Зиммеля: разве страдающий в войне индивид не сталкивается с одними и теми же экзистенциальными вызовами?
Широкая глобально-историческая перспектива Семилетней войны дает новые характерные результаты и с точки зрения истории жизненного опыта107. Так, в фокусе оказываются не только особенно пострадавшие от войны территории Священной Римской империи, например Саксония, но и коренные американцы с порабощенными африканцами. Обе эти группы можно считать основными проигравшими в войне108. Исследование роли культур аборигенов Северной Америки в «Войне с французами и индейцами» (French and Indian War)109 открыло в том числе методологические возможности для антропологических перспектив110. Здесь исследователи имели дело с акторами, культурно совершенно инаковыми: не только с другим языком, но и с другой религией, с другой экономикой, другими практиками насилия и т. п. К тому же это были бесписьменные культуры со своими средствами коммуникации, как, например, вампум111. Их исследование требовало иных методик и приглашало присмотреться к культурным отличиям.
Но страдало и гражданское население Европы, не говоря уже о солдатах на многочисленных полях сражений112. Речь должна идти, однако, не о том, чтобы мерить разные группы акторов относительно друг друга, а о расширении перспективы для преодоления старых евро- или тем более прусскоцентричных нарративов и историзации насилия.
В сравнении с Тридцатилетней войной и Коалиционными войнами конца XVIII в. относительно остальной части столетия утвердилось мнение об «укрощенной Беллоне»113. И хотя многие эмпирические данные говорят в реальности не в пользу ограничения конфликтов, нельзя все же полностью отрицать динамику и более выраженное «дозирование» в ведении войны114. Ни один город не разделил судьбу Магдебурга в Тридцатилетней войне, однако в сельской местности ситуация выглядела иначе. Население здесь по большей части не попадало в поле зрения просвещенной общественности и было подвержено произволу высокомобильных конных легких войск в «малой войне»115. В то же время степень насилия различалась в зависимости от региона и состава акторов. Находившиеся на самообеспечении и не имевшие возможностей словесной коммуникации казаки обнаруживают иную культуру насилия, нежели прусский вольный корпус у стен имперского города или обманутые в ожидании трофеев племена индейцев116. «Национальные» историки XIX в. видели «особый феномен Семилетней [войны] в том, что на арене боевых действий в ней в большей степени, нежели в других мировых войнах, появлялись наряду с цивилизованными национальными элементами также варварские и полудикие нации: в Канаде за и против Англии сражались орды индейцев; Австрия выставила в поле массы своих кроатов и пандуров; Россия включила в состав армии вторжения народности, которые до того редко видели в глубинных регионах Европы и появление которых было способно вызвать в памяти в центре современной цивилизации эпоху Великого переселения народов. Если в том, чтобы не гнушаться прибегнуть к призыву иррегулярных вооруженных масс, российские власти были схожи с прусскими, то происходило это, в отличие от Пруссии, не из‐за острой нужды в регулярных бойцах, но потому, что здесь от применения подобных национальных ополчений ожидали существенных военных преимуществ»117.
Так с вступлением в войну Российской империи создалась особая ситуация встречи между культурами. Российские иррегулярные войска в лице конных казаков и калмыков прежде всего способствовали формированию образа столкнувшейся с логистическими проблемами российской армии в Пруссии, который оставил устойчивые следы и в пропаганде, и в повседневной жизни рядового населения118.
С историко-антропологической перспективы интересны, с одной стороны, современные эпохе сведения о казаках и калмыках, в которых образ врага соединен со своего рода протоэтнографией и которые обращают внимание на образ жизни, одежду, религию и боевой дух этих войск119. С другой стороны, с точки зрения исторической антропологии насилия встает вопрос о причинах и интерпретации военного насилия, воспринятого как нерегулярное. Связывание его с иррегулярными частями нуждается в эмпирической проверке с включением в исследования отклонений от нормы среди регулярных войск120.
Крайняя эскалация насилия отнюдь не ограничивалась, таким образом, неевропейским театром военных действий121. Наряду с акцентом на эксцессах насилия и по большей части еще не реализованными исследованиями нарушения существующих норм линейными войсками необходимо, в частности, подвергнуть эмпирической проверке тематические поля, которые привлекаются для подтверждения тезиса об «укрощении» войны: это обмен военнопленными и обращение с ними, сдача укрепленных мест, военно-полевая медицина, уход за неприятельскими ранеными, квартирование и трофеи, отказ от нерационально жестоких видов артиллерийских снарядов, жесткая линейная система, исключительно стратегии маневрирования, а также применение правовых норм к ведению боевых действий в целом122.
То, что степень разрушительности в Семилетнюю войну достигла необыкновенных масштабов, доказывает факт постоянного сравнения ее современниками с Тридцатилетней войной, а не с различными войнами за наследства между ними. В 1760 г. в «Лейпцигском сборнике» (Leipziger Sammlungen) появилась статья под названием «Соображения анонима по поводу разорений в экономике и политике, причиняемых нынешней войной». Основной линией аргументации служит сравнение с обстоятельствами Тридцатилетней войны:
В эпоху около 1647−1657 гг. в Германии отчасти все еще полыхал ужасный огонь всеобщей внутренней 30-летней войны, отчасти же после заключенных в Оснабрюке и Мюнстере мирных договоров многим местностям нашего отечества предстояло перенести в течение где более, где менее длительного времени много страшных последствий этой войны – величайшие бедствия, огромные страдания и нужду. Люди мечтали о лучших временах и размышляли о различных средствах, чтобы наконец быть избавленными от этого наказания Божьего, за которое его не признавали разве что те, кто именовался христианами, не имея веры. В годы же с 1757‐го и по текущий 1759-й, то есть спустя сто лет, Господь вновь посетил нас, попустив ужасный пламень войны на все наше отечество, который ныне угрожает пожрать и сжечь все, как в 30-летнюю войну123.
Но в то же время автор признает перемены в ведении войны: «Справедливо, правда, что манеры и способы ведения 30-летней войны были несколько более жестокими и бесчеловечными, чем теперь; равно вид оставленных ей следов, как и известия о той войне, представляют нам огромный размер тогдашних бедствий». Однако далее в тексте, ссылающемся в том числе на опустошение Пфальца войсками Людовика XIV, эта релятивизация сама получает относительный характер. Здесь можно увидеть риторические стратегии, сопоставляющие собственные страдания с примером наивысшего ужаса, оставшегося в коллективной памяти, но это может и указывать на манеру восприятия и интерпретации погружающегося во все больший хаос мира, объятого пламенем. Императив маневренной стратегии не в полной мере снижал жертвы среди мирного населения, он скорее смещал их распределение.
Постоянное присутствие проходящих мимо крупных армейских соединений способствовало распространению так называемых лагерных болезней в том числе в городах. Перспектива, обращающая внимание на эти потери, меняет и в целом картину Семилетней войны, поскольку гораздо больше мужчин стало жертвами болезней, чем было убито в боевых действиях124. При отступлении на восток, согласно склонному к преувеличениям Архенгольцу, «тысячи» калмыков погибли от натуральной, или, как тогда ее называли, «черной», оспы – болезни, с которой они сталкивались в степи, но считали ее неизлечимой и, очевидно, были ей подвержены в большей степени, нежели другие военнослужащие российской армии125.
Только на Кубе после оккупации ее британцами в 1762 г. от инфекционных болезней погибло больше мужчин, чем в сражениях «Войны с французами и индейцами» на североамериканском театре126. Однако страдания окончивших свою жизнь в болезни никак не отражены в историографии, тогда как малейшие перестрелки в «Войне с французами и индейцами» исследованы досконально. На двух театрах Семилетней войны вообще не происходило никаких значимых битв – это так называемая Померанская война между Швецией и Пруссией (1757–1762) и Фантастическая война между Испанией и Португалией (1762)127. В то же время в обеих войнах тысячи солдат стали жертвами голода и инфекционных болезней.
Историко-медицинская перспектива подводит к теме истории тела, еще одного плодотворного поля исследований исторической антропологии128. Солдаты Старого режима были практически беззащитны против воздействия погоды и окружающей среды, и в сражении форма защищала их минимально129. Актуальной темой постоянно оставалось питание, что однозначно указывает на аграрный характер тогдашнего общества, в котором основным продуктом питания был хлеб, а повышение цен быстро становилось для низших классов критическим вопросом выживания130.
Примером того, как, исходя из питания, современники могли оценивать менталитет чужих войск, может служить свидетельство саксонского офицера Иоганна Готлиба Тильке (1731−1787) о «хлебе» в российской армии: «Русские солдаты получают не хлеб, а зерно, которое они мелят или, точнее, дробят на ручных мельницах, имеющихся по одной на палатку». Из муки в бочках или в земляных полостях готовится квашня и выпечка: «Эти сухари на вид как обожженная в печи глина. Чтобы разжевать их, нужны хорошие зубы и еще лучшие десны, которые обыкновенно затем кровоточат. <…> Если сухари у них кончаются, а выпечь новые не получается, они делают себе тюрю из воды с мукой. Такие блюда вряд ли пришлись бы по вкусу нашим изнеженным солдатам. Русский же не только доволен, но и выносит без ропота даже голод и величайшую нужду, если сказать ему, что это по приказанию или с одобрения его императрицы»131.
Взгляд вблизи позволяет также увидеть языковые компетенции или их отсутствие в качестве важного фактора взаимопонимания и взаимодействия. Многие исторические работы походят на старый голливудский фильм, в котором актеры всегда говорят на одном и том же языке. Хотя латынь и французский составляли универсальные средства общения, в основном господствовало безъязычие132. А. Т. Болотов извлекал выгоду из своего знания немецкого языка; он пишет о Тильзите: «Мне немецкий мой язык и в сем случае очень помог. Всем немцам можно то в похвалу сказать, что они отменно благосклонны к тем, которые из иностранных умеют говорить их языком». Он неожиданно получает от пекаря «десяток хлебцов». «Сим образом удавалось мне и все прочее доставать себе купить несравненно с лучшим успехом, нежели другим, языка немецкого неразумеющим»133. Британцы в северо-западных немецких землях столкнулись с жителями, не говорившими по-английски, а среди британцев, отправленных в Португалию, лишь единицы знали португальский. Следствием стали многочисленные трения в повседневной жизни.
История тела во многом распространилась также на историю чувств, задавая вопросы о зрении, слухе, вкусе, обонянии и осязании134. Постоянное внимание к порядкам видимого позитивно отразилось на истории звука135. Были исследованы различные звуковые ландшафты на войне и в мирное время, а также культурная кодировка звуков136. Получилась широкая палитра акустических факторов от колокольного звона и грома пушек как наиболее громких звуковых эффектов раннего Нового времени до пения во время баталии или тишины.
Протестантский пастор Христиан Теге описал при Цорндорфе в 1758 г. со стороны российской армии приближение прусских войск:
До нас долетал страшный бой прусских барабанов, но [их полевой] музыки еще не было слышно. Когда же пруссаки стали подходить ближе, мы услышали звуки гобоев, игравших известный гимн Ich bin ja, Herr, in deiner Macht! (Господи, я во власти Твоей!). Ни слова о том, что я почувствовал [при этой музыке]. Но, думаю, никому не покажется необычным, что впоследствии, в течение моей долгой жизни, эта музыка всегда возбуждала во мне самую сильную горесть.
С началом орудийной канонады звуковое поле битвы из полевой музыки превратилось в грохот баталии. Теге пишет далее:
Пока неприятель приближался шумно и торжественно, российская армия стояла так неподвижно и тихо, что казалось, там нет ни одной живой души. Но вот раздался гром прусских пушек, и я отъехал внутрь каре, спустившись в углубление. <…> Страшный рев пушек и пальба из ружей ужасно усиливались. <…> Пули беспрерывно свистели в воздухе.
Шум оглушает и постепенно наполняется криками раненых:
«Был час пополудни. Битва между тем страшно усиливалась. Мы ехали окруженные людьми, оглушаемые криком раненых и умирающих. Прусские пули достигали русских уже и здесь. Даже при нашем выезде [из каре] пуля попала в котелок казака, наделав такого звона, что я чуть не лишился чувств»137.
Шум битвы не только имел тактическое и топическое значение, но и действительно, очевидно, в большей степени, нежели оптические впечатления, оставался в памяти исторических акторов.
Вызовы и новые впечатления война принесла и для вкусовых ощущений. В свидетельствах современников оставили свои следы непривычные продукты питания или их суррогаты, а также опустошение, трупы и нечистоты138. Прежние призывы преодолеть зацикливание на текстовых источниках получили разнообразные новые перспективы в свете «материального поворота» (material turn)139. Так историческая антропология сталкивается в области исследования битв с человеческой антропологией, однако ее эвристический потенциал прежде всего полезен для событий, мало задокументированных письменными источниками. Исследований по Семилетней войне здесь пока немного, но и в этой области глобальная перспектива обещает важные открытия, например для археологии фортов в Северной Америке или для отдельных баталий в Европе140.
Несмотря на давно высказанную потребность в «военной истории, которая рассказывает о смерти», именно акт убийства составляет парадоксальный пробел в исследовании войн XVIII в. в целом и истории Семилетней войны в частности141. Причины заключаются как в ситуации с источниками, так и в исследовательских интересах. Насыщенное описание боевых действий напоминает традиционную военно-оперативную историю, а такие труды, как «Лик битвы» Джона Кигана, до сих пор не нашли достаточно продолжателей142. Это также прежде всего объясняется ситуацией с документами: источники, которыми Киган располагал для битвы при Ватерлоо, не представлены так плотно ни для одной из битв Семилетней войны143. Следующая эвристическая проблема – в недостаточной тематизации в личных свидетельствах и эго-документах собственного насилия. Почти все изображают себя пассивными жертвами и лишь очень редко активными действующими лицами. Возможные причины многообразны и здесь. Мотивом могли стать, например, религиозно обусловленные проблемы тематизации у пиетистов, писавших обычно охотно, равно как и ощущение себя у пехотинца лишь колесиком большой машины: он честно расстреливает все свои патроны при стрельбе плутонгами, не попадая ни в кого конкретно144. Характерно, что у егерей это уже выглядит по-другому145. Кроме того, большинство свидетельств оставили офицеры, которые скорее командовали, чем сражались сами146. В высказываниях о физическом насилии предпочитали прибегать к топике невыразимости или использованию уменьшительных форм и эвфемизмов147. Возраставшее значение артиллерии имело следствием как ощущение беззащитности перед смертельным огнем с дистанции, так и эстетизацию артиллерийского огня на полях сражений и при осадах городов148. Особое впечатление на европейских полях битв оставили шуваловские гаубицы, намеренное засекречивание которых создало особую ауру чудо-оружия149.
Взгляд на нормативные источники, такие как уставы и справочники по экзерциции, показывает, что в них, в отличие от современных руководств, эффективность убийства не тематизировалась. У солдат почти не имелось, таким образом, и вербальных образцов.
С тематикой насилия тесно связаны и современные эпохе гендерные образы. На сегодняшний день имеются многочисленные исследования представлений о маскулинности в Семилетней войне, в то время как классические темы истории женщин затронуты сравнительно мало, во всяком случае для европейского театра150. Между тем во время войны женщины временно брали на себя классические мужские роли, будь то переодетая солдатка или поэтесса, они становились жертвами сексуального насилия, ухаживали за больными или, овдовев, вынуждены были вести домашнее хозяйство151. Здесь еще достаточно потенциала для будущих исследований.
4. О ЛОЖАХ И ТАБАКЕРКАХ: МИКРОИСТОРИИ ГЛОБАЛЬНОГО КОНФЛИКТА
Тот факт, что Семилетняя война была конфликтом глобального масштаба, не является для исторической науки чем-то новым. В XIX и XX вв. этот глобальный аспект несколько отступил на задний план, но за последние тридцать лет стал привлекать внимание снова. Тем не менее переплетенная история войны оставалась скорее абстрактной, методологически она или следовала за региональными исследованиями (area studies), обращая внимание на определенную территорию за океаном, или тематизировала исторические переплетения, исходя из перспективы геополитических стратегий. Расширение перспективы произошло благодаря истории коммуникации, медиа и прессы, которая исследовала информационную коммуникацию с колониями или дискуссии о колониальной политике в европейской и американской прессе152. У грамотной публики имелся широкий выбор печатных изданий с богатой информацией в том числе об отдаленных местах событий. К этому эвристическому подходу, рассматривающему информацию и циркуляцию знания, можно добавить еще два, не производных в строгом смысле из исторической антропологии, но получивших благодаря ей решающий импульс. Это история того, что можно анахронически назвать транснациональными организациями, и история материальной культуры. Купцы и торговцы, а следовательно, и торговые компании вроде Британской (East India Company) или Французской Ост-Индской (Companie des Indes orientales) попали в поле зрения историков уже давно153. В меньшей степени в исследованиях по Семилетней войне фигурировали протестантские миссионеры, орден иезуитов или масоны. Все это «общества» с богатой исследовательской литературой, которая, однако, применительно к войне не поднималась до перспективы геополитики. Если Британская Ост-Индская компания практически выступала в войне как отдельная сторона, то о других этого безусловно сказать нельзя, однако они распространяли информацию, поддерживали глобальные сети, осуществляли на местах пастырскую деятельность и медицинский уход154. Даже при том что Семилетняя война не была религиозной, роль конфессиональных и религиозных различий в повседневности трудно переоценить155. Религиозные акторы обладали здесь большим влиянием, например когда уговаривали солдат дезертировать или, наоборот, воодушевляли на богослужениях. Воинские ложи перемещались вместе с армией, давая возможность перемены обстановки и контактов с местными элитами156.
Наряду с организованными акторами существовали также те, кого историки часто именуют посредниками между культурами (go-betweens, cultural brokers), кто путешествовал между разными мирами более или менее в одиночку157. Среди них Ананда Ранга Пиллаи (1709–1761), индийский торговец из Пондишери, который поддерживал контакты с французами и тщательно записывал события войны в объемном дневнике; отметил он и Лиссабонское землетрясение158. Африканец Олауда Эквиано (1745–1797), который провел войну в качестве раба-прислужника на борту разных кораблей, или Маркус Ульман (1738–1764), ученик цирюльника, дезертировавший из швейцарского полка в Вестфалии и позднее оказавшийся в качестве судового врача при осаде британцами Гаваны, – все они оставили свидетельства своей бурной жизни на стыке между разными мирами159.
Самым распространенным словесным образом, который использовали современники для интерпретации глобальных взаимосвязей, был мировой пожар или пламя, перекидывавшееся от искры из другого региона160. Так происходила актуализация и своего рода глобализация традиционного шаблона интерпретации. Однако с точки зрения исторической антропологии современники могли прибегнуть и к более оригинальным образам, в которых оказывается задействована материальная культура161. Ирландский новеллист Чарльз Джонстон (1719–1800) в 1760−1765 гг. опубликовал сначала в двух (1760), а затем в четырех томах (1765) сатиру «Хризал, или Приключения гинеи»162. В произведении, которое отдает дань целому жанру рассказов от третьего лица (it-narratives), героем выступает одушевленная монета, которая переходит из рук в руки и вращается по всему миру163. После ее «рождения» в Перу среди ее владельцев оказываются люди «всякого положения в жизни, через руки которых она прошла, в Америке, Англии, Голландии, Германии и Португалии». Наряду с обувью, тростью, плащом или письменным столом платежные средства были особенно популярны в рассказах от лица вещей; в XVIII в. неизбежно должны были последовать и приключения банкноты или рупии. И сам замысел не принадлежит Джонстону, он опирался на предшественников начала XVIII в. То, что делает «Хризал» столь современным, наряду с «социальной жизнью вещей» или «говорящих вещей», – это перспектива глобального обращения и первенства в системе ценностей денег, которые объединяют микро- и макроуровень войны в духе «плоской онтологии»164. О восприятии войны вне Европы свидетельствуют и изделия современных эпохе художественных ремесел, которые можно назвать сувенирной продукцией раннего Нового времени: табакерки, памятные, или «виватные», ленты (Vivatbänder), шраубталеры – составные талеры с вложенными бумажными сюжетными панорамами, фарфор и т. п. «Виватные» ленты с набивкой на ткани носили на публике как петлицы, а также коллекционировали и использовали как сувенир165. На одной из таких лент 1758 г. изображена, например, битва при Цорндорфе между пруссаками и русскими вместе со взятием британцами Луисбурга166. Тематические табакерки из Изерлона пережили во время войны настоящий бум батальных сюжетов167. Так, на одной из них изображены вместе франко-британское морское сражение при Картахене 1758 г. и битва при Росбахе 1757 г. – и там и там французы потерпели поражение168.
Поражения французов и связанных с ними с 1761 г. «семейными» узами союзников-испанцев напоминают также о том, что при всем внимании к историям переплетений не следует упускать из виду и идущие параллельно истории разъединений169. Французская колониальная империя после войны сначала значительно сократилась и была в поиске новых зон влияния. Последствиями этого стали как попытка колонизации Гвианы, закончившаяся гуманитарной катастрофой, так и последующая ориентация на Африку170. Если следовать за многочисленными работами, которые видят в «Французской и индейской войне» этап на пути к Войне за независимость США, то разъединение в среднесрочной перспективе коснулось и значительной части Британской империи171. Считать ли это предметом исторической антропологии, а не классической истории геополитики и империй? В Куру, ныне городке Французской Гвианы, где среди прочих 17 тысяч переселенцев пытались поселить около 11 тысяч колонистов-католиков из Эльзаса и юго-западной Германии, вспыхнули болезни172. Около 10 тысяч человек умерли от недоедания, горячки и эпидемий.
Не надо думать – хотя события 2020 г. с эпидемией ковида и могут наводить на такие мысли, – что болезни следует объявить теперь все объясняющим результативным фактором в истории. Но в то же время тропические болезни британских экспедиционных войск на Кубе и Война за независимость США связаны между собой, пусть и неприметным и косвенным образом, поскольку на Кубе были задействованы полки из Нью-Йорка, отсутствовавшие на Понтиакской войне против индейцев, произошедшей сразу вслед за Семилетней. Их потери внушили населению Восточного побережья убеждение, что они достаточно пострадали на войне, вопреки обвинениям колонистов в том, что они не поддерживают единство, неблагодарны и нелояльны. Именно в повседневной жизни различные меры британцев в сфере налогообложения стали восприниматься болезненно, что способствовало формированию чувства общности колонистов.
5. ИТОГИ
История восприятия войны несомненно играет центральную роль, но не равнозначна исторической антропологии войны: последняя скорее тяготеет к малой «тотальной истории» или «детальной истории целого»173. Это требует объяснений, поскольку к «тотальной истории» в Германии 1980−1990‐х гг. относились уничижительно, понимая ее в намеренно искаженном виде как высокомерную попытку изображения исторического феномена во всей его целостности174. На самом же деле подразумевается множественность перспектив и отражение этой множественности в нарративе, который не ограничивается одной группой акторов, одним жанром или одним эвристическим методом. Так история войны становится также тестовым случаем для историографической практики исторической антропологии. Так предмет войны ставит перед ней следующие вызовы: наряду с уже хорошо протоптанными путями истории восприятия «снизу» требуется заново заняться и такими классическими темами, как финансирование армии, логистика, военная техника или кабинетная политика.
Множественность перспектив не означает простого приплюсования процессов и контекстов, в особенности в истории глобальных переплетений. Глобальное измерение Семилетней войны содержится в отдельных людях, их практиках и свидетельствах, а не в отдельной от них структуре sui generis. Кроме того, пары микро vs макро и локальное vs глобальное не идентичны и не взаимозаменяемы175. Создавать нарративы с множественными перспективами – значит не лишать акторов их интенциональности, но прежде всего бережно контекстуализировать их намерения. Для этого требуется симметричная перспектива, которая не различает априори главных и второстепенных акторов. Симметрия – это и важный корректирующий фактор для изображения процессов, чтобы избежать нарративного шаблона телеологической истории победителей. Современники Семилетней войны сами показали пример, когда в 1763 г., после подписания Парижского мира, в Лондоне вышел один из первых романов о будущем, рисовавший мировую гегемонию французов в XIX и XX вв. как следствие слишком мягких с британской точки зрения условий мирного договора176. Наконец, для истории войны «вблизи», которая критически держит в уме разницу между предметом и перспективой, наилучшим мотивом представляется стремление к миру177.
65
«Что за гибельная война! От Пондишери до Канады, от России до Сенегала весь мир превратился в один большой список потерь!» (Хорас Уолпол – Хорасу Манну, 10.05.1759 // Walpole H. The Letters of Horace Walpole, Fourth Earl of Orford / Ed. by P. Toynbee. Vol. 4. Oxford, 1903. P. 260).
66
Füssel M. Der Preis des Ruhms. Eine Weltgeschichte des Siebenjährigen Krieges. München, 2019. S. 110–112. Очевидно, землетрясения особенно ощущались в Ахене, ср.: Janssen J. Die historischen Notizen des Bürgermeisterei-Dieners Johannes Janssen // Ariovist von Fürth H. (Hrsg.). Beiträge und Material zur Geschichte der Aachener Patrizier-Familien. 3 Bde. 1882−1890. Bd. 3. Aachen, 1890. S. 1–390; о Мюльхаузене в Тюрингии в этой связи см.: Jordan R. Chronik der Stadt Mühlhausen in Thüringen. Bd. 3. 1600–1770. Mühlhausen, 1906, S. 188 ff.
67
Ср., например: Bähr A. Der grausame Komet. Himmelszeichen und Weltgeschehen im Dreißigjährigen Krieg. Reinbek, 2017.
68
Хорошая обзорная работа: Danley M. H., Speelman P. J. (Eds) The Seven Years’ War. Global Views. Leiden; Boston, 2012.
69
См. в общем о мирных договорах: Füssel. Preis des Ruhms. S. 450–469.
70
Lauer G., Unger T. (Hrsg.) Das Erdbeben von Lissabon und der Katastrophendiskurs im 18. Jahrhundert. Göttingen, 2008.
71
Ср.: Löffler U. Lissabons Fall – Europas Schrecken. Die Deutung des Erdbebens von Lissabon im deutschsprachigen Protestantismus des 18. Jahrhunderts. Berlin; New York, 1999. S. 517–525, 631–647.
72
Вольтер. Кандид, или Оптимизм // https://imwerden.de/pdf/voltaire_candide.pdf (дата обращения 27.09.2022).
73
Ср. уже в: Salewski M. 1756 und die Folgen. Einleitung in den Schwerpunkt // Historische Mitteilungen 18. 2005. S. 1–6, здесь S. 3.
74
Ginzburg C. Geschichte und Geschichten. Über Archive, Marlene Dietrich und die Lust an der Geschichte // Spurensicherungen. Über Verborgene Geschichte, Kunst und soziales Gedächtnis. München, 1988, S. 7–28, здесь S. 26.
75
Tanner J. Historische Anthropologie. Version 1.0 // Docupedia-Zeitgeschichte, 03.01.2012. http://docupedia.de/zg/tanner_historische_anthropologie_v1_de_2012. DOI: http://dx.doi.org/10.14765/zzf.dok.2.278.v1 (дата обращения 30.05.2020).
76
Ibid. С 1992 г. в издательстве De Gruyter выходит журнал Paragrana. Internationale Zeitschrift für Historische Anthropologie, с 1993 г. в издательстве Böhlau – журнал Historische Anthropologie. Kultur – Gesellschaft – Alltag.
77
Ср., например: Dressel G. Historische Anthropologie. Eine Einführung. Wien u. a., 1996; van Dülmen R. Historische Anthropologie. Entwicklung – Probleme – Aufgaben. Köln; Weimar; Wien, 2000; Tanner J. Historische Anthropologie zur Einführung. Hamburg, 2004; Winterling A. (Hrsg.) Historische Anthropologie. Stuttgart, 2006.
78
О тенденциях развития см. также: Burschel P. Wie Menschen möglich sind. 20 Jahrgänge «Historische Anthropologie» // Historische Anthropologie 20 H. 2. 2012. S. 152–161.
79
Füssel M. Die Materialität der Frühen Neuzeit. Neuere Forschungen zur Geschichte der materiellen Kultur // Zeitschrift für Historische Forschung 42 H. 3. 2015. S. 433–463.
80
Ghobrial J.-P. (Ed.) Global history and microhistory (Past & Present 242, Issue Supplement 14). Oxford; New York, 2019; Bertrand R., Calafat G. La microhistoire globale. Affaire(s) à suivre // Annales HSS 73/1. 2018. S. 3–18; Medick H.: Turning Global? Microhistory in Extension // Historische Anthropologie 24 H. 2. 2016. S. 241–252; Trivellato F. Is There a Future for Italian Microhistory in the Age of Global History? // California Italian Studies 2 H. 1. 2011 (escholarship.org; дата обращения 28.05.2020).
81
Medick H. Historische Anthropologie // Jordan S. (Hrsg.) Lexikon Geschichtswissenschaft. Hundert Grundbegriffe. Stuttgart, 2002. S. 157–161, здесь S. 160.
82
Ср.: Chvojka E., van Dülmen R., Jung V. (Hrsg.) Neue Blicke. Historische Anthropologie in der Praxis. Wien; Köln; Weimar, 1997.
83
Ср.: Füssel M. Praxeologische Perspektiven in der Frühneuzeitforschung // Brendecke A. (Hrsg.) Praktiken der Frühen Neuzeit. Akteure – Handlungen – Artefakte. Köln; Weimar; Wien, 2015. S. 21–33.
84
Gestrich A. Friedensforschung, Historische Anthropologie und neue Kulturgeschichte // Eckern U., Herwartz-Emden L., Schultze R.-O. (Hrsg.) Friedens- und Konfliktforschung in Deutschland: Eine Bestandsaufnahme. Wiesbaden, 2004. S. 98–115.
85
Ibid. S. 100. Ср., например: Keegan J. Die Kultur des Krieges. Reinbek bei Hamburg, 1997. S. 126–149.
86
Ср. спектр тем у: Dressel. Historische Anthropologie. S. 71–155.
87
Simmel G. Das Problem der historischen Zeit (1916) // Idem. Goethe. Deutschlands innere Wandlung. Das Problem der historischen Zeit. Rembrandt (Gesamtausgabe 16). Frankfurt a. M., 2003. S. 287–304.
88
Ulbricht O. Mikrogeschichte: Menschen und Konflikte in der Frühen Neuzeit. Frankfurt a. M., 2009.
89
Философский термин flat ontology (М. Де-Ланда, Г. Харман и др.) для обозначения подхода, в котором все объекты признаются онтологически явлениями одного порядка. – Прим. ред.
90
Schatzki T. R. Praxistheorie als flache Ontologie // Schäfer H. (Hrsg.) Praxistheorie. Ein soziologisches Forschungsprogramm. Bielefeld, 2016. S. 29–44.
91
О преодолении дихотомии микро/макро и различии между эпистемологическими и онтологическими проблемами ср.: Hoebel T., Knöbl W. Gewalt erklären! Plädoyer für eine entdeckende Prozesssoziologie. Hamburg, 2019. S. 127–155.
92
Ср.: Ginzburg C. Mikro-Historie. Zwei oder drei Dinge, die ich von ihr weiß // Historische Anthropologie 1. 1993. S. 169–192, здесь S. 184.
93
Stellner F. Sedmiletá válka v Evrope. Praha, 2000; Szabo F. A. J. The Seven Years’ War in Europe, 1756–1763. Harlow, 2008; Baugh D. A. The Global Seven Years’ War, 1754–1763. Britain and France in a Great Power Contest. Harlow, 2011; Dziembowski E. La Guerre de Sept Ans. Paris, 2015; Bremm K.-J. Preußen bewegt die Welt. Der Siebenjährige Krieg 1756–63. Darmstadt, 2017.
94
Ср., например, статьи о «культуре» войны в: Hofstra W. R. (Hrsg.) Cultures in Conflict: The Seven Years’ War in North America. New York, 2007; De Bruyn F., Regan S. (Eds) The Culture of the Seven Years’ War: Empire, Identity, and the Arts in the Eighteenth-Century Atlantic World. Toronto etc., 2014; Externbrink S. (Hrsg.) Der Siebenjährige Krieg (1756–1763). Ein europäischer Weltkrieg im Zeitalter der Aufklärung. Berlin, 2011.
95
Wilder G. From Optic to Topic: The Foreclosure Effect of Historiographic Turns // The American Historical Review 117. Vol. 3. 2012. P. 723–745.
96
Ср. яркий пример на материале Тридцатилетней войны: Medick H. Der Dreißigjährige Krieg. Zeugnisse vom Leben mit Gewalt. Göttingen, 2018.
97
Об альтернативном взгляде на проблематику «разделения труда» с точки зрения структур ср.: Hausen K. Historische Anthropologie – ein historiographisches Programm? // Historische Anthropologie 5 H. 3. 1997. S. 454–462, здесь S. 460.
98
Heinrich G. Friedrich II. von Preußen. Leistung und Leben eines großen Königs. Berlin, 2009. S. 203.
99
Ср., например: Neu T. Glocal Credit. Die britische Finanzlogistik als fraktales Phänomen am Beispiel des Siebenjährigen Krieges // Füssel M. (Hrsg.) Der Siebenjährige Krieg 1756–1763. Mikro- und Makroperspektiven (Schriften des Historischen Kollegs 105). Berlin; Boston, 2021. S. 75–93.
100
Ср.: Sieder R. Sozialgeschichte auf dem Weg zu einer historischen Kulturwissenschaft // Geschichte und Gesellschaft 20 H. 3. 1994. S. 445–468, здесь S. 447.
101
Ср. обзорно: Köhler M. Neue Forschungen zur Diplomatiegeschichte // Zeitschrift für Historische Forschung 40 H. 2. 2013. S. 257–271. Для Семилетней войны: Externbrink S. Friedrich der Grosse, Maria Theresia und das Alte Reich: Deutschlandbild und Entscheidungsprozesse in der Außenpolitik Frankreichs im Siebenjährigen Krieg. Berlin, 2006.
102
Идеи из области теории организации ср.: Ortmann G. Katzensilber. Organisationsrituale und nachträgliche Sinnstiftung // Paragrana 12 H. 1/2. 2003. S. 539–556. О лабораторном исследовании в истории науки ср.: Knorr Cetina K. Die Fabrikation von Erkenntnis. Zur Anthropologie der Naturwissenschaft. 2. Aufl. Frankfurt a. M., 2002.
103
Так, уже давно в политике Питта был выявлен team work, ср.: Middleton R. The Bells of Victory. The Pitt-Newcastle Ministry and the Conduct of the Seven Years’ War 1757–1762. Cambridge etc., 1985. Методологически инновационный пример этнографии: Latour B. Die Rechtsfabrik. Eine Ethnographie des Conseil d’État. Konstanz, 2016.
104
О paper work списков: Charters E. Empire und Manpower. «Soldaten zählen» im Siebenjährigen Krieg // Füssel. Der Siebenjährige Krieg. S. 59–73.
105
Понятие setting заимствовано из теории акторов и сетей, ср.: Akrich M., Latour B. Zusammenfassung einer zweckmäßigen Terminologie für die Semiotik menschlicher und nicht-menschlicher Konstellationen // Belliger A., Krieger D. J. (Hrsg.) ANThology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie. Bielefeld, 2006. S. 399–405, здесь S. 399.
106
Füssel M. Die Rückkehr des Subjekts in der Kulturgeschichte. Beobachtungen aus praxeologischer Perspektive // Deines S., Jaeger S., Nünning A. (Hrsg.) Historisierte Subjekte – Subjektivierte Historie. Zur Verfügbarkeit und Unverfügbarkeit von Geschichte. Berlin, 2003. S. 141–159.
107
Тематика «восприятия войны» отражена в важных работах, появившихся в рамках одноименной Особой исследовательской группы SFB 437 в Тюбингене (1999–2008); ср.: Schild G. (Hrsg.) Kriegserfahrungen. Krieg und Gesellschaft in der Neuzeit; neue Horizonte der Forschung. Paderborn etc., 2009.
108
Horne G. The Biggest Losers. Africans and the Seven Years’ War // Idem. The Counter-Revolution of 1776: Slave Resistance and the Origins of the United States of America. New York, 2014. P. 161–183; Schneider E. A. The Occupation of Havana: War, Trade, and Slavery in the Atlantic world. Williamsburg, VA, 2018.
109
Отдельное название для Североамериканского театра Семилетней войны. – Прим. ред.
110
Jennings F. Empire of Fortune: Crowns, Colonies and Tribes in the Seven Years’ War in America. New York; London, 1988; White R. The Middle Ground: Indians, Empires, and Republics in the Great Lakes Region, 1650–1815. New York, 1991; Richter D. K. Facing East from Indian Country: a Native History of Early America. Cambridge, MA, 2001.
111
Anderson F. Crucible of war. The Seven Years’ War and the fate of the Empire in British North America, 1754–1766. New York, 2000, P. 20, 279, 624, 629; Idem. The War that made America. A short history of the French and Indian War. New York, 2005. P. 59, 160.
112
Füssel M. Ungesehenes Leiden? Tod und Verwundung auf den Schlachtfeldern des 18. Jahrhunderts // Historische Anthropologie 23 H. 1. 2015. S. 30–53; в широкой сравнительной перспективе: Clauss M., Reiß A., Rüther S. (Hrsg.) Vom Umgang mit den Toten. Sterben im Krieg von der Antike bis zur Gegenwart. Paderborn, 2019.
113
Ср.: Ritter G. Staatskunst und Kriegshandwerk. Das Problem des «Militarismus» in Deutschland. Bd. 1: Die altpreußische Tradition (1740–1890). München, 1959. S. 50–59.
114
Ср.: Wrede M. «Zähmung der Bellona» oder Ökonomie der Gewalt? Überlegungen zur Kultur des Krieges im Ancien régime // Dingel I. et al. (Hrsg.) Theatrum Belli – Theatrum Pacis. Konflikte und Konfliktregelungen im frühneuzeitlichen Europa. Festschrift für Heinz Duchhardt zu seinem 75. Geburtstag. Göttingen, 2018. S. 207–237.
115
Rink M. Partisanen und Landvolk 1730 bis 1830. Eine militär- und sozialgeschichtliche Beziehung zwischen Schrecken und Schutz, zwischen Kampf und Kollaboration // Militärgeschichtliche Zeitschrift 59 H. 1. 2000. S. 23–59; Nowosadtko J. «Gehegter Krieg» – «Gezähmte Bellona»? Kombattanten, Partheygänger, Privatiers und Zivilbevölkerung im sogenannten Kleinen Krieg der Frühen Neuzeit // Becker F. (Hrsg.) Zivilisten und Soldaten. Entgrenzte Gewalt in der Geschichte. Essen, 2015. S. 51–77.
116
Историю эволюции образа казака в Германии см. в: Gehrmann U. Russlandkunde und Osteuropaverständnis im 18. und 19. Jahrhundert. Eine Studie zum deutschen Kosakenbild // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas N. F. 40. 1992. S. 481−500. Для Семилетней войны: Füssel M. «Féroces et barbares?» Cossacks, Kalmyks and Russian Irregular Warfare during the Seven Years’ War // Danley M. H., Speelman P. J. (Eds) The Seven Years’ War. Global Views, Leiden; Boston, 2012. P. 243−262; по имперским городам: Füssel M. Reichsstädte im Siebenjährigen Krieg – Erfahrungen von Gewalt und Okkupation im 18. Jahrhundert // Timpener E., Wittmann H. (Hrsg.) Reichsstadt und Gewalt. Petersberg, 2021. S. 255−278.
117
von Hasenkamp X. Ostpreußen unter dem Doppelaar: Historische Skizze der russischen Invasion in den Tagen des siebenjährigen Krieges (Aus den Neuen Preußischen Provinzialblättern 3. Folge. Bd. VI−XI). Königsberg, 1866. S. 82.
118
Keep J. L. H. Die russische Armee im Siebenjährigen Krieg // Kroener B. R. (Hrsg.) Europa im Zeitalter Friedrichs des Großen. Wirtschaft, Gesellschaft, Kriege. München, 1989. S. 133−169.
119
von Frisch E. Zur Geschichte der russischen Feldzüge im Siebenjährigen Kriege nach den Aufzeichnungen und Beobachtungen der dem russischen Hauptquartier zugeteilten österreichischen Offiziere vornehmlich in den Kriegsjahren 1757/58. Heidelberg, 1919; Rapport eines churfürstl. sächsischen Officiers, Herrn von Trütschlers, an den Premierminister und General, Reichsgrafen von Brühl, die Russisch-Kaiserliche Armee betreffend // Militär Wochenblatt. № 31−38. 1838. S. 124−126, 128−130, 132−134, 136−138, 141−142, 144−146, 149−150, 151−152; [Anonym]. Nachrichten von der Aufführung der Russisch-Kaiserlichen Armee in der Gegend bey Cüstrin, nebst einem Anhange von der Beschaffenheit und Einrichtung dieser Völker, Neumark 1759 // Teutsche Kriegs-Canzley 1759. S. 745−798, 799−825; Tielcke J. G. Beiträge zur Kriegskunst und Geschichte des Krieges von 1756 bis 1763. Freyberg, 1775−1786. Bd. 2. Der Feldzug der Kayserlich-Rußischen und Königlich-Preußischen Völker, im Jahre 1758. Freyberg, 1776.
120
Этой темой в настоящее время в Геттингенском университете занимается Отто Ермаков (Otto Ermakov) на основании сравнения культуры насилия российской и австрийской армий в Семилетней войне в рамках диссертации, являющейся частью субпроекта исследовательской группы Немецкого научного сообщества «Военные культуры насилия».
121
Möbius S. Kriegsgreuel in den Schlachten des Siebenjährigen Krieges in Europa // Neitzel S., Hohrath D. (Hrsg.) Kriegsgreuel. Die Entgrenzung von Gewalt in kriegerischen Konflikten vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Paderborn u. a., 2008. S. 185–203. О нападениях индейцев и взаимном непонимании культур ср. на отдельном примере: Steele I. K. Betrayals: Fort William Henry and the «Massacre». New York, 1990.
122
Перечисляются тезисы статьи об «укрощении Беллоны» Г. Риттера: Ritter. Staatskunst. S. 57. О военнопленных: Morieux R. The Society of Prisoners. Anglo-French Wars and Incarceration in the 18th century. Oxford, 2019.
123
Eines Anonymi Betrachtungen über die Verwüstung der Wirthschaft und Policey, die der jetzige Krieg anrichtet // Zincke G. H. (Hrsg.) Leipziger Sammlungen von Wirthschafftlichen Policey-, Cammer- und Finantz-Sachen, 15. Leipzig, 1760. Ausgaben 169–174. S. 37–68, здесь S. 37.
124
Charters E. M. Disease, War, and the Imperial State: the Welfare of the British Armed Forces during the Seven Years’ War. Chicago, IL. etc., 2014; Pranghofer S. Der Umgang mit Krankheit und Seuchengefahr im Kriegsalltag in Nordwestdeutschland, 1757−1763 // Funke N. u. a. (Hrsg.) Krank vom Krieg. Umgangsweisen und kulturelle Deutungsmuster von der Antike bis in die Moderne. Frankfurt a. M.; New York, 2022. S. 105–133.
125
О болезнях в российской армии: Keep. Russische Armee. S. 148–151. О потерях калмыков: von Archenholz J. W. Geschichte des siebenjährigen Krieges in Deutschland von 1756 bis 1763 // Kunisch J. (Hrsg.) Aufklärung und Kriegserfahrung. Klassische Zeitzeugen zum Siebenjährigen Krieg. Frankfurt a. M., 1996 [1793]. S. 9–513, здесь S. 98−99; почти буквально эти сведения заимствует: von Hülsen C. W. Unter Friedrich dem Großen. Aus den Memoiren des Aeltervaters 1752−1773 / Hrsg. H. von Hülsen. Osnabrück, 1974. S. 48; контекст: von Hasenkamp. Ostpreußen. S. 226–227.
126
McNeill J. R. Mosquito Empires: Ecology and War in the Greater Caribbean, 1620−1914. Cambridge, 2010. P. 169–187; Charters. Disease. P. 65–85; Füssel. Preis des Ruhms. S. 423–424.
127
В качестве обзорных работ см. о Померанской войне: Füssel. Preis des Ruhms. S. 216–219, 302–305, 397–400; о Фантастической войне: Ibid. S. 407–412; Säve T. Sveriges deltagande i sjuåriga kriget åren 1757–1762. Stockholm, 1915; Oldach R. (Hrsg.) Schwedens Beteiligung am Siebenjährigen Krieg im Spiegel des Tageregisters der Stadt Loitz 1757–1759. Greifswald, 2014. S. 24–57; Åselius G. Sweden and the Pommeranian War // Danley, Speelman. Global Views. S. 135–164; Speelman P. J. Strategic Illusions and the Iberian War of 1762 // Danley, Speelman. Global Views. P. 429–460; Barrento A. Guerra Fantastica. The portuguese army in the seven years’ war. Warwick, 2020.
128
Lorenz M. Leibhaftige Vergangenheit: Einführung in die Körpergeschichte. Tübingen, 2000.
129
Ср.: Dinges M. Soldatenkörper in der Frühen Neuzeit. Erfahrungen mit einem unzureichend geschützten, formierten und verletzten Körper in Selbstzeugnissen // van Dülmen R. (Hrsg.) Körper-Geschichten. Frankfurt a. M., 1996. S. 71–98.
130
Ср.: Collet D. Die doppelte Katastrophe: Klima und Kultur in der europäischen Hungerkrise 1770–1772. Göttingen, 2019.
131
Tielke J. G. Beiträge zur Kriegskunst und Geschichte des Krieges von 1756 bis 1763. 6 Bde. Freyberg, 1775−1786, II. Stück Der Feldzug der Kayserlich Rußischen und Königlich Preußischen Völker im Jahre 1758. 2. Aufl. Freyberg, 1781. S. 55.
132
Füssel. Preis des Ruhms. S. 211–214. О взаимосвязях между армией и языком см.: Glück H., Häberlein M. (Hrsg.) Militär und Mehrsprachigkeit im neuzeitlichen Europa, Wiesbaden, 2014.
133
Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков, 1757−1762: В 2 кн. / Подг. текста А. Ю. Веселовой. Кн. 1. СПб., 2022. С. 36−37.
134
Smith M. M. Sensing the past: seeing, hearing, smelling, tasting, and touching in history. Berkeley, 2007; отдельно по XVIII в.: Vila A. C., Classen C. (Eds) A Cultural History of the Senses in the Age of Enlightenment. London etc., 2014.
135
Missfelder J. F. Period Ear. Perspektiven einer Klanggeschichte der Neuzeit // Geschichte und Gesellschaft 38 H. 1. 2012. S. 21–47.
136
Füssel M. Zwischen Schlachtenlärm und Siegesklang. Zur akustischen Repräsentation von militärischer Gewalt im Siebenjährigen Krieg (1756–1763) // Stockhorst S. (Hrsg.) Krieg und Frieden im 18. Jahrhundert. Kulturgeschichtliche Studien. Hannover, 2015. S. 149–166; Möbius S. Ein feste Burg ist unser Gott…! und das entsetzliche Lärmen ihrer Trommeln. Preußische Militärmusik in den Schlachten des Siebenjährigen Krieges // Nowosadtko J., Rogg M. (Hrsg.) «Mars und die Musen». Das Wechselspiel von Militär, Krieg und Kunst in der Frühen Neuzeit. Berlin, 2008. S. 261–289.
137
Теге. Стлб. 1123−1125.
138
Füssel. Preis des Ruhms. S. 208–211.
139
Füssel. Materialität.
140
Starbuck D. R. The Legacy of Fort William Henry: Resurrecting the past. Hanover, NH, 2014; Stahl A. Roßbach 1757 // Meller H. (Hrsg.) Preußische Kriegszeiten: Schlachten, Gefechte und Belagerungen in Sachsen-Anhalt 1757–1814. Halle, 2016. S. 141–166; Podruczny G., Wrzosek J. Lone Grenadier: An Episode from the Battle of Kunersdorf, 12 August 1759 // Journal of Conflict Archaeology 9. № 1. 2014. P. 33–47.
141
Geyer M. Eine Kriegsgeschichte, die vom Tod spricht // Lindenberger T., Lüdtke A. (Hrsg.) Physische Gewalt. Studien zur Geschichte der Neuzeit. Frankfurt a. M., 1995. S. 136–161. Раннее Новое время отсутствует, например, в: von Stietencron H., Rüpke J. (Hrsg.) Töten im Krieg. Freiburg i. Br. Etc., 1995.
142
Keegan J. The face of battle. London, 1976.
143
Первое новаторское исследование: Möbius S. «Von Jast und Hitze wie vertaumelt». Überlegungen zur Wahrnehmung von Gewalt durch preußische Soldaten im Siebenjährigen Krieg // Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte NF 12. 2002. S. 1–34; с точки зрения истории эмоций: Füssel M. Emotions in the Making: The Transformation of Battlefield Experiences during the Seven Years’ War (1756−1763) // van der Haven C., Kuijpers E. (Eds) Battlefield Emotions 1500−1850. Experiences, Practices, Imagination. London, 2016. P. 149–172.
144
Füssel. Preis des Ruhms. S. 117–122, 244–245.
145
Ibid. S. 138.
146
Externbrink S. «Que l’homme est cruel et méchant!» Wahrnehmung von Krieg und Gewalt durch französische Offiziere im Siebenjährigen Krieg // Historische Mitteilungen 18. 2005. S. 44–57.
147
Bath F. C. Die Schlacht bei Minden 1759 in der Sicht englischer Kampfteilnehmer // Mitteilungen des Mindener Geschichtsvereins 48. 1976. S. 104–114.
148
Ср., например, описание А. Т. Болотовым битвы при Гросс-Егерсдорфе, Füssel. Preis des Ruhms. S. 153 и критику в Пруссии бомбардировки Кюстрина (Ibid. S. 241).
149
Dirrheimer G., Fritz F. Einhörner und Schuwalowsche Haubitzen. Russische Geschützlieferungen an die Österreicher im Siebenjährigen Krieg // Allmayer-Beck J. C. (Hrsg.) Maria Theresia: Beiträge zur Geschichte des Heerwesens ihrer Zeit. Graz; Wien; Köln, 1967. S. 54–80; Keep. Russische Armee. S. 140.
150
Möbius S. «Bravthun», «entmannende Furcht» und «schöne Überläuferinnen». Zum Männlichkeitsbild preussischer Soldaten im siebenjährigen Krieg in Quellen aus Magdeburg, Halle und der Altmark // Labouvie E. (Hrsg.) Leben in der Stadt. Eine Kultur- und Geschlechtergeschichte Magdeburgs. Köln; Weimar; Wien, 2004. S. 79–96; Boulware T. «We are MEN». Native American and Euroamerican Projections of Masculinity during the Seven Years’ War // Foster T. A. (Ed.) Manliness in Early America. New York; London, 2011. P. 51–70.
151
Ср.: Füssel M. Unsichtbare Zeugen. Frauen im Siebenjährigen Krieg // Brockfeld S., Schnelling-Reinicke I. (Hrsg.) Karrieren in Preußen – Frauen in Männerdomänen. Berlin, 2020. S. 189–209; Engelen B. Soldatenfrauen in Preußen: Eine Strukturanalyse der Garnisonsgesellschaft im späten 17. und 18. Jahrhundert. Münster, 2005; Fatherly S. Tending the Army. Women and the British General Hospital in North America, 1754–1763 // Early American Studies: An Interdisciplinary Journal 10. 2012. P. 566–599; Way P. Venus and Mars: Women and the British-American Army in the Seven Years’ War // Flavell J., Conway P. (Eds) Britain and America Go to War: The Impact of War and Warfare in Anglo-America, 1754–1815. Gainesville, 2004. P. 41–68.
152
Banks K. Chasing Empire across the Sea. Communications and the State in the French Atlantic, 1713–1763. Montreal, 2002; Wien T. Rex in fabula. Travailler l’inquiétude dans la correspondance adressée aux autorités métropolitaines depuis le Canada (1700–1760) // Outre-mers 96. 2009. P. 65–85. О прессе ср.: Spector E. D. English Literary Periodicals and the Climate of Opinion During the Seven Years’ War. Den Haag, 1966; Schweizer K. W. Foreign Policy and the 18th Century English Press: The Case of Israel Mauduit’s Considerations on the Present German War // Publishing History 39. 1996. P. 45–53; Copeland D. A. Debating the Issues in Colonial Newspapers. Primary Documents on Events of the Period. Westport, CT u. a., 2000. P. 165–175; Schumann M., Schweizer K. W. Anglo-American War Reporting, 1749–1763: The Press and a Research Strategy // Canadian Journal of History XLIII. 2008. P. 265–277; Persson M. Mediating the Enemy: Prussian representations of Austria, France and Sweden during the Seven Years’ War // German History 32. Vol. 2. 2014. P. 181–200; Füssel. Preis des Ruhms. S. 315–345.
153
Vaughn J. M. The politics of empire at the accession of George III: the East India Company and the crisis and transformation of Britain’s imperial state. New Haven; London, 2019; Mann M. Bengalen im Umbruch: die Herausbildung des britischen Kolonialstaates 1754–1793. Stuttgart, 2000; Haudrère P. La Compagnie française des Indes aux XVIII siècle. 2 vols. Paris, 2005.
154
Thwaites R. G. (Ed.) The Jesuit relations and allied documents. Vol. 70: All missions: 1747−1764. Vol. 71: Lower Canada. Illinois: 1759–1791. Miscellaneous errata. New York, NY, 1959; Flucke C. (Hrsg.) Die litterae annuae. Die Jahresberichte der Gesellschaft Jesu aus Altona und Hamburg (1598−1781). Zweiter Halbband: 18. Jahrhundert. Münster, 2015; Häberlein M., Schmölz-Häberlein M. Halles Netzwerk im Siebenjährigen Krieg: Kriegserfahrungen und Kriegsdeutungen in einer globalen Kommunikationsgemeinschaft. Halle; Wiesbaden, 2020.
155
Füssel. Preis des Ruhms. S. 190–205; Fuchs A. Der Siebenjährige Krieg als virtueller Religionskrieg an Beispielen aus Preußen, Österreich, Kurhannover und Großbritannien // Brendle F., Schindling A. (Hrsg.) Religionskriege im Alten Reich und in Alteuropa. Münster, 2006. S. 313–343.
156
Harland-Jacobs J. L. Builders of Empire: Freemasons and British Imperialism, 1717–1927. Chapel Hill, NC, 2007; Önnerfors A. Freimaurerei und Offiziertum im 18. Jahrhundert // Militär und Gesellschaft in der Frühen Neuzeit 14 H. 1. 2010. S. 229–250, для Семилетней войны см.: S. 237–238.
157
Schaffer S. u. a. (Eds) The Brokered World. Go-Betweens and Global Intelligence, 1770–1820. Sagamore Beach, 2009.
158
Price J. F., Dodwell H. (Eds) The Private Diary of Ananda Ranga Pillai, Dubash to Joseph John Frederic François Dupleix, … an Governor of Pondichery: a record of matters political, historical, social and personal from 1736 to 1761; Translated from the Tamil. 12 vols. Madras, 1904−1928; о нем: Srinivasachari C. S. Ananda Ranga Pillai, the «Pepys» of French India. With a foreword by Sir Shafant Ahmad Khan. Madras, 1940.
159
Equiano O. The interesting narrative of the life of Olaudah Equiano or Gustavus Vassa the African. London, 1789; о нем: Regan S. Olaudah Equiano and the Seven Years’ War: Slavery, Service and the Sea // De Bruyn, Regan. Culture. P. 235–256; Uhlmann M. Das abwechselnde Fortün oder das veränderte Schicksal eines Jünglingen. Ein Reisebericht aus der Zeit des Siebenjährigen Krieges / Hrsg. von J.-P. Bodmer. Zürich, 1980.
160
Füssel. Preis des Ruhms. S. 68–71.
161
Füssel M., Petersen S. Ananas und Kanonen. Zur materiellen Kultur globaler Kriege im 18. Jahrhundert // Historische Anthropologie 23 H. 3. 2015. S. 366–390.
162
Johnstone C. Chrysal or the Adventures of a Guinea / Ed. by K. Bourque. 2 vols. Kansas City, 2011.
163
Blackwell M. (Ed.) The secret life of things: animals, objects, and it-narratives in eighteenth-century England. Lewisburg, 2007.
164
Appadurai A. (Ed.) The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective. Cambridge, 1986; Daston L. (Ed.) Things That Talk. Object Lessons from Art and Science. New York, 2004.
165
Vanja K. (Hrsg.) Vivat – Vivat – Vivat! Widmungs- und Gedenkbänder aus drei Jahrhunderten. Berlin, 1985.
166
Füssel. Preis des Ruhms. S. 332–334.
167
Ср.: Könenkamp W.-D. Iserlohner Tabaksdosen. Bilder einer Kriegszeit. Münster, 1982; Hertel S. Ein Bild von Freund und Feind. Die Iserlohner Tabaksdosen im Medienkrieg zwischen Friedrich II. und Maria Theresia // Der Märker 67/68. 2019. S. 81–97.
168
Könenkamp. Tabaksdosen. S. 74–75.
169
Ср. также программную статью: Gänger S., Osterhammel J. Denkpause für Globalgeschichte // Merkur 74 H. 855. 2020. S. 79–86.
170
Godfroy M. F. Kourou and the struggle for a French America: war, culture and society, 1730–1830. Houndmills; Basingstoke; Hampshire, 2015; Rothschild E. A Horrible Tragedy in the French Atlantic // Past and Present 192. 2006. P. 67–108; Regourd F. Kourou 1763. Succès d’une enquête, échec d’un projet colonial // Castelnau-L’Estoile C., Regourd F. (Eds) Connaissances et pouvoirs. Les espaces impériaux, XVIe – XVIIIe s. France, Espagne, Portugal. Bordeaux, 2005. P. 233–252.
171
Литература на эту тему необозрима, ср.: Murrin J. M. The French and Indian War, the American Revolution, and the Counterfactual Hypothesis: Reflections on Lawrence Henry Gipson and John Shy // Reviews in American History 1 H. 3. 1973. P. 307–318; Greene J. P. The seven years’ war and the American revolution: The causal relationship reconsidered // The Journal of Imperial and Commonwealth History 8/2. 1980. P. 85–105; Anderson. Crucible. P. 453–746.
172
Braun F., Egenberger K., Hacker W. Auswanderung aus Deidesheim, Weinstrasse, Forst und Niederkirchen nach Südosteuropa und Cajenne im 18. Jahrhundert // Pfälzisch-rheinische Familienkunde 20. 1971. S. 169–176, 207–214 и 21. 1972. S. 245–252, 277–280; Schnabel B. Die Auswanderung aus dem bischöflich-speyerischen Amt Deidesheim in die französische Kolonie Guyana (Cayenne) in den Jahren 1763/1764 // Deidesheimer Heimatblätter 8. 1992. S. 1–27; к истории медицины ср.: Chaia J. Échec d’une tentative de colonisation de la Guyane au XVIIIe siècle. Étude médicale de l’expédition de Kourou 1763–64 // Biologie médicale 47. 1958. P. I–LXXIX.
173
Medick. Krieg. S. 13.
174
Ср. об этом: Füssel M. Die Ganzheit der Geschichte und die Vielheit der Geschichten // Geulen E., Haas C. (Hrsg.) Formen des Ganzen. Göttingen, 2022. S. 379–394.
175
de Vito C. G. Verso una microstoria translocale (Micro-spatial history) // Quaderni Storici 3. 2015. P. 815–833; Idem. History Without Scale: The Micro-Spatial Perspective // Ghobrial. Global History. P. 348–372.
176
[Anonym]. The Reign of George VI, 1900−1925. London, 1763. Ср. об этом: Anderson F. The Peace of Paris, 1763 // Murray W., Lacey J. (Eds) The Making of Peace: Rulers, States, and the Aftermath of War. Cambridge; New York, 2009. P. 101–129.
177
von Krusenstjern B., Medick H. (Hrsg.) Zwischen Alltag und Katastrophe. Der Dreißigjährige Krieg aus der Nähe. Göttingen, 1999.