Монастырь и тюрьма. Места заключения в Западной Европе и в России от Средневековья до модерна
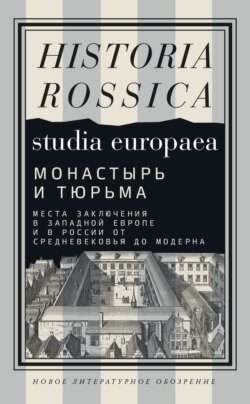
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Коллектив авторов. Монастырь и тюрьма. Места заключения в Западной Европе и в России от Средневековья до модерна
Фальк Бретшнейдер, Катя Махотина, Наталия Мучник. МОНАСТЫРЬ И ТЮРЬМА. ВВЕДЕНИЕ
Мартин Ауст. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО КОНЦЕПЦИИ СБОРНИКА. Как история монастырских тюрем открывает перспективы для историографии – вне традиционных противопоставлений «социальное дисциплинирование» vs «социальный контроль», Россия vs Европа
Комбинированные учреждения: монастыри, работные дома и цухтгаузы
Элизабет Люссе. МОНАСТЫРСКИЕ ТЮРЬМЫ В СРЕДНИЕ ВЕКА И В НОВОЕ ВРЕМЯ (XIII–XVIII ВЕКА)
Катя Махотина. МОНАСТЫРИ КАК МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В РОССИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА
Фальк Бретшнейдер. «ОБЩИЙ ДОМ» Многофункциональность заключения и модель «дома» в германских землях эпохи модерна
Ксавье Руссо. ДИСЦИПЛИНИРОВАТЬ, ИСПРАВЛЯТЬ, НАКАЗЫВАТЬ. Многоликость тюремного заточения в Габсбургских Нидерландах (1550–1795)
Ирина Ролдугина. МЕЖДУ НАКАЗАНИЕМ И ИСПРАВЛЕНИЕМ. Режим заключения Калинкинского дома (1750–1759) и его специфика
Город и тюрьма
Жюли Клостр и Пьер Брошар. ПАРИЖСКИЕ ТЮРЬМЫ В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. Новые пути исследования
Александр Воробьев. МОСКОВСКИЕ БОЛЬШИЕ ТЮРЬМЫ В XVII ВЕКЕ. Организация и административные практики
Симон Кастанье. МОБИЛИЗАЦИЯ СВЯЗЕЙ И ДЕНЕГ В ПАРИЖСКИХ ТЮРЬМАХ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА
Наталия Мучник. «AS A LITTLE CITY IN A COMMONWEALTH (КАК МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД В СОДРУЖЕСТВЕ)» Жизнь квартала в тюрьмах XVI–XVII веков (Англия, Франция, Испания)
Елена Бородина. СОДЕРЖАНИЕ КОЛОДНИКОВ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СЕРЕДИНЫ XVIII ВЕКА
Дискурсы и практики заключения
Елена Марасинова. ПРОСТРАНСТВО НАКАЗАНИЯ ПОКАЯНИЕМ. От Кремля до Соловецкого монастыря (дело убийц Жуковых второй половины XVIII века)
Людмила Сукина. ТЮРЬМА, ПЛЕН И СУМА. Пространство христианской благотворительности в Русском государстве XVI–XVII веков
Лоранса Фонтен. БОРЬБА С НИЩЕНСТВОМ КАК ПРОБЛЕМА. Конкурс Академии Шалона-на-Марне в 1777 году
Венсан Мийо. ТЕНЬ ВЫСОКИХ СТЕН: ПАЛИМПСЕСТ ТЮРЕМНОГО ЗАТОЧЕНИЯ
АВТОРЫ
Отрывок из книги
Этот сборник, посвященный практикам заключения и наказания в монастырях в доиндустриальную эпоху и собравший статьи в основном по Франции и России, приглашает нас вернуться к старому исследовательскому спору о социальном дисциплинировании и социальном контроле в истории Европы. С первыми концептами в 1960‐х годах, а затем во все более широком потоке работ до конца 1980‐х годов исследовательское направление раннего Нового времени создало свою концепцию социального дисциплинирования, определив его как формирование монополии государства на применение силы в политической истории и, как следствие, регулирование человеческих аффектов в социальной истории. Церковь и религия – будь то различные разновидности протестантизма или католицизма – были включены исследователями в парадигму социального дисциплинирования под понятием «конфессионализация». Церковные институты и религиозные нормы предстали как инструменты, используемые светской властью. В этой истории общество предстало прежде всего как адресат и объект политики.
В 1990‐х годах эти теории и концепты стали предметом ожесточенной критики в связи с культурологическим поворотом в историографии. Новая историография больше не довольствовалась определением подданных как объектов государственного воздействия, но задавалась вопросом, как люди воспринимали мир, какие возможности действия (agency) были в их распоряжении и как они взаимодействовали друг с другом и с властью. Парадигме социального дисциплинирования сверху это новое направление исследований противопоставило концепцию социального контроля снизу.
.....
Покаяние, как оно подразумевалось в Артикуле Воинском, не имело ничего общего с практикой монастырского изгнания, подначальства, которое продолжало существовать в то же время. Здесь, однако, важно отметить, что в текстах закона покаяние и монастырское подначальство использовались как синонимы. Если сопоставить текст закона с реальностью, быстро становится ясно, что чисто репрессивный характер интернирования был далек от какой-либо заботы о душе. При Петре I монастыри служили лишь заменой тюрем для тех, кто по возрасту или болезни был непригоден для принудительных работ в Сибири.
В целом лишение свободы как наказание еще не получило широкого распространения при Петре I, хотя и было сформулировано в Регламенте Городского Магистрата: «Смирительные дома», или «цухтгаузы», должны были быть учреждены для мужчин, а прядильные дома – для женщин134. Глава 20 Регламента гласит, что сюда должны быть заключены «дети непотребного и невоздержанного жития, расточители имений, рабы непотребного жития, которых в службу уже никто не приемлет», а также люди «ленивые, здоровые нищие и гуляки, которые не хотят трудиться за свое пропитание»135. Всех их надо отправить в «смирительные дома» и посадить на работу, чтобы они зарабатывали на пропитание и «чтоб никогда праздны не были»136. Если фактическое появление цухтгаузов задержалось еще на полвека, то использование монастырей как богаделен и домов для умалишенных активно практиковалось, как будет показано ниже.
.....