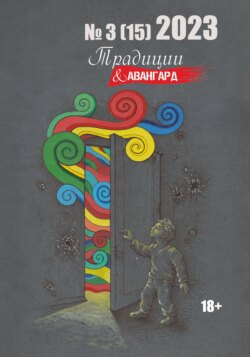Читать книгу Традиции & Авангард. №3 (15) 2023 г. - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 8
Проза
Сергей Чернов
Тетрадь в клетку
ОглавлениеНесмотря на пошатнувшееся здоровье, Золотов был стариком ещё крепким. И потому, когда в темноте подъезда его встретили двое и один бесцеремонно ухватил его за руку, Золотов попытался вырваться, упёрся лопатками в холодные вензеля перил и резко, точно искру камнем высек, выпалил:
– Живым не дамся!
– О-о-о, да он пьяный… – протянул тот, что держал за руку, плотный и, кажется, лысый.
Золотов дёрнул плечами, словно поправляя воротник несуществующего плаща.
– А вам… к-к-какое дело? Шли себе – вот и идите! – сказал он, слегка заикаясь и, видимо, забыв, что они-то никуда не шли, а тёрлись тут, надымив сигаретами до рези в глазах; шёл именно он – к себе домой после рабочей субботы.
– Да пусти ты его, – попросил второй, еле видимый, слева. Захват на локте распался, и Золотов инстинктивно поднял к груди кожаную папку с тетрадями, заслоняясь ею, как щитом. – Ну это ведь ты Золотов Аркадий Петрович?
К тому моменту Золотов уже понял: бить его не будут, и вырывать телефон, кошелёк, папку или что там им нужно – тоже. Иначе давно бы уже и вмазали, и вырвали без лишних слов. Однако фамильярное «ты» резануло сильнее, чем крепкий хамский захват. Он выпрямился, стараясь натренированным преподавательским взглядом найти в потёмках чужие глаза, точно перед ним были лишь дети, которых можно распугать насупленными бровями и окриком.
Молчание затягивалось, и Золотов наконец выдавил, но неожиданно для себя сипло, как воздух из грелки:
– А с-спрашивает кто?
– Не узнал! Ох, не узнал!.. Коллеги твои. Это вот – Николай Степанович. Я – Вадим Степанович. Ну, вспоминаешь?
Золотов уже начал привыкать к темноте и приглядываться. На шпану эти двое и вправду не походили. Не походили они и на тех молодцев, сочетавших спортивные штаны и золотые цепи, ещё недавно пугавших жильцов блатной музыкой, а потом все как-то разом пропавших. Но коллеги? В коллегах у Золотова были в основном женщины – полные дамы без возраста, сухие старухи с непроницаемыми лицами да совсем молоденькие девчонки, едва отличимые от школьниц. Губастые, намасленные, в джинсах или коротких юбках, они и держались с учениками так, что те их разве что за задницу не щупали. Мужчин – по пальцам перечесть. И всех их, районных и городских, Золотов так или иначе знал. Никаких Николаев Степановичей или Вадимов Степановичей среди них не было.
Золотов уже собирался было спросить, нажимая на каждое слово: «И что вам, коллеги, надо?» Но Вадим Степанович приблизил к нему лицо и тихо, почти шёпотом спросил:
– Ну, тетрадочку золотую покажешь?
Золотов вновь прижался к перилам, затылком стукнулся о железный завиток. Какое-то время он так и стоял, жуя губами, затем шагнул вперёд, глядя себе под ноги:
– За мной. Идите.
Дом был старый, без лифта. На бетонных ступеньках – отполированные подошвами вмятины. Кое-где разноцветные граффити – нечитаемые, ломаные – напоминали пёстрые заплаты на зелёном теле стен. На площадке второго этажа кисло пахло пролитым пивом или ещё чем похуже.
– Что это темень у вас, а? – сказал Вадим Степанович. – Что, благодетель ваш лампочку зажал?.. если у вас самих денег нет. Мог бы и весь дом отделать… да что там – весь город! На его-то прибыля… Гений, как же! Чхал он на вас. Чхал…
Золотов оглянулся. Солнце, заглядывая в окно, высвечивало круженье пылинок. Влажно блестела лысина Николая Степановича.
– По барабану ему твой город. И ты, Аркадий Петрович, кстати, тоже. Чуешь?
До квартиры на третьем этаже Золотов добрался задыхаясь. Привычно и страшно немела правая рука.
Железная дверь поддалась с трудом: её чуть перекосило, и она царапала плитку. Узенький коридорчик. Разуваясь, Золотов поднял с пола железную ложку для обуви – чёрную, длинную как кочерга – подержал, взвешивая, и поставил в угол. Будто бы просто так поднимал, будто мешала.
«Коллеги» разуваться не стали.
Только теперь, оглянувшись уже не украдкой, Золотов смог по-настоящему их разглядеть. Они и вправду были похожи как братья. Невысокие, гладко выбритые, с узкими хрящеватыми носами. Николай Степанович толстоват и лыс, что называется, как коленка. А Вадим Степанович, видимо, чуть моложе – чуть выше, и волосы у него чёрные, с крупными мысами залысин; Золотов невольно подумал, что так, должно быть, выглядят вышедшие на пенсию крепкие когда-то футболисты. Одеты они тоже были одинаково – в синие джинсы и однотонные тёмные ветровки в пояс, слишком тёплые для такого майского вечера.
Их обоих Золотов раньше не видел. И уж точно не учил. Своих-то учеников он всегда узнавал. Сколько бы времени ни прошло, какая-нибудь чёрточка в лице, в походке, в позе – и Золотов всегда безошибочно угадывал: а, вот это Сергеев, он же Врубель, что ел как-то на задней парте батон, или какой-нибудь Шпалера, с двойки на тройку, или же, например, хитроватый отличник Владик Анциферов, который в девятом классе переехал с родителями в другой город… И сейчас Золотов испытал минутное облегчение – встретить вот так вот, в тёмном подъезде, бывших учеников было бы, пожалуй, страшнее смерти.
В большой общей комнате, что была для Золотова ещё и кабинетом, пахло книгами и старой деревянной ме белью. Одну из стен закрывали книжные шкафы, приставленные друг к другу. Письменный стол уже месяц как стоял в центре комнаты под самой люстрой с тремя патронами-тюльпанами.
Золотов кинул папку с тетрадями на стол, подошёл к окну. Зимнюю раму недавно вынули – она стояла теперь на газете, готовая к покраске. На подоконнике лежали дохлые, прошлогодние ещё мухи и большой тонконогий комар, каких дети всегда в испуге принимали за малярийных.
Внизу – во дворе – ветер шевелил лозу разросшейся ивы, будто промывая её в воде. У ивы за мусоркой прятался незнакомый Золотову белый «Форд».
На горизонте, прерываемая чужими крышами, зеленела полоска соснового леса.
– Не густо. На свалке, что ли, барахлился? – спросил Вадим Степанович и коротко, сухо хохотнул.
Он осматривался. Медленно, пружинисто прошёлся по комнате, так что старый паркет под половиками даже не скрипнул. Для какой-то надобности смахнул пыль с выпуклого телевизора, растёр её между пальцами. Прошёлся вдоль книжных шкафов и там, где книги не были прикрыты стеклянными дверцами, провёл ладонью по корешкам.
Золотов не любил, когда кто-то трогает его книги. Цены в них было немного, так, собирал, когда модно было собирать – не читать, а именно собирать: выписывать, выискивать, урывать, щеголяя потом ровной красотой многотомников. С тех пор как жена, с которой он прожил всего-то полтора года, ушла, книг он почти не покупал, да и читал редко, но эти вот, запылённые, с пожелтевшими обрезами, всё ещё оставались для него в каком-то смысле богатством.
Золотов закрыл форточку, для верности пристукнув по ней кулаком. Подошёл к столу, сел на стул с подлокотниками, судорожнее, чем собирался, сцепил ладони в замок. – Да-а-а… – протянул Вадим Степанович. – Так вот как ты живёшь. – Он до половины выдвинул одну из книг, и она торчала теперь, как открытая крышка мусоропровода. – А Гениусу вашему наплевать… Нет, он не дурак, ваш Гений, он всё понял. У нас кто больше всех ворует – тот самый честный. Кто сильнее всех лупит – самый справедливый. Он в глаза харкает, а на него как на манну небесную смотрят. Он и пальцем для города не пошевелил – ан вот, школу его именем надо назвать! Он ведь кумир! Его вся страна знает! Учился он тут… Другой бы на этот город горбатился, последнюю копейку вкладывал – так его бы, например, заклевали…
Николай Степанович сидел в глубоком кресле под торшером и с невозмутимостью Будды глядел куда-то в сторону. Верховодил тут явно не он, да и вообще был будто бы ни при чём. Но Золотов смотрел именно на него – не на говорящего Вадима Степановича.
– Ну ляпнул где-то этот Гениус, что жил в вашем городе, учился в вашей школе, – и на тебе, доску повесили. Гордишься учеником, Аркадий Петрович? Или лучше никого не было?.. А! Богаче никого не было! Лидер общественного мнения. Блогер, стример и ещё чего-то там.
Внезапно Вадим Степанович оказался перед самым письменным столом – навис над ним, выгибая плечи, упёрся кулаками в столешницу. Если бы Золотов поднял голову, они очутились бы нос к носу, глаза в глаза. Но какой-то мелкий животный инстинкт заставил Золотова опустить взгляд и внимательнее осмотреть собственные ладони, всё ещё сжатые в замок.
И тут он вновь ощутил это, но более резкое, острое, как в нечестной драке удар в пах, – потому что было не в школе, а здесь, в святая святых, его доме. Оно преследовало его с первого рабочего дня: вот он и его стол, а за ним, как за линией фронта – все они, казалось бы, маленькие, казалось бы кроткие, казалось бы напуганные. Но он против них, а они против него. Он мог шутить, а они смеяться, он мог рассказывать, а они внимательно слушать – но всегда было это, тонкое вечное напряжение: он против них, они против него. Тогда за ним была сила – была сама школа, детское воспитание и детский страх; в конце концов, был авторитет педагога и негласная поддержка коллег во всём, что касалось учеников. Но в последнее время всё это куда-то исчезло, переменилось. Теперь уже за ними, нагловатыми ухмыляющимися детьми, сама школа, коллеги, только и ждущие, когда ты дашь маху, крикливые родители и какие-нибудь дядьки-тётки, которые знают куда писать и на что жаловаться. За ними и закон, и вся правда. А за его учительской спиной – лишь грязная доска, для прикола натёртая мылом, да портреты – простодушный Есенин, мечтательный Пушкин, нахмуренный Лев Толстой – но все глухонемые, мёртвые. И шум – не где-то на задних партах, а уже тут вот, у самого его стола, шум, смех, возня – бесконечные. И лишь когда внезапно посреди урока в голове у него будто что-то лопнуло, какой-то раскалённый, туго натянутый электрический провод, и он, ничего не понимая, валя горшки с цветами, на негнущихся ватных ногах побрёл к двери, все они – наконец-то! – разом испуганно замолчали.
– Да что ты с ним возишься? – подал голос Николай Степанович. Он качнулся в кресле, но так и остался сидеть – потный мраморный божок.
– Не спеши, Коля. Не видишь – мы с Аркадием Петровичем за жизнь общаемся. Он, Аркадий Петрович, тоже не чушка – разбирается в жизни. Он сразу понял, какой фрукт этот Гениус. С детства его разглядел. – Вадим Степанович оттолкнулся от стола и игриво, как девке, погрозил Золотову пальцем. – Знал, что так попрёт, что и сцены будет мало. Вон в политику полез, глядишь, к осени комитет какой-нибудь возглавит. Молодым везде у нас дорога, а свой дурак всегда лучше чужого умника… Ну, где тетрадка-то?! – Он вдруг как-то дёрнулся всем телом. – Тут? – Схватил потёртую кожаную папку, рванул ползунок молнии. Тетрадки вывалились на стол – тонкие зелёные и большие, глянцевито блестящие. На некоторых был Гениус. Вздёрнутая рука с оттопыренным средним пальцем. Узкое лицо в собачьем оскале. Лоб разрисован, как парта, зубы в какой-то золотой ерунде, похожей на конфетную фольгу.
На одной из книжных полок громко тикали механические часы. Свет в окно лился жёлтый, закатный.
Золотов с невольной тревогой подумал:
«А ведь прямо сейчас может прийти Серафима. И что тогда будет?»
– Икона стиля, кумир поколения, – тихо заметил Вадим Степанович, подтолкнув папку к Золотову. – Школа имени Князева Святослава Геннадиевича, вот этой вот образины – звучит! Ну, это ничего, так заведено – кумиров в самое яблочко целовать. Глядишь, от пирога что- нибудь и отсыплется.
Во рту у Золотова было гадко, будто всё это время он пытался рассосать металлический рубль. Он взял папку, похожую теперь на выпотрошенную камбалу, принялся засовывать в неё тетради.
– А я ведь послушал, что он там поёт. Слышь, Петрович? Так, из любопытства. Стоит на сцене в «алкоголичке», гайки золотые на пальцах. И давай всех поливать – какое вокруг говно и все вокруг говно. А малолетки чуть не визжат от радости. И про город родное что-то такое пел – что говно…
Последняя тетрадь оказалась с Гениусом. Ухмылка… Той самой узнаваемой чертой, чертой Святика Турунина, была не она, а прищур. Еле заметный – когда он улыбался, всегда один глаз чуть прикрывался. Прищур, застывший теперь гусиной лапкой морщин в уголке левого глаза. Ничего другого приметного в нём не было, по крайней мере Золотов не помнил. Такие же Турунины были и до него, такие же были и после. Он и уехал рано – в шестом классе. Мать нашла по переписке какого-то мужика в другом городе, говорили сидельца. А сиделец потом раскрутился – фирмы свои, какой-то ЧОП, какие-то хабы. И Святик – Геннадиевич и Князев это не по отцу, по отчиму, – закружил. То ли доучился в институте, то ли не доучился, некогда было: новый папаня устраивал ему концерты, съёмки и прочие радости жизни. Кошкаровка – город маленький, тут брат, там знакомый – даже уехав, полностью из виду не пропадёшь. Золотов судьбой бывших учеников никогда не интересовался. Но тут, когда заговорили про «наше талантище», что-то такое вспомнил, даже почитал про него – все эти его «да я жизнь повидал», «устал вкалывать, на заводе горбиться», что-то там про свободу, про полицейское государство, про покаяние и стыд, и про Кошкаровку, кстати, тоже, дескать, я в такой же помойке детство провёл, что и вы…
Вадим Степанович прошёл к книжным шкафам.
– Что делать-то будем, а, Аркадий Петрович? – Он медленно открыл стеклянные створки, достал одну из книг, тут же разжал пальцы. Книга хлопнулась на половик. – Ты не дурак. Я не дурак. Гениус твой тоже. Это мы поняли: ещё так вырастет – шея заболит на него смотреть. Что мальчик хочет, то мальчик получит. Гений! – Упёрся указательным пальцем в верхний обрез другой книги и, будто отщёлкнув, скинул и её на пол. Заглянул в образовавшуюся пустоту на полке, как в прореху от выбитого зуба. – Кумиры – они ведь безгрешные, почти святые, у них всё реликвия, всё золотое. Чем выше лезет, тем святее, тем дороже… – Открыл новые створки. Белые корешки – Платонов. Зелёные – Голсуорси. Тёмно-синие с белыми окантовками – Набоков; последние покупала Лида, жена Золотова, на единственную годовщину свадьбы. – Я по телеку видел, один олигарх где-то портки Наполеона достал. Нижние, Бонапарт о них задницей тёрся. За огромные деньги достал. Да вот богатеньким детишкам Наполеоны-то неинтересны. А вот… – Пошарил ладонью за книжными блоками. – Говоришь, есть у тебя одна тетрадочка… – И охапкой свалил книги на пол.
Боль свинцовыми толчками стучала у Золотова в голове. Вспомнилась чёрная ложка для обуви, оставленная у двери, так далеко, словно в другой стране.
Вадим Степанович выдернул новую книгу. Картон обложки хрустнул. Он потряс её, держа за обложку, как птицу за крылья.
– И где?
Золотову вдруг почудилось, что вот сейчас, именно сейчас дверь в дом раскроется – и на пороге появится Серафима, сгорбленная, будто бы сжатая. А за её спиной окажутся другие, слипшиеся в молчаливую стену: соседи, знакомые, коллеги-учителя – встанут, с брезгливой жалостью глядя на него, на гору книг, на внезапных гостей, хозяйствующих как у себя дома.
«Есть у меня одна тетрадочка».
Тогда тоже была суббота. Яркий морозный свет лился в окна. На втором этаже «Куража» отмечали его юбилей. Людей было много – и за сдвинутыми столами, да и вообще, чужих в зале. Играла неразборчивая музыка. Неясно звучали другие голоса, как вечное шушуканье в его классе. И он напрягал связки, как у себя в классе:
«Вот вы все подписываетесь – доски ему мало, надо и школу назвать! Всей стране известный, молодой, н-н-наш. Ну, хотите гордиться – гордитесь. Зачем впереди паровоза с караваем бежать? Я понимаю, за инициативу п-п-плюсик… И сверху всё… Но… стыдно же!»
Низкое солнце хлестало ему в глаза. Он щурился, он шатался, он поднимал бокал с вином до груди и вновь опускал. Он чувствовал, как на него косятся от других столов – вот, мол, старик раздухарился. А кто-то, должно быть, и узнавал – да это же корж из второй школы, «Русяз» во всей красе! Да и чёрт с ними!.. Он рассматривал лица коллег. Уж какие снисходительные лёгонькие улыбки, уж какие искренне добрые взгляды – это, наверное, оттого, что ели все эти годы и вот наконец-то доели до самых костей. Юбилей, а по сути проводы.
«Ну ничего! – громко прибавил он, чувствуя, что на него глядят теперь уже точно все. – Есть у меня одна тетрадка – уж она меня согреет! И это вам спасибо! Она и дороже с к-к-каждым днём из-за вас… Он же кумир, с него и носок н-н-ношеный будет на вес – золотой. А там – такое! Он выше – оно д-д-дороже…»
И оборвался. И сел.
Все засмеялись, зачокались. И Золотов втянул в себя безвкусное, разбавленное соком вино, стуча зубами о стенки бокала. Кто-то взял его руку и неумело, но нежно погладил – конечно же, Серафима, сестра.
«А может, зря я всё это, – подумал он тогда. – Глупо».
Вадим Степанович громко чихнул: «Ох-х-ха!» Вытер ладонью повлажневшие от пыли глаза.
– Да где тетрадка-то? – с детской обидой спросил он.
Гора книг на полу росла. Некоторые, раскрытые, походили на раздавленных мотыльков. Обрезы других напоминали униженные страдальческие улыбки.
– Дед, да ты подумай, зачем она тебе. Живёшь один. Душа в теле еле держится. Ни детей, ни внуков.
– Откуда?.. – Язык у Золотова немел у корня, как это бывает перед рвотой.
– Старуха у вас там, в школе. Говорли-ивая! Заходите, говорит, он у нас хворый… – И вдруг вскинул брови, стрельнул коротким взглядом. Понял, что оплошал.
И Золотов тоже понял.
Старуха. Серафима, не иначе. Как была деревенской бабой, так и осталась. Он сам её в школу пристраивал вахтершей, когда она переехала из Каменистого. Чуть ли не всему педсоставу пришлось туфли вылизывать, будто в министры её пихал. Проста как валенок. Учителя её вечно обходили, точно подброшенную собачонку. А вот дети, особенно младшие, её почему-то обожали. И такое обожание его слегка задевало.
Золотов не выдержал, ухмыльнулся. И как-то вдруг расслабился весь, обмяк.
Вадим Степанович достал ещё одну книгу, мельком поглядел на обложку – что-то из детгизовской «рамочки».
– Хорошая библиотека, – доверительно сказал он. – У меня тоже была – на свалку вывез. Место занимала. Да и пыль от них… Сейчас всё в интернете есть. Советую, кстати, удобно. Кнопку нажал – и вот.
Он поставил книгу на место – на пустую деревянную полку. Книга тут же свалилась набок, точно не могла стоять так, в тоскливом одиночестве.
Золотов откинулся на спинку стула. Конечно же, эти двое пришли сначала в школу, искали его, расспрашивали. А это значит, ничего ему не грозит – не здесь, не сейчас. Случись с ним чего – так они на личность сразу вспомнятся. И даже «Форд» их, наверное, тоже вспомнится – не местный же. Но тут же вновь сгорбился – для виду.
– Аркадий Петрович, ты подумай, зачем тебе эта тетрадка? – голос у Вадима Степановича сделался тихим, примирительным. – Ты же умный человек, ну! А умный человек сам с собой честен.
Скрипнуло кресло. Поднялся Николай Степанович, хромающей, будто ноги отсидел, походкой подошёл к столу.
Николай Степанович с одной стороны, Вадим Степанович с другой, только рук развёденных и не хватало, чтобы понять – загоняют в угол. Золотов внезапно почувствовал: воздуха ему не хватает. Именно сейчас, когда стало ясно, что ничего они ему не сделают, подумалось: много ли на земле дураков? Эти вон, может быть, и внимания не обратят, что в школе их «срисовали», мозгов не хватит.
– Ты подумай. Здоровье у тебя хлипкое, надломленное… Вон белый какой сделался… Ты прав, кумир твой ещё расти будет, тетрадка дорожать. Но это всё – потом. А у тебя это «потом» есть?
Стараясь ни на кого не смотреть, Золотов переставлял на столе пустые бутылочки из-под лекарств. В поле зрения попали ладони Вадима Степановича, упёртые в стол. Узкие пальцы, овальные розовые ногти – коротко стриженные, с белыми полумесяцами лунул. От ладоней даже на расстоянии пахло табаком.
– Вот что. Мы тебя не обидим. Рассчитались – разбежались. Тебе она не нужна, а нам нужна. Сейчас. И деньги тебе нужны сейчас. Какие есть. Ты своё дело сделал – тебе спасибо. Доживай, радуйся… Ну, решай. Сейчас или никогда.
Воздуха не хватало. Как назло, теперь, когда пришло самое время сказать, чёрными кругами поплыло перед глазами. На грудь будто бы кто наступил. Что называется – догнало. Он нащупал пузырёк, как и остальные, пустой, повернул его в деревенеющих пальцах, словно шахматист фигуру в ситуации цугцванга, поставил на место. Не увидел, скорее услышал, как Николай Степанович тянет Вадима Степановича за руку: «Да ну его! Добра ему хочешь, а он…» Не увидел и не услышал, а скорее почувствовал, что они, те двое, замерли, будто оттягивая тот последний окончательный момент, в который и вправду обернутся, и вправду уйдут.
– Л-ладно, – выдавил наконец Золотов.
Он снова откинулся на спинку стула, теперь уже прилагая усилия, чтобы остаться в таком положении. Открыл дверцу в тумбе письменного стола. Почти не ища, с самого верха других бумаг достал полупрозрачную пластиковую папку с кнопкой.
Внутри папки, как желток в яйце, болталась простая зеленовато-жёлтая тетрадь на двенадцать листов.
Вадим Степанович осторожно принял папку из рук Золотова, развернул, отщёлкнул кнопку. Двумя пальцами, будто пинцетом, выудил тетрадь, раскрыл её.
Золотов знал, что внутри – до фиолетового выцветшие чернила, тонкие пятнышки ржавчины от скрепок на листках, запах старой бумаги, сухой, как запах гербария. «Тетрадь ученика Турунина» (просто Турунина). И больше ничего, только в самом верху большими печатными буквами выведено: «СТИХИ».
Николай Степанович достал смартфон в чехле-книжке. Озабоченно начал сверять что-то, лихорадочно мечась взглядом от смартфона до тетради, через плечо Вадима Степановича. С чем он там мог сверять? Гениус и автограф-то раньше давал только по сотне американских за штуку, а теперь и вовсе – аукционом. Рукописного текста не найдёшь. А тут целая тетрадь, ещё не Гениуса, конечно, а Святика Турунина, исписанная крупным, наклонённым влево почерком – шестиклассник, а пишет – точно перешёл в третий, ну максимум в четвёртый класс. Ещё не Гениус, но уже заносчивый человечек, знающий, что будет первым, известным, главным.
– Чего?! – хохотнул Вадим Степанович. – Жи-ши! «Вам не опнять моей душы…» Господи, мой свет! – Перевернул страницу. – «Я как гром, вам на меня молица…», «Херт фаер…». Да ты ему тут всё почеркал!.. Ну молодец, я бы такое в форточку выкинул, не иначе. Ну, золотой телёнок и гадит золотом. «Волка не застреляте вы!..» Ох, мама!..
Последнее средство, надёжнее всех доказательств – приятное чувство, что человек, который известней и выше тебя, на самом деле в десятки раз тебя глупее. И где-то внутри ты всегда это знал.
– «Клыки мои большее чем вашы!» – процитировал Вадим Степанович и, к явному неудовольствию Николая Степановича, осторожно, но деловито закрыл тетрадь, спрятал её куда-то за пазуху.
Золотов инстинктивно, всем телом потянулся к нему.
– Ну-ну-ну! – осадил Вадим Степанович. – Уговор есть уговор!
Медленно, театрально достал из заднего кармана джинсов чёрное портмоне. Наслаждаясь эффектом, раскрыл и – задумался. Наконец вытащил одну бледно-зелёную, тысячную бумажку, положил на стол. Подумал ещё. Выложил другую тысячную бумажку. Ещё одну, ещё… Он укладывал деньги чётко, будто раздавал карты. Пятая, шестая, седьмая. Вновь остановился. Хмыкнул, достал восьмую. Поглядел на Золотова и, подмигнув, нащупал в пазухах портмоне болотисто-зелёную двухсотенную купюру.
– На опохмелку тебе.
– Не пью я. После инсульта.
– Ну да, ну да…
Вадим Степанович вновь оглядел комнату. Деревянные кресла, старые половики, простенькие жёлтые обои. Со столом, неуместно торчащим посередине, комната казалась пустой и широкой. Чудилось – вот-вот и в ней оживёт эхо звуков и голосов, запоздало разыгрывая всю сцену сызнова.
– Не куксись, дед, правильно ты всё сделал, – сказал Вадим Степанович Золотову, однако скользнувшая улыбка прибавило своё: «Дурак ты, Золотов, просто дурак!»
Уходя вслед за Николаем Степановичем, он кинул, не оборачиваясь: «Прощай!» – и хлопнул дверью, будто затворил склеп.
Золотов так и сидел. Сердцебиение медленно приходило в норму, но напоследок с десяток раз ударилось громко и больно, как молотком по железу. Он достал из- под тетрадей валидол, положил таблетку под язык.
На улице темнело, в дальних домах зажигались окна – пятнышки жёлтого света, точно отколотого от луны. Темнело и в комнате – всё превращалось в серое и чёрное, в зыбкое.
Золотов включил настольную лампу. Круг света упал на столешницу, но дальше, в комнате, всё стало ещё темнее и призрачнее.
В тишине громко щелкнул дверной замок. Шуршанье пакетов, усталое свистящее дыхание. Серафима пришла готовить ему ужин.
– Чего это в темноте сидишь?.. Ой, и наследили! Коллеги приходили?.. Заходили сегодня в школу. Молодые.
Вежливые такие… Вишь, спрашивали про тебя… Ох, спрашивали! – Она прошла на кухню, включила там свет. Голос её стих, но не прервался. – Что ты, как ты… Ученики твои?.. Ценят тебя, помнят! Всё спрашивают, проведывают… Вишь, не забывают…
Золотов подумал о книгах на полу. Придётся врать. Полез, мол, перебирать, да устал, голова закружилась. А деньги… Он сгрёб их, сунул в тумбу стола. Себе оставил только одну зелёненькую да двухсотенную – хватит пока.
Это правда, у него-то никого нет. А вот у Серафимы детей двое и внучка. Она как помело, про всех всё расскажет, а про своих чужому человеку – ни слова. Суеверная по-деревенски.
Внучка учится в педе на первом курсе. На коммерции. По баллам хватало и на бюджет – по русскому и литературе сам подтягивал, по другим предметам по дружбе помогли старые учителя – но места, как назло, уплотнили, освобождая для волонтёров, спортсменов, олимпиадников и прочих активистов, давно смекнувших, что проекты стряпать выгоднее, чем учиться. А с этого года добавятся юные блогеры, стримеры, шоумены – новые Гениусы, «молодёжные лидеры», привет от большого Гениуса и его политических инициатив…
Ну, ничего, деньги будут – выучим.
Золотов достал из тумбы стола старую запылённую тетрадь в клетку – «подарок» тех лет, когда под зарплату выдавали всё, кроме денег, – чуть выцветшая бумага, маленькие следы ржавчины от скрепок. Взял шариковую ручку. На обложке в самом верху вывел крупными печатными буквами: «СТИХИ. Тетрадь ученика Турунина». Раскрыл.
Он писал сосредоточенно, медленно. Пальцы немели, и буквы выходили крупными, детскими. Ему приходилось лишь смотреть, чтобы наклон букв был чуть влево. Что ж, у каждого свой талант – у одного богатый отчим и самомнение, у другого, у Золотова например, немеющая рука, отчего почерк становится угловатым, детским, точь-в-точь как у Святика Турунина; уж он-то этот почерк хорошо помнил, найдись настоящая его тетрадь – было бы не отличить.
Он и писать старался то, что было в настоящей тетради. Но не всё мог вспомнить. Однако прекрасно помнил ощущение – вот дал мальчик ему почитать стишочки, что-то сказать. А говорить нечего, стихи даже для первоклассника дрянь. И всё какая-то грубость, заносчивость. И ошибки в каждом слове. На следующий день, остановив мальчика в коридоре, он просто молча протянул ему тетрадку: на, мол, посмотри сам. А тот посмотрел – красные зачёркивания, красные подчёркивания, одинарные и двойные, красные волнистые линии – и сунул Золотову обратно. Губы у мальчишки побелели, сжались. Но не задрожали. Он будто бы поменялся и не поменялся. Прорезалась гусиная лапка морщин в углу левого глаза, но улыбки не было, а было что-то такое, молчаливое, но говорящее: «Ну вы теперь всё, ну я теперь вас!» Золотов не помнил, почему взял тетрадку назад – как во сне был, и холодок в животе; казалось, мальчик перед ним перевернулся с ног на голову.
«Вот же уродец! – думал он позже, возвращаясь домой. – Ну и чёрт с тобой, оставайся дураком».
Он достал из вечной кожаной папки его тетрадь и выбросил в мусорку – теперь и не упомнишь в какую.
Это было перед весенними каникулами, в последний день. А в апреле мальчика в школе не оказалось – переехал с матерью в другой город.
Ладонь у Золотова быстро уставала, он прерывался, отдыхал, слушая, как Серафима что-то лопочет, как льётся вода, гремят кастрюли. Время от времени звуки затихали, и он явственно представлял, как Серафима вытирает ладонью повлажневшие глаза – сердобольная от природы, она всегда пускала слезу, вспоминая про болячки брата.
Милена, внучка Серафимы, приедет на следующих выходных и, конечно же, зайдёт проведать. Они попьют чаю. Он даст ей деньги из тумбы стола, скажет: на квартплату, или ещё на что – там придумает. Затем посадит её на своё место за письменным столом, достанет эту тетрадь: «На, Милена, правь, набивай руку». Она, конечно, улыбнётся – не любит она этого «старообрядства», дурачеств его, но отказать не сможет.
Когда тетрадь будет готова, Золотов положит её на подоконник, под солнце, чтоб чернила чуть потускнели. Тут главное не переборщить.
Ученье – свет. А за свет всегда приходят квитанции. Час-другой страха и больного сердца не так уж и много для оплаты, можно и потерпеть.
Милена улыбнётся, вздёрнет носик – не из благодарности, а чтобы скорее отстал, возьмётся черкать и подчёркивать. Кое-где будет смеяться. Молодая ещё, наивная. Думает, что всё это – её профессия, вся её будущая жизнь предсказуема и легка. Хотя кто его знает, может быть, она и права, что так думает. Может, у неё всё так и будет.