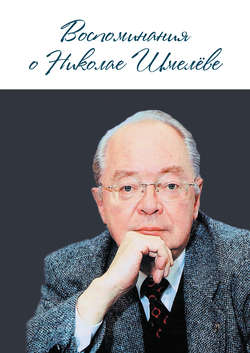Читать книгу Воспоминания о Николае Шмелеве - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 6
Мой друг Николай Шмелёв
ОглавлениеМы познакомились в 1963 г. Николай Шмелёв работал в Институте экономики мировой социалистической системы (ИЭМСС) АН СССР, а я – в редакции журнала «Мировая экономика и международные отношения»; он – в левой, а я – в правой части коридора на третьем этаже пятиэтажного здания, которое ранее было одним из корпусов гостиницы «Золотой колос» на Ярославской улице, недалеко от ВДНХ/ВВЦ. Остальные этажи занимал Институт мировой экономики и международных отношений, тоже входивший в состав АН СССР. Как-то мы случайно сошлись в одной из комнат нашей редакции, и моя коллега Кира Борисова познакомила нас. Шмелёву было 27 лет, он недавно защитил кандидатскую диссертацию по экономике, но был уже «эсэнэс», т. е. старший научный сотрудник, что и по возрасту, и по стажу научной работы тогда было редкостью. Впрочем, своей известностью в стенах здания на Ярославке он вначале был обязан тому, что в 1962 г. разошелся после пятилетнего брака с женой Юлией, удочеренной внучкой первого лица в Стране Советов. Никита Сергеевич Хрущёв был тогда в зените своей власти, и в институтских коридорах о Шмелёве отзывались удивленно-уважительно, мол, не всякий осмелился бы на такой поступок, хотя, полагаю, никто толком ничего не знал.
Друзьями мы стали задолго до того, как началась наша совместная работа в Институте Европы РАН, и произошло это как-то само собой. Мое первое впечатление запомнилось: умные, понимающие глаза, приветливая полу-улыбка, естественность, неторопливая и доброжелательная манера разговаривать. Николай Шмелёв вызывал доверие. Вскоре выяснилось, что оно было взаимным. А началось наше сближение, может быть, с того, что мы были заядлыми курильщиками и часто пересекались у одного из окон, в которые упирались два конца нашего общего коридора. Дело в том, что перекур в те времена был излюбленной и самой распространенной формой творческой научной дискуссии, причем достаточно откровенной, если собеседники доверяли друг другу. Это был как раз наш случай.
Сближению поспособствовала и одна занятная история. Однажды в редакцию «МЭ и МО» пришла сотрудница какого-то московского научного учреждения и предложила свою статью. Тема интересная, фактический материал отличный, а написано неумело, и редакционная коллегия статью «зарубила». Однако зам. главного редактора Лев Степанов сказал, что тема и фактура стоят того, чтобы статью «дотянуть» и опубликовать. Сказано – сделано. В доработке участвовали сотрудник редакции Том Петров, я и сам Степанов, а еще привлекли Шмелёва, который был знаком с темой и дал несколько полезных советов. Статью опубликовали, автор – по фамилии Лепихова – была в восторге, это была ее первая статья, да еще в таком известном журнале. Заявившись к Степанову, она положила на его стол немалый по тем временам гонорар и предложила передать его тем, кто довел статью до ума. Несмотря на уговоры Степанова, женщина стояла, как Гибралтарская скала. В итоге мы вчетвером – Петров, Степанов, Шмелёв и я – отправились в Дом журналистов. Он располагался на Никитском бульваре, вблизи от Арбатской площади, а в нем – уютный ресторан с нешумной публикой, негромкой музыкой, отличной и вполне приемлемой по ценам едой. Там мы учредили фонд имени Лепиховой, сбрасывали в него часть наших дополнительных доходов, в основном гонораров, и периодически совершали вылазки в «Домжур». До тех пор, пока не разбежались в конце 1960-х гг. по другим учреждениям и адресам.
А если всерьез, то были, конечно, более веские причины нашего сближения. Шмелёв и я принадлежали к одному поколению. Родившиеся до войны, но не участвовавшие в ней по возрасту; не воевавшие, однако прочувствовавшие и запомнившие ночные бомбежки Москвы в 1941 г., лютые морозы двух первых военных зим и постоянное чувство голода. Поколение, зомбированное с детства одами в честь «Вождя всех времен и народов», а во взрослой жизни потрясенное докладом Хрущёва о преступной роли Сталина в массовом терроре 1930-х и его ответственности за военную катастрофу в первые месяцы войны с нацистской Германией.
Я с умыслом упомянул о Сталине, потому что, насколько я помню, с разговора о нем и началось наше сближение. Шмелёв был категоричен в своем неприятии Сталина как человека и как политика. Тогда было немало людей, искавших оправдания не столько, может быть, Сталину, сколько своей вере в него. «Да, – соглашались они, – конечно, диктатор, и столько неповинных людей расстреляно или погибло в лагерях, но ведь под его руководством мы впервые построили социализм и победили нацистскую Германию». Не берусь утверждать, что Шмелёв уже тогда понимал, что у советской модели социализма нет будущего, вероятнее всего, он пришел к этому выводу позже. Но ссылок на «объективные обстоятельства», будто бы оправдывавшие сталинский террор и бескрайнюю зону ГУЛАГа, он не принимал категорически, в чем я был с ним солидарен.
Не помню, был ли тогда у нас разговор о том, что мы делали, что видели и узнали в первый день похорон Сталина. Нам было что рассказать друг другу, но за давностью лет – не припомню. И только теперь, взявшись за свои воспоминания, я внимательно прочел Шмелёвские «Curriculum vitae» и ахнул: Николай дважды упоминает, что видел сотни трупов, покрывших в тот день Трубную площадь. А в романе «Пашков дом», в каком-то смысле автобиографичном, его герой Александр Горт рассказывает о том, что он был в тот день на площади и что пережил тогда. Текст настолько эмоционален и фотографичен, как будто это сам автор, Николай Шмелёв, был там и запомнил на всю жизнь ужасающую картину.
«Ах, этот угол Трубной улицы и Трубной площади! Как же долго он ему снился потом, сколько лет… Стены дома, подвальная яма в тротуаре, почти у самых его ног, чьи-то две спины, втоптанные туда вниз, сквозь погнутые прутья решетки, и он, расплющенный на стене, задыхающийся, молящий только об одном: только бы толпа качнулась назад, не вперед, потому что, если вперед – быть ему третьим в этой яме, через нее ему не перейти, не перескочить… Потом он узнал, что это был как раз самый страшный момент во всех похоронах, когда обезумевшая, плачущая, ревущая толпа почему-то со всех сторон кинулась на Трубную площадь: с Петровского бульвара, с Неглинки, с Цветного, с Рождественского – и все вниз, на площадь, по спинам, по головам, навстречу друг другу, давя и сметая все на своем пути…»[2]
Для Николая – ему еще не исполнилось 17 лет – это было страшным потрясением, навсегда оставшимся в памяти и во многом определившим его отношение к жизни. Этим же во многом объясняется его отношение к Н. С. Хрущёву. В своих статьях и интервью Шмелёв неоднократно отмечал его ошибки, метания и нелепые выходки, хотя всегда при этом проявлял сдержанность и деликатность. Но в итоговой оценке исторической роли этого человека у него сомнений не было: «Мнения людей у нас в России о Н. С. Хрущёве до сих пор самые различные… А я, по обстоятельствам своей жизни имевший возможность довольно долго наблюдать его вблизи, лицом к лицу, утверждаю: все забудется! Все чудеса и выверты его забудутся: и кукуруза, и ботинок по столу в ООН, и безобразный скандал в Манеже, и даже Карибский кризис – все! А останется лишь одно: то, что он на веки вечные проклял И. Сталина и распустил лагеря»[3]. Я несколько иначе отзывался о Хрущёве, но тоже самым важным в его деятельности считал разоблачение сталинских преступлений и перемены в нашей жизни, получившие название «оттепели». Некоторым моим нынешним молодым и не совсем молодым коллегам эти перемены кажутся незначительными, даже мизерными. С позиций исторического прогресса они правы. Но как должен был воспринимать эти перемены советский человек, которого многие годы по вечерам охватывал леденящий страх, что вот сейчас, в эту ночь, к нему вломятся «незваные гости» – и его жизнь обрушится в бездну?
Это была не единственная сближавшая нас тема. Сходились мы и в критическом отношении к централизации и бюрократическим методам управления советской экономикой. В начале 1960-х гг., впервые за три с лишним десятилетия, в стране развернулась широкая, одобренная «сверху» публичная дискуссия о том, нужна ли нам экономическая реформа, и если нужна, то какая. Мы были убеждены в ее необходимости, и Шмелёв уже тогда считал, что при ее подготовке следует многое взять из опыта новой экономической политики, проводившейся в Советском Союзе в 1920-е гг. Однако Хрущёв подменил либерализацию экономики частичной децентрализацией ее управления, а после его принудительной отставки в 1964 г. новый «первый» Леонид Брежнев положил проект масштабной экономической реформы под сукно, чтобы, как пересказывали его слова, «не раскачивать лодку». Отказ нового лидера партии и государства от экономической реформы Николай Шмелёв оценивал как упущенный шанс. Отрицательно он относился и к периодическим «наездам» партийных идеологов на нестандартно мыслящих ученых-обществоведов – философов, социологов, экономистов, а также к косной и зачастую просто убогой политике КПСС в области культуры: разгрому выставки художников-авангардистов, запретам театральных постановок и т. п. Вероятно, были и другие пункты схождений, всего не припомнить, а в общем, довольно скоро выяснилось, что мы единомышленники.
В 1970-е и 1980-е гг. мы встречались редко, потому что работали уже не только в разных организациях, но и в разных зданиях, далеко друг от друга. ИЭМСС переехал в собственное здание, а я перешел на работу в Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН АН СССР). Да, встречались редко, но уже в ином качестве. У нас появился общий друг. Я возглавлял в ИНИОН отдел информации по проблемам капиталистических стран Европы и Северной Америки, и мне порекомендовали специалиста по военно-политической стратегии США Вадима Мильштейна. Мы быстро сговорились насчет того, чем он будет заниматься в отделе, а вскоре обнаружили немало точек схождения в наших жизненных правилах, во взглядах и интересах. Тогда-то и выяснилось, что он является давним и близким другом Шмелёва. Были они одногодками, явились в сей мир с двухмесячной разницей – в июне и сентябре 1936 г. И ушли от нас почти одновременно: Николай Петрович – в январе 2014 г., Вадим Михайлович – в апреле того же года. Время от времени он собирал круг своих друзей и приглашал меня. Обычно мы с Николаем устраивали небольшой перекур на двоих, чтобы обменяться мнениями в сфере наших профессиональных интересов.
Не буду напоминать о том, как эволюционировали в 1960-е и 1970-е гг. советская экономика, политическая система и коммунистическая партия с ее экзотическим высшим органом, в котором средний возраст его членов перевалил за 70 лет. Назову лишь два события, которые определили общее направление этой эволюции. 21 августа 1968 г. советские войска вторглись в Чехословакию, положив конец системным реформам в духе «социализма с человеческим лицом», которые начало руководство страны во главе с Александром Дубчеком. 25 декабря 1979 г. советские войска вошли в Афганистан под предлогом помощи новому руководству, объявившему о своем намерении построить в стране «афганский социализм». Шмелёв негативно воспринял оба события, считая, что вторжение в Чехословакию положило конец и оттепели, и последним надеждам на экономическую реформу в СССР, а интервенция в Афганистан подстегнула новый виток гонки вооружений, для советской экономики непосильный.
2
Шмелёв Н. П. Пашков дом. Рассказы. М.; СПб., 2006. С. 32.
3
Шмелёв Н. П. Curriculum vitae (Повесть о себе) // Шмелёв Н. П. Ночные голоса. Повести, рассказы. М., 1999. С. 369.