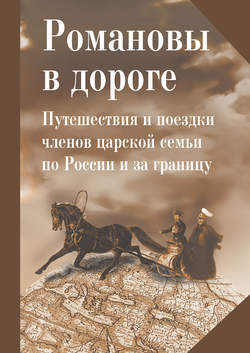Читать книгу Романовы в дороге. Путешествия и поездки членов царской семьи по России и за границу - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 5
Место путешествий в придворном церемониале
Г. В. Ибнеева. Екатерина II и дворянство в церемониале императорских путешествий
ОглавлениеСтатья посвящена взаимодействию императрицы Екатерины II с российским дворянством в ходе высочайших путешествий. Изучение данной проблемы позволяет, с одной стороны, обозначить пространство легитимации власти в церемониале встреч императрицы с российским дворянством, с другой – показать приоритеты ее политики в отношении первенствующего сословия.
Церемониал императорских путешествий – это не только совокупность церемоний, но и процесс коммуникации монарха и населения, легитимирующий власть монарха. В этом отношении церемониал путешествий императрицы по стране свидетельствовал о значимости дворянства для верховной власти. Встреча Екатерины с первенствующим сословием начиналась уже на границе наместничества или губернии{51}. Въезжая в губернский город, как правило, она выстаивала службу в местном соборе, посещала дом губернатора или здание дворянского собрания, где встречалась с дворянством, бывала на балах. После этого она уже принимала приглашение городского общества, встречалась с инородцами, если таковые прибывали к моменту ее приезда в город.
В церемониальных мероприятиях с императрицей дворянство участвовало постоянно, сопровождало ее из города в город, присутствовало и прислуживало ей во время обеда{52}. В этом, конечно, отражается особая честь – привилегия для первого сословия. Понятно, что за обеденным императорским столом и вблизи августейшей путешественницы находились преимущественно служилые чины губернии и уездов первых шести классов Табели о рангах{53}. Это подчеркивало высокий статус служилого дворянства, его первенство перед не служившим.
Приезд императрицы давал импульс для составления речей, од, хвалебных слов, которые озвучивались представителями дворянства в момент встречи с ней. Понимая, что за этим творчеством могли быть определенные ожидания, все же следует отметить, что данные тексты являют собой пространство легитимации власти. Один из ее аспектов – установление преемственности существующей власти с предшествующими монархами. В этом отношении наиболее часто встречающийся тезис в этих речах – в Екатерине воплощен образ Петра Великого, продолжательницей дел которого она является, – был для нее весьма актуален. Екатерина, узурпировавшая российский престол, особенно нуждалась в подтверждении своей идейной наследственности от Петра I: она является законной преемницей не по родству, а по духу и идеологической мощи преобразований.
Причем сравнение императрицы с Петром, и тем самым ее возвеличивание появляется уже в самом начале царствования, когда реформы еще только подготавливались и не были проведены. Так, в Ярославле 25 мая 1763 г. речь лейб-гвардии капитана Н. И. Тишинина отразила этот момент: «Вы обновили его [Петра] присутствие здесь, Вы подтвердили своею особою нам то, что уже памятны отцами нашими сказываемые о том слова: мы теперь видим великого Петра, в тебе, Великая Екатерина, подражательница дел его, всевожделеннейшая государыня»{54}. Преемственность власти подчеркивается лексикой, устанавливающей родственную связь между монархами: Екатерина называется «правнукой» Петра, сам же Петр – «отцом», иногда «дедом»{55}.
Екатерина, безусловно, понимала символическую важность причастности к династии и посещала значимые для династии места. Пребывая в Костроме во время путешествия по Волге (1767), она посетила Ипатьевский монастырь, который символизировал легитимность и преемственность ее царствования в династическом плане, поскольку именно отсюда начался путь фамилии Романовых на российский престол. Осознание императрицей этой ассоциативной связи проявляется и в ее письме к Н. И. Панину от 15 мая 1767 г.: «Я пишу в Ипатском монастыре, который прославлен в истории нашей тем, что из него Царь Михайло Федорович на Царство веден к Москве, и истинно сие место и видом, и богатством украшений в церквах почтенно»{56}. Очевидно, что и у дворянства присутствует это понимание: в речи местного предводителя дворянства говорилось, о том, что «время старалось сберечь для приема государыни то самое царское место, на котором был избран благочестивый царь Михаил Федорович». Тем самым воспроизводилось символическое воссоединение Екатерины с Михаилом Романовым{57}. Этот мотив прослеживался и в изобразительном ряде триумфальных ворот, построенных к приезду Екатерины в северной стене Старого города: на аттике находилось живописное панно с изображением Екатерины II и Михаила Федоровича. Над въездом был помещен вензель императрицы{58}.
Одно из оснований легитимности власти в XVIII в. состояло в том, что целью власти провозглашалось общее благо всех подданных – их телесное и духовное благосостояние, лучшее земное устроение и общий мир. В речах предводителей дворянства концепт «общее благо» отражен и связан с личностью государыни. Это представление об императрице как попечительнице об «общем благе» определяется испытаниями тяжестей самого путешествия, что подчеркивается и выбранной риторикой: монархиня предпринимает путешествия в отдаленные от столицы места в «зной солнечный», в «бурную непогоду» «единственно для пользы подданных»{59}.
Встречи Екатерины с дворянством вызывали чувство единения: она консолидирует вокруг себя первенствующее сословие. Дворяне выступают монолитной общностью, связанной едиными интересами, культурными запросами, сословными нуждами. Временами это впечатляет как императрицу, так и ее окружение. Не случайно И. Г. Чернышев, возглавлявший императорскую флотилию в путешествии по Волге, в Костроме был до слез растроган встречей с местным дворянством. Как пишет Екатерина Н. И. Панину, «он весь обед проплакал от здешнего дворянства благочинного и ласкового обхождения»{60}. Понятно, что сохранившиеся документы личного происхождения отражают идиллическую, елейную картину отношений власти и господствующего сословия. Однако в присутствии императрицы иначе и быть не могло. В рассматриваемых нами источниках отражается традиционно сложившаяся социально-психологическая связь монарха и дворянства, которая регулировалась не законом, а чувством преклонения перед авторитетом монархии.
Внимание императрицы было обращено не только на губернское дворянство: она встречалась и с уездным небогатым шляхетством, часть которого стекалась в города, куда прибывала высочайшая особа. Некоторые из уездных дворян в момент остановок императорского кортежа на различных станциях также могли присоединиться к этому «спектаклю счастья», обменяться с государыней чувствами привязанности. С. Н. Глинка, сын небогатого дворянина, капитана-исправника, вспоминая о небольшой остановке царицы в 1780 г. в их Холмянской деревне Духовщинского уезда, отмечал ее способность найти общий язык с разными поколениями, подходящее доброе, ласковое слово для каждого{61}.
Р. Уортман, изучая церемониал российских монахов, отмечал, что Екатерина использовала церемониальные возможности поездок, показывавшие попечение монарха о своих подданных и их демонстративное одобрение ее забот{62}. Радение о первом сословии выражалось в ее особом внимании к детям дворянства. Так, императрица принимала участие в крестинах дворянских детей. В Смоленске 15 января 1787 г. она благоволила «быть восприемницей […] младенца женского пола, рожденного от господина губернского предводителя […] Степана Юрьевича Храповицкого»{63}. 15 мая 1787 г. Херсоне она «принимала от купели новорожденную дочь генерал-поручика А. Н. Самойлова»{64}. Понятно, что это были дети представителей высшей местной бюрократии. Однако ее чуткость проецируется на детей различных страт дворянства.
Одним из средств показать свое благоволение к первому сословию страны являлось «высочайшее» пожалование дворянским детям либо чина, либо определения в кадетский или пажеский корпус. С. Н. Глинка писал о том, что он и его младший брат были записаны Екатериной в Сухопутный кадетский корпус. Старший же брат – в Пажеский корпус. Подобное внимание вызвало у членов семьи «душевное восхищение» и искреннее выражение личной преданности{65}. Данный факт был, конечно же, не единичным. Представление сценария счастья и взаимной привязанности, реализуемого в ходе путешествий императрицы, выражало завершенность союза благодарного дворянства и благожелательного монарха, который понимал их нужды{66}. Не только в силу статусного мышления господствующего сословия, но и небольших денежных и материальных средств, для мелкого и среднего шляхетства это было действительно значимо.
В деле модернизации государства особая роль принадлежала первому сословию. Именно оно должно было управлять страной, из его среды, прежде всего, рекрутировались кадры для функционирования местных учреждений. Поэтому другим важным вопросом, занимавшим Екатерину в ее поездках по стране, была проблема образования и обучения детей дворянства. В России довольно долгое время отсутствовала единая система государственных учебных заведений (на общеобразовательном уровне). Эти заведения подчинялись учреждавшим их различным ведомствам, были разобщены в организационном и методическом плане{67}. В силу этого правительство Екатерины II находилось в процессе поиска образовательной модели, соответствующей условиям Российской империи{68}. Поэтому во время путешествий по стране императрица обращает внимание на учебные заведения. Во время ее проезда через города должностные лица по повелению Екатерины посещали учебные заведения. Так, 31 мая 1767 г. директор Академии наук граф В. Г. Орлов вместе с придворными императрицы побывал в Казанской гимназии. Во время путешествия Екатерины в Крым инспекции учебных заведений проводил генерал-адъютант граф Ф. Е. Ангальт{69}.
В условиях отсутствия общегосударственной системы образовательных учреждений императрица приветствует инициативу дворянства в этих вопросах. Так, во время пребывания в Смоленске в 1787 г. она с воодушевлением приняла известие о том, что у судьи Совестного суда С. Ю. Храповицкого есть домашнее училище для бедных дворян. Екатерина побывала в его доме и посетила учебную комнату, где шел урок по русской истории. Конечно, Екатерина еще не могла убедиться в результатах своих усилий в области повышения культуры населения. Однако, для нее, как человека деятельного, была ценна сама инициатива дворянства в деле открытия образовательных учреждений. В этом, возможно, она видела и поддержку своим собственным начинаниям. Ведь для нее проблема образования, как исповедовали просветители, была сопряжена с идеей всеобщего благоденствия: просвещение должно способствовать более гармоничной организации общества и стремлению к всеобщему благу. Находясь в доме Храповицкого, она высказала пожелание, чтобы и «другие достаточные помещики для пользы бедных подражали его примеру»{70}.
Одной из важнейших задач, которую ставила верховная власть, являлось повышение культурного уровня дворянства. Императрица, общаясь с представителями господствующего сословия, делает для себя определенные выводы относительно его культурного уровня, образования, светскости. Так, в письме к Н. И. Панину она положительно отзывается о костромских дворянах, которые приехали приглашать ее в Кострому: «Дворянство [Костромы] делает великие приготовления к моему завтрашнему приему, к чему они меня пригласили особливыми двумя депутатами, кои то исполнили весьма изрядным комплиментом (здесь и далее курсив мой. – Г. И.)»{71}. Данное письмо свидетельствует о том, что Екатерина желала видеть в первенствующем сословии. Поскольку на него императрица возлагала особую роль (оно должно было активно участвовать в управлении страной, в деле предстоящего реформирования общества и государства), то для нее было важно увидеть, что в российской провинции есть дворянство достаточно цивилизованное, соблюдающее правила культурного поведения – правила «людкости» – в терминологии того времени. Очевидно, что изящество приглашения костромичей, их вежливость и ловкость в обращении с государыней и были ею замечены.
Следует заметить, что и прием в Костроме был ею особенно отмечен именно в силу культурного уровня принимающего дворянства. Костромских дворян можно было смело представить иностранным министрам, находившимся в ее свите. Последние же должны были сделать рекламу за границей о том, что в России тоже есть цивилизация. Так, в письме к А. А. Вяземскому государыня писала: «Господа костромичи во всем себя отменно вели в приеме, в провожании и в прощании и ото всех похвал достойную получили; и не стыдно было министрам [т. е. иностранным послам. – Г. И.] показать всю их весьма пристойныя поступки и распоряжения»{72}.
Императрица понимала необходимость для российского общества «смягчения нравов». Для нее «цивилизованное поведение» включало в себя и повышение общей культуры, и умение соответственно вести себя в обществе. В частности, театральные представления в гимназии она рассматривала как одно из средств цивилизовать дворянское население. Во время высочайших обедов говорилось не только о делах, но велись беседы и о культуре. Например, 29 мая 1767 г. в Казани за императорским столом беседовали о театральных спектаклях и о тех комедиях, которые представляли тогда в российских театрах. Августейшая особа с похвалой отозвалась о Расине и Корнеле, а также и о «российском театральном стихотворце господине Сумарокове». В разговоре она заметила, что ей известно, что и в Казанской гимназии ученики представляли комедии и трагедии данных авторов{73}. Тем самым Екатерина дала понять, что это примечательный факт, и она оценивает это как благо.
Известно, что директор местной гимназии Юлий Иванович Каниц с самого начала своего приезда в Казань убеждал учеников принимать участие в постановке пьес, а почтеннейших жителей Казани бывать на них. В Рождество, Масленицу, Пасху и каникулы в гимназическом зале давались представления. Причем директор не жалел собственных средств для их организации. Театральные пожертвования (платы за вход) давали возможность поддержать материально нуждающихся учащихся гимназии. Учениками разыгрывались известные пьесы – комедия «Школа мужей» Мольера, трагедия «Синав и Трувор» А. П. Сумарокова; прологи и балеты, сочиненные самим Ю. И. Каницем{74}.
Узнав, что театральные зрелища прекратились по причине сложных отношений между губернатором и директором гимназии, Екатерина выразила по этому поводу сожаление Квашнину-Самарину: «То весьма сожалительно, что таковые представления в городе Казани оставлены и господину губернатору должно таковые предметы поддерживать и об улучшении их заботиться»{75}. В разговоре с губернатором она отметила, что не только малолетних учеников, но и само дворянство необходимо привлекать к этому делу. Обосновывала она это тем, что «сим оные научаются приятности в поведении и обращении, которые не токмо в столицах, но и в разных провинциях российского государства видеть желательно»{76}. По сути, императрица подавала губернатору мысль о необходимости возобновления данных спектаклей{77}.
Очевидно, что подобные внушения монарха имеют большое значение. Е. Н. Марасинова отмечала, что «на уровне обыденного сознания законом являлась высокая воля ея императорского величества, а законопослушанием» – исполнение ее «ничего не разбирая» и «не щадя сил и самой жизни»{78}. Дворянское общество Казани осуществило пожелание императрицы. Фон Каниц впоследствии представил реляцию о торжествах, проводимых в Казанской гимназии, в Московский университет. 10 апреля 1771 г. в Казанской гимназии представляли «Синава и Трувора»{79}.
В некоторых городах, в которых пребывала императрица, дворянским обществом давались спектакли, что должно было свидетельствовать о его высоком культурном уровне. В Смоленске 3 июня 1780 г. дворянством была представлена российская комедия с хором. Во время бала в зал вступила «кадрилия», которая танцевала «сделанный для нее [государыни] нарочно контртанец». Екатерина пожаловала всем участвовавшим в спектакле и кадрили подарки{80}. В Орле 17 июня 1787 г. в спектакле принимали участие представители избранного орловского общества: были сыграны две пьесы – «Соломон II, или три султанши» и комическая опера «Ворожея». По окончании спектакля хор исполнил концерт, сочиненный на случай прибытия в Орел Екатерины{81}. Таким образом, дворянство выбирало определенную модель поведения – модель культурного просвещенного сословия. В этом заметно его желание показать, что оно соответствует культурным запросам императрицы и является в силу этого подлинной опорой трона. Культурное пространство объединяло дворянство и императрицу общностью интересов.
Анализируя тексты, представляющие прием высочайшей особы, следует отметить отсутствие в них, как правило, сюжетов, способствующих омрачить настроение императрицы. Прежде всего, это касается официальных источников и большей части документов личного происхождения. Тем более представляется важным выявить источники, свидетельствующие о том, что российская монархиня не проходила мимо проблем, касавшихся жизни дворянского общества. В письме к А. А. Вяземскому от 3 июня 1767 г. Екатерина писала, что столкнулась в Казани с проблемой самоуправления казанского дворянского общества. В этом городе она с удивлением обнаружила раздоры как в среде местной администрации, так и между местной властью и дворянами. К моменту ее приезда здесь продолжалась ссора между казанским губернатором А. Н. Квашниным-Самариным и большинством дворянства, вдохновляемого губернским прокурором П. Есиповым. Последний распускал слухи, порочившие личность губернатора, и тем самым отталкивал от представителя власти местное население{82}.
Данная ситуация отразила характерный тип отношений губернатора и губернского прокурора того времени: они были довольно сложны. С одной стороны, губернаторы были склонны смотреть на прокурора, чиновника ниже себя рангом, жалованием и положением, как на своего подчиненного. В то же время теоретически власть проводила линию на то, что прокуроры являются независимыми от губернаторов и воевод. По действовавшим законам они наблюдали за закономерностью действий губернской администрации и были подчинены генерал-прокурору Сената. Вместе с тем, для тех же прокуроров были обычными противозаконные действия, как-то: взяточничество, превышение власти, пользование этой властью в своих интересах, брань, буйство, драки, нередко в пьяном виде. К рассматриваемому времени определяется концепция императрицы относительно компетенции губернской власти. Как отмечал Ю. В. Готье, «Наставление» (1764) делает губернатора «поверенным монарха»: он «есть ответственное и в то же время доверенное лицо государя». Ему, истинному опекуну своей губернии, подчиняются (за исключением столичных губерний) все местные учреждения, дотоле от него независимые{83}. В черновом наброске к «Наставлению» подчеркивалось, что губернатору следовало быть хозяином в своей губернии. В его обязанность входит «смотреть, всякий исполняет ли свою должность и законы; в противном случае он понуждать власть имеет»{84}. Екатерине было особенно неприятно, что Есипов портил имидж представителю коронной власти, в результате чего тот уже «не мог отправлять дела» так, как это было необходимо{85}.
Разумеется, этот конфликт подлежал немедленному разрешению. Отметим те средства, которые использовались властью для смягчения ситуации. Императрица была в курсе тех сплетен, которые «суть более с бабьей стороны», как отмечалось ею в письме к Вяземскому. Она действовала не напрямую, а через своих приближенных. По ее приказу увещевания были обращены к обеим сторонам: «Я за благо нашла налить с обеих сторон воду в вине, дабы вырозуметь, а не сказать, что то делается по моему приказанию»{86}. Особое внимание было обращено на вдохновителя ссоры – П. Есипова. Губернскому прокурору было внушено, что в силу своего поведения он может не только потерять свое место, но и вовсе лишиться возможности проживать в Казанской губернии, как человек, «не любящий мира и тишины». На следующий день по ее указанию к Есипову обратились с советом помирить всех и тем самым изменить мнение о нем самом. Он взялся за примирение после первого же увещевания{87}.
Обо всем этом императрица писала А. А. Вяземскому. Видимо, мысли о «сих распрях» продолжали ее беспокоить, и она решила принять дополнительные меры для прекращения вражды. Вяземскому было рекомендовано написать губернскому прокурору письмо от себя (т. е. от имени генерал-прокурора, непосредственного начальника), в котором было бы отмечено, что о нем, Есипове, говорят как об источнике ссоры, в то время как желание императрицы состоит в том, «чтобы тишина везде сохранялась». Однако вместе с данными внушениями должна была быть подтверждена и его должность{88}.
В целях предупреждения повторения конфликта внутри дворянского общества, Екатерина пыталась выяснить причины враждебного отношения к губернатору. Очевидно, не последняя роль принадлежала здесь жене губернатора, поскольку императрица пишет Вяземскому, что ей «уже вымыли голову». Высокомерное поведение губернаторши стало одним из источников неприязни дворянского общества к губернатору и явилось предметом разговоров в городе. Жене губернатора через сторонних лиц дают совет, чтобы она была приветливее и ласковее с людьми{89}. В этом деле можно отметить средства погашения конфликта в дворянском обществе Казани. В отличие от ситуации в Ярославле, где власть энергично воздействует на городскую общину (там наблюдался раздрай между купцами первых двух гильдий, заседавших в городском магистрате), где воевода города отстраняется от должности, в отношении к дворянству Екатерина действовала более тонко. Возмутитель спокойствия Есипов не лишился места: ему было сделано внушение через ближнее окружение императрицы, хотя, как должностное лицо, он мог быть и устранен. В этом сказалось особое отношение монархини к дворянству как опоре трона. С другой стороны, будучи человеком деятельным и рациональным, она понимала, что любую ситуацию можно переломить, направить в нужное русло. Это был знак новой наступившей эпохи, в которой решающая роль в процессе преобразований отводится воспитанию не только человека, но и общества в целом. В деле воспитания дворянского общества методы убеждения и внушения преобладали над административными мерами.
Как власть воспринимала проблемы, стоявшие перед дворянским населением? Сохранившиеся официальные документы, в том числе актово-законодательный материал, позволяют выявить хозяйственно-экономические потребности дворянства. Одна из проблем, которая волновала дворянство, – межевание земель{90}. Как известно, в первой половине XVIII в. хаотичное состояние земельного права вело к яростным конфликтам между землевладельцами, приводившим к повсеместному захвату земель. Еще в царствование Елизаветы Петровны в 1754 г. вышел указ о генеральном межевании, которое должно было отделить частновладельческие земли от государственных и удовлетворить права на землю их владельцев. Елизаветинское межевание было приостановлено в связи с нехваткой средств, а также необходимостью пересмотреть принцип его организации, изложенный в «Инструкции межевщикам» 1754 г. (обязательное требование от землевладельцев подлинников документов на право владения){91}.
Екатерина II возобновила дело Елизаветы Петровны. Манифест 19 сентября 1765 г. показывал, что целью межевания являлось государственное и «народное спокойствие». В манифесте содержались новые подходы к межеванию, отделявшие обмер и описание земель и их продукции от вопросов о правах собственности. Главным принципом межевания служили не права собственности землевладельца, а установление размеров и границ земли, принадлежавшей той или иной деревне, независимо от количества ее владельцев или принадлежности государству{92}.
Межевание проходило постепенно, не одновременно. Поэтому данная мера оставалась насущной для целого ряда внутренних российских губерний и в 80-е годы XVIII в. Проезжая через Псковскую губернию в Белоруссию (1780), Екатерина услышала просьбу дворян и жителей о скором введении межевания. О том, что власть быстро на это реагирует, свидетельствует указ от 17 ноября 1780 г., информирующий население о намечаемых правительством мероприятиях. В документе отмечалось, что еще указом от 13 апреля 1778 г. было предписано перевести Тверскую Межевую контору в Псковскую губернию. Поскольку императрица не имела сведений о том, закончит ли в следующем году свою работу данная контора, она повелела учредить особую Межевую контору «с довольным числом партий землемерных». В данном документе утверждалось, что межевание в Псковской губернии непременно начнется весной 1781 г. В силу этого дворяне губернии должны быть осведомлены об этом событии, чтобы наготове встретить землемеров: приготовить поверенных с надлежащими по форме «верющими письмами», на случай же споров представить «крепости»{93}