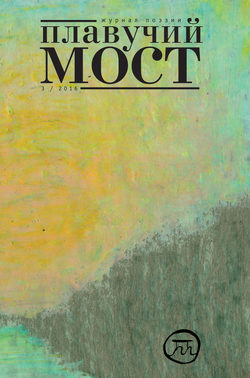Читать книгу Плавучий мост. Журнал поэзии. №3/2016 - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 4
Берега
Амарсана Улзытуев
Автопортрет
ОглавлениеУлзытуев Амарсана Дондокович, родился в г. Улан-Удэ в 1963 г. Публиковался в журналах «Новый Мир», «Арион», «Юность», «Дружба народов», «Журнал поэтов», «Homo Legens», «Байкал», «Рубеж», «Сибирские огни» и др. Стихи переведены на ряд языков и опубликованы в «World Literature Today» / «Мировая Литература Сегодня» (Нью-Йорк, США), «PLUM» (США), «Atlanta Review» (США), «Punctum» (Латвия), «ШО» (Украина), «Ундэсний уран зохиол» (Монголия), «Asymptote» (Лондон, Великобритания) и др. Автор поэтических сборников «Сокровенные песни» (1986, предисловие Евг. Долматовский), «Утро навсегда» (2002), «Сверхновый» (2009, послесловие Александр Ерёменко), «Анафоры» (2013, предисловие Максим Амелин), «Новые Анафоры» 2016, предисловие Лев Аннинский, послесловие Евгений Рейн.
Автопортрет
Чистое золото орд моего лица,
Чик узкоглазым, как лезвие взглядом – и нету его, супротивника мово!
Вырастил я нос-да ни нос, приплюснутый кувалдой,
Выпрастал из под жестких волос ушки на макушке – слушать топот
судьбы.
Если захочешь стать ханшей моих широких скул, богиней моих
алчных губ,
Есть один способ, есть:
Влюбиться в этот боксерский нос-дикорос,
Включиться как лампочка об этот чиркающий по тьме взгляд.
Лосиная песнь
Я способен любить лосих,
Может быть, я способен любить
В этом диком краю облепих
И глухих кедрачей, может быть.
Я привычен к инстинктам лосей,
Я приучен себя обрекать,
На соперников гордо глазеть
И на зорях крушить им рога.
И не хуже могучих самцов
Может быть, я умею трубить,
И на мой из утробы зов
Та, что любит, придет, может быть.
И тогда, на виду всей тайги
Я наполню лосиху мою,
Ведь способен я быть таким
В этом диком, глухом краю!
1984
Воспоминания о Литинституте
Помню, как-то взбрело мне на пианино учиться,
Помню, как помогала, как не давала лениться,
Литинститут, мы такие смешные, давай по общаге носиться,
Как у Хармса старушки, из окон валиться…
Там, где рана, ты корочкой, кожицей, нежной живицей,
Тотчас рядом врастая в меня, то сестрою, то красной девицей,
Ирка, Ирочка Вихрева, юность моя, чаровница,
Где ты, что ты, спасительница, соученица…
Дай, и я заживлю твои раны, как свечи, задую,
Дай, и я тебе песню спою, у кровати твоей заворкую,
Отведу твои беды, отправлю к чертям, заколдую,
Я ведь знатный шаман теперь, и судьбою, как бубном, верчу я.
Что случилось с тобой, приключилось с тобою, сестрица,
Чу, дурацкие мысли гоню от себя, начинаю сердиться,
Разве только, безбожник, попрошу перед светлой седмицей,
Я Его попрошу, возоплю за тебя, если что, заступиться…
Одноклассница
Девочку вспомнил, незабудку,
Десять классов ее любил.
Сотовый ее сегодня дали,
Сорок лет спустя.
Говорю с ней…
Голос ее, медовый, слушаю,
Горло сдавило сладким комом,
Горько ее любил, неприступную.
Косички дергал,
Косил глазами с дальней парты в ее воротничок,
Как сумасшедший вел себя на переменке,
Коричневый ее фартук чуть завидя.
Пытался полюбить других девчонок –
Пылкую изображая страсть,
Писал стихи какой-то восьмикласснице в Уфу,
Прыщи давил…
Сказала, что уже бабушка –
Сказка с хорошим концом.
Сколько себя помню – всегда был влюблен,
С детского сада – в нежную гармонию вселенной.
Сад
В сад из цветов попал ошеломленный,
Всадил в меня садовник нож из роз,
В сабельный удар попал тюльпанов,
Всадники гвоздик, живого, пригвоздили.
Оказывается, есть еще восторг,
Акация благоухает прямо в душу,
Око за око! – всем цветам,
Окаянные, укалывают насмерть!
Я и не знал, что можно так влюбиться в жизнь,
Явь такою негой может ранить,
Яростью пронзительной цветов,
Яхве, не гони меня из Рая!
Из жизни земляков в Москве
Разбойником во лесах он был бы – лихим и жестоким,
Риски любит, как в детстве ириски. В пьяном угаре
Рим он мог бы разрушить варваром злобным,
Риэлтор… в аренду чужое жилье сдает,
Работа для черствых душой и ленивых,
Раб своих вредных привычек,
Радоваться людям не нужно и лишне – лишь бы впарить лоху
подороже,
Ради Христа, прости его Боже,
Рано отца лишился, маму не слушал, попал под дурное влиянье
песен блатных,
Раз, и первая ходка…
А как он поет!
Акафисты ему бы служить святым отцам чудотворцам!
Аще обрящеши кротость, одолееши мудрость!
А нам то что до заповедей древних,
Аспид, недавно опять выпил и руку поднял на родных,
Я же ему говорю – брат мой, добрее, добрее будь…
Лето
Озеро Щучье, купаюсь с моими детьми,
Оленьке – девять, сыну Дондоку – шесть,
Рядом мой друг, Мастер Ли, Лихотин Леонид –
Рябь от него по всему побережью.
Дочка и сын бросают мне круг – Папа, лови!
Долго я плыл к нему – 43 года,
Дорог мне радости каждый малюсенький миг
Досыта быть счастливым отцом во вселенной.
Много кипучей воды утекло стой поры,
Мною до дыр зачитана Книга священная судеб,
Снов из глубин, лавин мирской суеты
Снова и снова мне улыбаются дети на озере Щучьем…
Ире Васильевой – королеве митьков
Как приехал я однажды я в Санкт-Питерсбург,
Как не знаю кто весь простуженный,
Да как отпаивала меня королева митьков
Душистым собственных рук – глинтвейном.
А еще с нами был коллега ее –
Афигенных гравюрных дел мастер,
А хозяйка-красавица баиньки уже ушла,
А мы болтали до утра да варили пельмешки…
Так об чем у нас был с ним разговор –
Как я в Лувре однажды видел гравюры Гойи,
А он мне понарассказывал про их дела –
Афигенные их гравюрные титанические дела…
Там на кухне голубь на излечении жил не тужил,
В такой коробке картонной –
Он выглядывал в дырку и всевидящим оком косил,
Ну прям – Ленин из броневика…
Ну, я целу неделю стихи там читал –
У Арсена, у Мякишева с Ингой, с Умкой, у Либуркина,
Мою благодарность всем – кто бы приютил? –
Молча, как голубь бьет крылом о стенки черепной коробки…
Я обратно уехал я в азиатскую Москву родну,
Чтоб сон разума не рождал чудовищ…
Как во сне побывал, революции колыбель покачал,
Как бы глянул в окно – как бы в черный квадрат Европы…
Самовар
Как бежала Агафьюшка, по траве да по камушкам,
Кабы знала куда убегать, утекать,
Шибче хитрой лисы, гибче мамушки-реченьки
Шла-бежала, она, а в руках самовар.
А лежал ее путь через сопки таежные,
А бежала, Агафьюшка, от советских властей,
А проворною мышкою, с самоваром под мышкою,
От людей хоронясь, во родной Куналей.
Пой пичуга-заступница о беглянке-преступнице,
Гой еси, о восстании мужиков-кулаков,
Как в глухие тридцатые староверы брадатые
Казнь Господню устроили, активистам-чертям.
А за это им было кому пуля в кулацкое рыло,
А кому – по этапу за Яблоновый хребет,
Из Петров-Забайкальского жинка сбёгла кулацкая,
Жизнь беречь бесперечь – сберегла самовар…
Самовар, тульский пар, самоварище!
Сам поет, петь зовет сотоварищи,
О латунный живот можно греться,
Оживить умеревшее сердце…
Вот стоит он, пузатый, сияет,
Человеческий род продолжает…
Эх да что не пыль – поем – в полюшке запылялася,
Ох и запялялася…
Итигэлов
Человек может быть иль не быть,
Чумазый, голодный в морозной степи сирота-пастушонок,
Говорят, под хохот хозяйский, он звонко сказал: Буду Хамбой!
Грея озябшие ножки в теплой коровьей лепешке.
Человек может быть иль не быть,
Чистым и вечным, как в детстве,
Черепом Йорика еще можно быть,
Чем-нибудь сгнившим, истлевшим, отжившим…
Полон к юдоли земной состраданья и скорби,
Понял тщету мира вещей и вещью не стал,
В позе лотоса, йогин бурятский,
Погрузился в неевклидово царство самадхи.
В сумерках старых богов-тенгэриев –
Сумеру, златою горою волшебной в своем животе,
Живого, мама его носила,
Святого, степь донашивала.
Быть иль не быть Итигиловым,
Выйти из чрева земли через семьдесят пять материалистических лет,
Смертию смерть поправ,
Сущим во гробех живот даровав…
Харджиев. Золотой век
Татлин пришел посмотреть на мертвого Малевича,
Только и сказал: «Притворяется»,
Туфанов, старый заумник, калека, горбатый, нелепой наружности,
В 1928-м, на вечере ОБЭРИУ…некогда Хармса с Введенским живородивший,
Малевич, там же, сидевший важно,
Крученых говорящий: «Бог – тайна, а не ноль. Не ноль, а тайна» Татлин восхищавшийся и ссорившийся без конца с Ларионовым, Малевич ссорившийся и восхищавшийся без конца Ларионовым,
Ларионов, наш Сезанн, ни на кого не похожий, всеми любимый
и со всеми ссорившийся,
Любимые ученики Малевича за его супрематическим гробом
в исполнении Суетина,
Чьи абстракции напоминали иконы,
Чьи живописные и авангардистские слоны разбрелись
по его женам…
Перебежавшие от Шагала слетающими витебскими евреями,
Прескверным характером даже в триумфальном Париже оплакивавшем
иудушек-учеников,
Жена художника-лефовца, истеричка, но что-то в ней было,
Жаловавшаяся Маяковскому и Лиле Брик на неверного мужа…
Ибо все уже было создано до революции,
И даже дрянь человек Родченко уже пришел на все готовое,
Хлебникова любимый художник Филонов,
Хотя и провалился потом в Париже, ходил пешком по Европе…
Кандинский, фовист, ничего не понимавший в русском конструктивном
лубке,
Кисло защищал его Малевич: «он все-таки беспредметник»
Но Хлебников, еще раз Хлебников… в нем есть все,
Уходя в никуда, мне сказал Мандельштам…
Ахматова: я всегда мечтала дружить с тем, кто не любит моих стихов,
Набоков, графоман и бездарность, ругавший русский язык
в «Приглашении на казнь»,
Писавший статьи под фамилией Человеков – Платонов,
Пили мы с ним как-то водку и разговаривали о Евангелии…
И далее интервьюер пытает у сказочного Харджиева:
И так, Николай Иванович, что вы думаете о канонизации Мандельштама?
– Американцы сделали из него Брокгауза и Ефрона,
А он, хоть и гениальный человек, но весь помещается у меня на одной
ладони…
Я, словно горное озеро, несу столько лет великую правду о Велимире, Ясность внесу я, наконец, о поэте, рождающемся раз в тысячу лет, Оклеветанном пятитомником, где ни одного правильного текста, О короле времени песнь Кастальских ключей время настало пропеть… но ограблен я и убит…
Оживить ребёнка. Украина
Оживить бы эту крохотную девочку, что на руках у отца,
О, оживить бы ее, пусть в куклы свои играет,
А не осколками от гаубичных снарядов,
А не хвостовым опереньем ракет залповой установки «Град».
Кто нашу Полиночку ухватил за бочок,
Кто нашу кровиночку утащил во лесок –
Щоб в орудийном прицеле – жили и пели,
Говорить и умирать хотели?..
Крутится-вертится того света серенький волчок,
Крошит в окровавленный космоса комок,
Тащит на убой под ракитовый кусток –
В тоненькое одеяльце завернутую, баюкая, несет…
Баю-бай, свет Полина Витальевна, баю-бай!..
Бабай по ютьюбу успокаивает – то не снаряды, то новогодние
хлопушки от Деда Мороза…
Баюшки баю,
Бездны мрачной на краю…
10.06.14
Унга-Зирунга
Ах, эта песня рабов из бразильского сериала Рабыня Изаура,
Ази-зун-г рун-гэ знаменитое, с суржика португальского:
«Высокий сладкий тростник
Ой, высокий сладкий тростник
Гля, какой высокий
Высокий и сладкий
Ой, сладкий!»
А мелодию, оказывается, сочинил Доривал Каимми,
Автор генералов песчаных карьеров моей хулигансой юности…
И дело вовсе не в том, что по капле выдавливать из себя раба,
Или выдавливать из широт и долгот себя – рабов и господ страну,
А просто – о, достоевскиймо – от ударов хлыста умирая,
Оставаться свободным, унг-зирунг напевая…