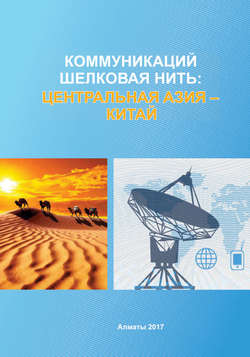Читать книгу Коммуникаций шелковая нить: Центральная Азия – Китай - Коллектив авторов - Страница 2
ВВЕДЕНИЕ
ОглавлениеРеалии коммуникаций через Центральную Азию, издревле бывшую мостом для контактов между Дальним Востоком и Европой, известны. Караванные тропы древности и средневековья, импорт бамбуковых полотен как основы для письма и живописи, обмен товарами, – все это закрепило в сознании торговцев и всего населения, вдоль магистрали Шелкового пути, образ прочной коммуникации. И даже собственно Великая Китайская стена будто указывала траекторию пути, вдоль которого при необходимости перемещались номады…
Шокан Уалиханов, будучи во второй половине 19 века с экспедицией в Синьцзяне, ухватил суть коммуникаций между этим регионом и соседней Средней Азией; его находки рукописей в буддийских монастырях, графическое наследие – зарисовки флоры и фауны, этнографические наброски, – в дневнике его путешествий значительно обогатили востоковедные изыскания.
Полярная звезда на небосводе, вечный ориентир для кочевников, за два века до н.э. была взята по велению китайского императора Цинь Шихуанди в качестве отправной точки для строительства столицы новой империи. Японские исследователи доказали, что воспроизводство карты звездного неба было реализовано при строительстве его столицы [1].
Полярная звезда (каз. – Темір қазық) была путеводной звездой для Чингисхана и чингизидов, о чем не мог не знать Букейханов Алихан, назвавший свой журнал именно «Темір қазық», издавая его в Москве! Генетически ощущая внеземную связь с замыслом свыше, он сделал, что мог для нации казахов.
О проектах магистралей трансконтинентального формата через РК, в которых заинтересован капитал Ближнего и Дальнего Востока, столетие назад никто не помышлял. Здесь большей свободой пользовался европейский фунт или марка. Опыт легализации проектов международных концессий на территории Казахстана касался территорий вокруг водоемов: Каспия и Арала, что воспринимались европейцами как объект потенциальных инвестиций. О фактах рискового предпринимательства 19 века сообщают архивные источники и зарубежные публикации. Царские власти начали допускать иностранный капитал на рубеже 19-20 веков к разработкам ископаемых в колониальном Казахстане [2].
Привлекательность Казахстана не уменьшилась, а увеличилась в 20-м столетии, с обретением автономного статуса. Новая экономическая политика (НЭП) советского правительства окрылила людей, живо интересовавшихся бизнес-возможностями. Помимо восточной границы, казахские руководители в 1920-е годы имели выход на США, Германию, поставки сельхозсырья и нефти из каспийского бассейна всерьез интересовали зарубежных инвесторов. Необходимость в строительстве коммуникаций становилась все более очевидной, тема поднималась на республиканском и союзном уровнях. Но финансирование проектов в межвоенный период имело характер неравномерный, поскольку одновременно велось строительство мега-проектов (Беломорканал и проч.), позже на объекты были переброшены трудовые «резервы» из числа политзаключенных. Факт, что в процессе создания первых банков и филиалов в Казахстане и выстраивании гармоничной системы внешнеэкономических операций, импорта-экспорта, деятельности Госплана, Упсырзага и других брендовых структур участвовали патриоты, весьма образованные спецы и организаторы. Они обращали внимание на статус республики, требуя большей самостоятельности в внешнеэкономических делах. Из эмиграции их поддержали Мустафа Шокай и Раимжан Марсеков.
По замыслу советских казахских менеджеров (Госплан), для роста оборота торговли с Синьцзяном, по настоянию опытных купцов, до революции отправлявших товары в китайскую провинцию, необходимо было инвестировать в приграничное дорожное строительство. Если в сухую погоду можно было рассчитывать на гужевой транспорт и автомобильные перевозки, то в зимнее время, когда выпадает много снега, и в весенне-осеннюю распутицу без железных дорог планировать развитие торговли было бы несерьезно. Так, высказывались мнения в пользу прокладки железных дорог параллельно со строительством Турксиба, в сторону Китая. Эти предложения озвучены были на заседаниях комиссий Госплана. [3].
История ж/д строительства в Индии в 19 вее во многом сходна с историей ж/д сети ЦА: статус колонии, зависимость от метрополии, ресурсы. Лондонские эксперты в 20 веке цепко отслеживали схему коммуникаций, чем воспользовался опальный М.Шокай. [4]
Вопрос о прокладке ветки ж/д в Синьцзян был рассмотрен в Наркомате путей сообщения в Москве, была составлена демонстрационная карта-схема. О карте говорится в архивных документах М.Шокая, в них пересказана поездка и его доклад в Лондоне 27 марта 1933 года в Институте по международным делам. Среди слушателей доклада были известный дипломатразведчик сэр Перси Сайкс (Sir Percy Sykes), в течение долгого времени состоявший генеральным консулом Англии в Иране и Кашгаре, а также председатель Института по международным делам сэр Малкольм (Sir Nell Malcolm).
Шокай пишет: «… На слушателей заметное впечатление произвели приводившиеся в моем докладе сведения о проектах большевиков построитьжелезнодорожные ветви, соединяющие Восточный Туркестан с Турксибом. Карта, которую я демонстрировал, произвела большую сенсацию. На карте этой отмечены, как подлежащие постройке, три линии: Сергиополь – Сары-Сумбе (на территории Восточного Туркестана), Бахты – Чугучак (тоже на территории Восточного Туркестана) и Алма-Ата – Кульджа (тоже в Восточном Туркестане)» [5]. О происхождении карты Шокай уточняет: «Карта эта является приложением к книге «Туркестано-Сибирская магистраль», изданной в 1929 г. в Москве Комиссией содействия постройке Турксиба при НКПС. Следовательно, она официальная, и ее аутентичность не может вызвать никаких сомнений».
В указанный период в советский обиход прочно вошло слово «концессия», по всей стране разъезжали коммивояжеры и концессионеры разных оттенков (талантливо обрисованные в романах Ильфа и Петрова «12 стульев» и «Золотой теленок»), фонтанировавшие заманчивыми идеями освоения недр и обогащения жителей окраинных республик [6]. Крах большинства этих проектов ознаменовался свертыванием НЭП. Оборвались международные связи, концессионеры канули в Лету, в скором времени оказались за решеткой местные соучредители. Казалось, регион вновь погрузился в сонную дремоту. Однако распад СССР и меры по выживанию бывших союзных республик проложили путь к ренессансу меркантильного интереса зарубежных предпринимателей к ЦА.
Ныне термин «дорожная карта» взят на вооружение постсоветскими экономистами; последние по времени кризисы привели к реставрации метода Белого дома. Дело не столько в экономике, сколько – в возрождении некой сакральной восточной идиомы «путь». Дао (кит.) – путь – жол (тюрк.) – тарихи (араб.) – рахмон (фарси) – неслучайные ассоциации вызывает эта перекличка.
Тема трансконтинентального ж/д строительства вокруг ЦА актуальна и имеет свою письменную историю. Логистика современных и будущих железных коммуникаций вокруг Центральной Азии (далее – ЦА) также имеет свою предысторию. Регион с уникальными запасами природных ресурсов остается привлекателен для иностранных инвесторов.
Кризис призвал наше правительство обобщить мировой опыт и декларировать реанимацию системы профтехобразования, или подготовку кадров среднего звена. Инженеры нужны, в том числе и для обслуживания отрасли пассажирских и грузовых перевозок. Техническое состояние Қазақстан темір жолы (КТЖ) оставляет желать лучшего: долгое пребывание в имперской российской, затем – советской инфраструктурах имеет следствием устаревший парк тепловозов и электровозов (дилемма «дураки и дороги» приложима и к нашей действительности). Лишь недавно отечественные ж/д обрели вагоны повышенной комфортабельности «Тальго».
История вопроса. Собственником КТЖ является суверенное государство РК. Веком ранее Казахстан оставался колонией Российской империи, часть его территории в 1895 г. «задела» ветка Транссиба (станция Петропавловск). В статуте автономной, а затем союзной республики, вводилась в строй национальная ж/д сеть Турксиб. История освоения казахами «шайтанарба» достаточно описана в литературе, тогда как отсутствуют отечественные труды о месте и роли центрально-азиатской сети ж/д во всемирной истории коммуникаций. Глобализация актуализирует стратегически важные геополитические составляющие региона, которые переплетаются с понятиями «государство», «нация».
Государство и номады – тема острая для непосвященных, а их легион. Относительно сути государственности кочевых обществ Центральной Азии ее изложение впереди. Потоки времени стирают материальные артефакты: дворцы, крепостные стены, разрушают рукотворные стелы и свитки, наряды и троны. На наш взгляд, подходы к теме лежат в междисциплинарных контактах. Географически обсуловленная историческая миссия региона уяснима на фоне макроэкономических исследований. Мы – часть восточного ареала и частица всемирно-исторической эволюции, что зримо фиксируется в логистике межстрановых коммуникаций.
ЦА расположена на пути глобальных обменов товаров, – от равновесия ситуации в этом регионе прямо зависят прибыльность всемирных экспортно-импортных операций, не исключая сферу мирового сухопутного туризма. Суверенный статус Республики Казахстан определил особый статут нашего государства в сухопутных ж/д коммуникациях в этой части мира. В первую очередь, это – качественный менеджмент и технологическая безопасность. Государственные интересы Казахстана распространяются на сферу транзита, что закономерно.
Попытки преодолеть геополитические разногласия держав, интересы блоков, во имя конструктивного освоения пространства, хранит всемирная история. Уместна параллель с ж/д строительством Англии в Индии, Персии. Зарубежная историография темы складывается как из фундаментальных фолиантов, так и из «скороспелых» комментариев современных процессов, и не всегда последние доброжелательны, поскольку имеют под собой политическую подоплеку, фобии разного рода [7].
Экономически ориентированные СМИ редко затрагивают логистику ж/д строительства. Причиной слабого освещения темы является ее полузакрытость, поскольку страны-партнеры избегают открыто публиковать двусторонние договоренности, стремясь избежать огласки, дабы не вызвать противоборства со стороны стран-конкурентов.
В зарубежных англоязычных изданиях последних лет тема сухопутных коммуникаций между Востоком и Западом фрагментарно, но отражена. В целом, в зарубежной историографии тема не нашла специального отражения. Исключение могут составить: небольшое издание 2014 года о современной интерпретации Шелкового пути как«наземного моста» между Китаем и Европой через Центральную Азию и Россию. [8, р.2] В нем говорится о связующей роли современного Шелкового пути между Западом и Востоком и для внутреннего товарообмена в ЦА. В книге обращается внимание на необходимость улучшения качества сферы услуг по трассе, на уровне национальных республик, в рамках Таможенного союза и ЕвразЭС. Роль инвестиций из Китая также не обойдена вниманием авторов. Зарубежным исследователям легче ориентироваться в современных процессах, однако они не знакомы с историческими источниками, что затруднило им проведение сопоставительного анализа.
В плане сравнительно-исторического описания, другое издание [9] содержит этапы развития железнодорожной отрасли в Китае, на основе документальных источников из Гонконга и Китая, в частности неопубликованной ранее китайской рукописи, описываюшей историю китайских железных дорог (Li Shuming). В издании содержатся интересные грани «большой политической игры» иностранных держав, в их попытках получить влияние на Поднебесную через строительство железных дорог, для собственной выгоды. На этом фоне, книга может быть полезна в смысле сопоставления истории и современной геополитики.
Общую картину истории ЦА в зарубежной библиографии дополняют научно-популярные книги. Так, исторический этап эпохи Чингис хана и его империи, прогрессивные меры эры его правления, в смысле роста межкультурной евразийской коммуникации, описаны в книге [10].
Англоязычная историография темы ж/д строительства в Евразии периода «холодной войны» гораздо насыщеннее по количеству и качеству исследований. Стоит оговорить, что большинство их несут на себе отпечаток политического соперничества и представляют собой типичные публикации в академических журналах.[11]
В зарубежной историографии темы имел место определенный «вакуум» между окончанием «холодной войны» и современными публикациями в СМИ. Из англоязычных изданий, вышедших в «постперестроечный» период за рубежом, можно было бы отметить издание об истории ж/д строительства в Индии, о том, что унаследовал постколониальный Индостан в свое время. Относительно полный перечень тематических зарубежных и советских изданий опубликован в монографии Derek Howard Aldcroft [12].