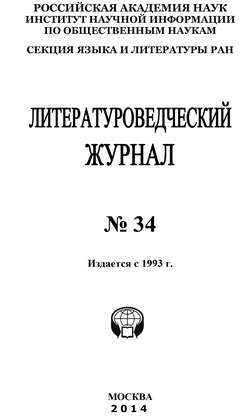Читать книгу Литературоведческий журнал №34 / 2014 - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 2
Русская словесность в мировом культурном контексте: IV Международный симпозиум (Москва, декабрь, 2012)
Автопортреты в эпических произведениях А.С. Пушкина
ОглавлениеИ.А. Балашова
Аннотация
Автопортреты в прозе Пушкина вторят его поэтическим и графическим карикатурам и вызваны иронией по поводу ситуаций литературной жизни («Гробовщик»), гротескным представлением отрицательного персонажа («Капитанская дочка»), самоиронией («Египетские ночи»). Обращаясь к своей внешности и характеру, Пушкин обнажал трагикомическую суть бытия. Вместе с тем веселое, ироничное или самокритичное присутствие автора гармонизирует образный мир созданных Пушкиным эпических произведений.
Ключевые слова: портрет, автопортрет, лирическое «я», автор, персонаж, ирония, карикатура.
I.A. Balashova. Self-portraits in A.S. Pushkin’s epics
Summary. Self-portraits in the prose of Pushkin echo his poetic and graphic caricatures and are caused eigther by his ironic attitude to some situations of literary life («The Coffin maker»), or grotesque concept of the negative character («The Captain’s daughter»), or self-irony («The Egyptians nights»). Addressing to his own appearance and character Pushkin naked a tragicomic essence of life. At the same time cheerful, ironic or self-critical presence of the author harmonizes the world of Pushkin’s epics.
Создавая портреты, а иногда и автопортреты в лирике, Пушкин выражал чувства и мысли лирического «я», не описывая подробно его внешность и поведение.
В лироэпических произведениях автор соотнесен с героем10. Об основном персонаже поэмы «Кавказский пленник» поэт писал: он доказывает, что «я не гожусь в герои романтического стихотворения»11. В романе «Евгений Онегин» Пушкин придал свои свойства образам героев. Вместе с тем в пушкинских поэмах, повестях и романах созданы и автопортреты. Выслушав чтение В. Жуковским произведения «Ибрагим, царский Арап» в апреле 1837 г., С. Карамзина писала о главном герое: «…многие черты характера и даже его наружности скалькированы с самого Пушкина»12. Пушкинские автопортреты имеют особую поэтику и играют значительную роль в его крупных творениях.
Так, интригующая неясность сути характера Онегина поддержана в романе Пушкина представлением себя – автором, участником сюжета, биографической личностью. Однако черт лица Пушкина и Онегина в произведении нет. Для автора было важно сохранить образную недосказанность. В письме брату он послал зарисовку, где поэт повернут спиной к зрителю. Рисунок А. Нот-бека, развернувшего Пушкина, вызвал его неудовольствие. Автопортрет поэта лишь намек, что делает его ироничным, и под рисунком рядом с номером «1», обозначившим автора, написано: «Хорош»13. Особенности автопортретов романа и рисунка выявили одно характерное свойство поэта.
Среди графических зарисовок Пушкина немало шаржей и карикатур. Они ценились друзьями и знакомыми поэта14. В графических карикатуре и шарже как ее разновидности при сохранении сходства утрированы те или иные черты внешности и выражено оценочное отношение к портретируемому. Таковы у Пушкина портреты, например, М. Воронцова, Д. Давыдова, А. Раевского, П. Вяземского, Ел. Ушаковой15. Ф. Шлегель писал: «Ирония есть ясное осознание вечной изменчивости, бесконечно полного хаоса»16. Склонность Пушкина к юмору обусловлена ценимой им свободой творческого проявления.
В лирике, представлявшей знакомых поэта, нет конкретных черт внешности («К портрету Чаадаева», «К портрету Жуковского», «К портрету Каверина», «К портрету Вяземского»). Появление же их, как правило, сопровождалось юмором, иронией или сарказмом. Это видим в стихах разных лет, например, в экспромте «И останешься с вопросом…», в посланиях «Денису Давыдову», «Давыдову», «Ел.Н. Ушаковой», стихах «Подъезжая под Ижоры», «Зима. Что делать нам в деревне?..», «Румяный критик мой…», «Моя родословная», «Когда за городом задумчив я брожу…». Те же приемы выразительны в эпиграммах, например, «О, муза пламенной сатиры…», «На Колосову», «На Каченовского». Разумеется, конкретные черты знакомых могли и не сопровождаться ироничной оценкой, но такие стихи малочисленны. Среди них «Наперсница волшебной старины…», «Ты вянешь и молчишь; печаль тебя снедает…», «19 октября», «Няне», «К вельможе», «Когда в объятия мои…», «Полководец», «На статую играющего в свайку».
Существенно то, что автопортреты в лирике поэта всегда даны с иронией. Таково стихотворение «Mon portrait», послания «N.N. (В.В. Энгельгардту)», «Юрьеву», «To Dawe ESQR».
Интересно, что и образ Ленского, автобиографичный для молодого Пушкина и имеющий описание внешности («кудри черные до плеч»), наделен свойством карикатуры17.
В романе об арапе Корсаков отговаривает Ибрагима от женитьбы, и в числе доводов такие: «…с твоим сплющенным носом и вздутыми губами, с этой шершавой шерстью бросаться во все опасности женитьбы?..» (VI, 37).
Иронию и приемы карикатуры видим и в графических автопортретах Пушкина. Поэт зарисовывает себя в виде дворцового скорохода, в виде женщины, в образе лошади18. С годами графические автопортреты все чаще ироничны: поэт предстает в образе старика, горца, Данте, увенчанного лавровым венком19.
Те же особенности предстают в автопортретах, созданных в повестях и романах Пушкина. Помимо повести об арапе это образы произведений «Гробовщик», «Капитанская дочка» и «Египетские ночи».
Пушкина всегда интересовали разнообразные характеры, но он с особой настойчивостью обращался к своему облику при создании образов героев поэм, повестей и романов.
В сравнении с лирикой в эпическом произведении возможно развернутое представление своей внешности и характера. Добивался ли Пушкин конкретизации образа или это был самоанализ?
В рукописи повести о гробовщике видим иллюстрацию с элементами шаржа20. Пушкин здесь узнаваем: у сапожника густые бакенбарды, веселое выражение лица, и перед нами общительный человек. Напротив него гробовщик и он же Плетнев, издатель пушкинских произведений. Сапожник в роли просителя, он приглашает гробовщика на юбилей. И так же Пушкин зависим от издателя, усилия которого определяют судьбу произведения. Зарисовка вторит иронии сюжетного действия, где подчеркнута цеховая принадлежность основных героев, которой Прохоров гордится и в то же время готов ею вторично поступиться из-за денежных трудностей, связанных с новосельем. Но какова роль ироничного автопортрета в повести?
В ней почти нет изображения лиц персонажей, пребывающих в мире живых; упомянуты лишь «свежее лицо» сорокалетней Луизы, супруги Шульца, и представлен напившийся переплетчик, «коего лицо казалось в красненьком сафьянном переплете» (VI, 84, 85). Вместе с тем, привлекая широкий литературный контекст, автор подчеркивает: Адриан Прохоров угрюм и задумчив. Отказавшись от яркого контраста героев Шекспира и Скотта, Пушкин создал новый, вторящий известному. Он показал веселым, общительным, говорливым сапожника. Упоминание английских авторов, эпиграф из Державина, ссылка на Погорельского, цитирование сказки Измайлова создают литературный контекст повести, пародирующей роман Булгарина о Выжигине21, и обращающей этим к литературным спорам, в том числе спору Пушкина и Булгарина. Именно этот контекст усилен рисунком, в котором герои повести, не имеющие лиц и отождествленные многократными называниями «сапожник», «гробовщик» с их профессией, обрели лица и предстали пребывающими в диалоге литераторами. На рисунке изображен веселый, общительный, остроумный Пушкин в образе сапожника немца, имеющего русский курносый нос и бакенбарды автора пародийной повести.
Вторым на рисунке показан Плетнев в образе угрюмого гробовщика, и в этой множественности образов и обликов профессионалов, их диалога и споров, в этом нарастании комического предстает определенным же образом интонированный диалог-спор с автором романа «Иван Выжигин», о «мертвой безжизненности» которого писал Н. Надеждин22.
Многоплановость иронической и сатирической канвы повести, написанной в Болдине первой из всех вошедших в цикл, сопоставима с умением Пушкина рисовать себя веселым. Не менее совершенен и так же важен для создания образа героя ироничный автопортрет в романе «Капитанская дочка». Перед приехавшим в крепость Гринёвым Швабрин, и он узнаваем: это «молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым <…> Швабрин был очень не глуп. Разговор его был остер и занимателен. Он с большой веселостию описал мне семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба…» (VI, 277).
Облику и поведению Швабрина писатель придал полное сходство с собой. Важно при этом, что Швабрин отрицательный герой, но Пушкин не стремится скрыть свой прием. Однако им не исчерпывается описание внешности героя, а главное – его поведения и характера. Портрет Швабрина, и он же автопортрет Пушкина, дискретен, не полон. Эта, определенная иронией и даже шаржем, дискретность вскоре проявляется. Основа же созданного облика – его автопортретность, очевидно, камертон для восприятия героя в ироничном, а затем сатирическом, гротескном ключе.
А. Мицкевич, отметивший в своих лекциях «изумительную красоту» пушкинской прозы, говорил: «Она беспрестанно и неприметно меняет краски и приемы свои»23. В романе меняется интонация при показе поведения героя.
В дальнейших событиях претерпевает изменения и внешность Швабрина: не раз упомянуты его прическа, затем волосы, не представленные при первом описании. Гринёв видит его среди мятежников, «остриженного в кружок и в казацком кафтане», о том же говорит попадья (VI, 308, 311). Позже Швабрин показан с новым атрибутом: «Он был одет казаком и отрастил себе бороду» (VI, 339). Перед отъездом юноши из занятой казаками крепости Швабрин отворотился «с выражением искренней злобы и притворной насмешливости». А когда Гринёв уезжал с Машей, читаем об изменнике: «лицо его изображало мрачную злобу», на суде «он усмехнулся злобной усмешкою» (VI, 317, 344, 354). В последнюю встречу Гринёв видит соперника, и мы узнаем о его внешности то, что существенно отличает Швабрина от автора романа: «Волоса его, недавно черные, как смоль, совершенно поседели; длинная борода была всклокочена» (VI, 353). Между тем Пушкин имел волосы каштанового цвета, он шатен, что отмечали в своих воспоминаниях М. Юзефович и В. Нащокина24. Но у поэта были и сильно вьющиеся волосы. Имеющееся отличие внешности предугадывалось уже в первом описании новой прически Швабрина: он острижен в кружок, и потому его волосы прямые. Не указав их в автопортрете при первом появлении персонажа, автор выявляет теперь изменения внешности героя и то, что эти изменения необратимы. Кроме того, Швабрин «ужасно худ и бледен». А в эпиграммах Пушкина определения «бледный» («бесстыдно-бледный»), «седой», «поседелый», «старик», «старый» обозначают ущербность портретируемого и нередко связаны с проявлением им бессильной злобы.
Из-за дискретности первого портрета стал возможен показ изменений, рассказ о доминирующих чертах внешности и личности героя, что соответствует приемам графической карикатуры. Несомненно, Швабрин, теряющий честь, создан Пушкиным во все более явной и яркой гротесковой манере. И это существенно в контексте сложного интонирования романа о трагикомедийных персонажах и сюжетах национальной истории. Потому для автора важен ироничный автопортрет, приближенный к карикатуре и разворачивающийся далее в гротескный, шаржированный портрет отрицательного героя.
Смеховая природа пушкинского дара соотносима с многогранностью его образного мира, многомерностью героев. Ею же определено и возрастающее эстетическое совершенство произведения, о котором писал Ф. Стендаль, размышляя об истории итальянской живописи: «Если эта прекрасная голова так чарует меня своей глубокой серьезностью, что будет, если она снизойдет до того, чтобы мне улыбнуться? Для того чтобы могли зародиться сильные страсти, очарование должно возрастать; это прекрасно знают красивые женщины Италии.
<…> Рафаэль хорошо это знал. Другие художники обольщают, он очаровывает»25.
В отношении совершенства автопортрета, создаваемого Пушкиным-писателем, наиболее выразителен портрет Чарского. Но ироничен ли автопортрет в повести, получившей условное название «Египетские ночи», и что эта самоирония Пушкина дает его герою?
Свободно и широко, привлекая собственные черты и привычки, Пушкин создает образ Чарского, помещая героя в контекст светской жизни и одновременно противопоставляя его свету. Тот же сюжет озвучен в пушкинских программных стихах «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту». Но в отличие от стихов, где поэт воссоединяется со своей надличностной сущностью, двойственность Чарского сохранена.
Творческие и жизненные принципы Чарского обнажают контрасты, они необычайно ярки, и это заострение обнаруживает ироничный взгляд автора повести и на ее главного героя, и на самого себя. Вот Чарский, который «в одежде своей… всегда наблюдал самую последнюю моду…», и ему «очень не понравились» внешность и одежда, сделавшая из поэта «заезжего фигляра», заметил, «что наряд, который показался ему так неприличен, не произвел того же действия на публику» (VI, 245, 252, 253). Высшее общество не так щепетильно по отношению к импровизатору. Оно готово поступиться своими представлениями о порядочности ради любопытства и той приверженности моде, о которой рассуждал Чарский.
Импровизации итальянца выше мирской суеты, и уже слышавший одну из них Чарский оказывается также и вне пределов своих светских представлений: «Сам Чарский не нашел ничего в нем смешного, когда увидел его на подмостках, с бледным лицом, ярко освещенным множеством ламп и свечей» (VI, 253).
Но возможно, герой неоконченного писателем произведения, очарованный даром импровизатора и потому, что сам он способен очаровывать своими стихами, должен был обмануться в ожидании оценки дара итальянца светским обществом.
Судя по сохранившемуся в черновиках продолжению стихотворения, автор повести предполагал подробно изложить сюжет о Клеопатре. Однако несомненное совершенство импровизации могло вызвать или молчание, или непонимание, критику, хулу. Так и автор первой главы романа «Евгений Онегин» ожидал «кривые толки, шум и брань», а в стихотворении «Ответ анониму» поэт писал: «Холодная толпа взирает на поэта, Как на заезжего фигляра…» (III, 170). Такой поворот сюжета повести закономерен при оценке Чарским меценатов («черт их побери!»), оставшемся в черновиках намеке на Воронцова. В новой повести Пушкин показал совершенство импровизированных стихов, удивительных, необъяснимых в их явлении вдруг завершенными и высокохудожественными. И одновременно он представил равнодушных, пустых, неумных людей света. Но Чарский принадлежит светскому обществу, и одно это делает его образ трагикомичным. В такой его роли узнаваем автор – также и для самого себя. Заметим, что в повести, как и в романе об Онегине, герой окружен вещами, показана его одежда, но нет ни слова о чертах его лица. Это лирический аспект образа, в поведении и вкусах которого узнается Пушкин, также потому, что герой повести – поэт и он противоречив.
В образе Чарского соединены свойства, которые были присущи Пушкину как личности: он поэт и он человек света. Наиболее полно это противоречие определил П. Вяземский, сын поэта, писавший воспоминания о друге семьи: «Самолюбие поэтов ставит их в нелогичное положение: они не уважают ничтожности и требуют от этих ничтожностей, чтобы они уважали и ценили достоинство поэта»26.
Таким образом, автопортреты в эпических произведениях Пушкина наделены элементами, поддержанными интонацией и сюжетными ситуациями, которые выявляют черты шаржа или карикатуры. Они кратки, выразительны и являют черты внешности прототипа героя, т.е. самого Пушкина. В них выделены те особенности, которые свидетельствуют об ироничной самооценке поэта, что видим и во многих графических его работах. Пушкинские автопортреты выявляют смеховую и лирическую стихию эпических произведений, в которых представлены. Они содержат метаморфизм, как в иллюстрациях, сопровождающих текст, где автору приданы не свойственные ни ему, ни его герою-сапожнику черты, расширяющие диапазон иронии и шаржа и определяющие соотнесенность нарисованных лиц с ироничным повествованием. Контрастируя своей статичностью с развитием действия и образа персонажа, автопортреты определяют возможность такого развития, будучи дискретными, как это было в описании облика Швабрина, позже дополненном чертами внешности, не свойственными автору романа и выявляющими гротескное представление героя. Автопортреты могут лишь напоминать о внешности поэта и писателя, но определяют узнаваемость автора в его герое, чем достигнута особая степень конкретизации, обусловленная передачей личных чувств и мыслей, а также самоиронией. Она, выявляя внутренние противоречия автора и его героя Чарского, обнажает противоречивый характер «предполагаемых обстоятельств».
Обнаруживая трагикомическую суть бытия, писатель обращается к своей внешности и характеру, и рассказ о чувствах, мыслях, судьбах героев опосредован его жизненным опытом и личными переживаниями. В то же время определяемая им позиция веселого, самокритичного авторского присутствия и само явление его улыбки и смеха гармонизирует образный мир эпических произведений Пушкина, сообщая читателю чувство радости от живого, непосредственного общения с совершенными образами и их гениальным творцом.
10
См.: Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. – Т. 1. – СПб., 1998. – С. 53, 100, 129; Кюхельбекер В.К. Путешествие. Дневник. Статьи / В.К. Кюхельбекер. – М., 1979. – С. 99–100.
11
Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. – Л., 1977–1979. – Т. 5. – С. 44. Далее ссылки на это издание даны с указанием тома и страницы.
12
Пушкин в воспоминаниях современников. – Т. 2. – СПб., 1998. – С. 392.
13
Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 17 т. – Т. 18 (дополнит.). – Рисунки. – М., 1996. – С. 32.
14
Пушкин в воспоминаниях современников. – Т. 1. – С. 86, 327.
15
Жуйкова Р.Г. Портретные рисунки Пушкина. Каталог атрибуций. – СПб., 1996. – С. 107, 110, 297, 130, 347.
16
Литературные манифесты западноевропейских романтиков. – М., 1968. – С. 61.
17
Пушкин в воспоминаниях современников. – Т. 1. – С. 130.
18
Жуйкова Р.Г. Указ. соч. – С. 49, 51.
19
Там же. – С. 50, 59, 67.
20
Балашова И.А. Нарисовал Ал. Пушкин. – Ростов н/Д., 1999. – С. 16–20.
21
Балашова И.А. Русская литература 1800–1860-х годов в вузовском изучении. – Ростов н/Д., 2006. – С. 113–131.
22
Надеждин Н.И. Литературная критика. Эстетика. – М., 1979. – С. 76.
23
Пушкин в воспоминаниях современников. – Т. 1. – С. 129.
24
Там же. –Т. 2. – С. 106, 235.
25
Литературные манифесты западноевропейских романтиков. – С. 466.
26
Пушкин в воспоминаниях современников. – Т. 2. – С. 176.