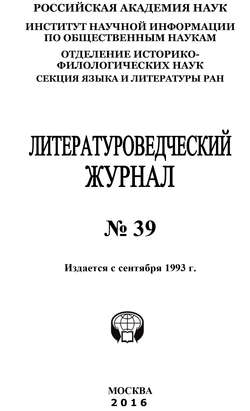Читать книгу Литературоведческий журнал №39 / 2016 - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 2
К 200-летию смерти Г.Р. Державина
Об оде Г.Р. Державина «Слава» (1810) и его политических и религиозных взглядах накануне Отечественной войны 1812 г
ОглавлениеВ.Л. Коровин
Аннотация
Ода «Слава» входит в цикл духовных од Державина 1810 г. («Надежда», «Идолопоклонство», «Добродетель», «Истина»). Она направлена против Наполеона и текстуально перекликается с деловой запиской Державина «Мечты о хозяйственном устройстве военных сил Российской империи» (1810). В обоих случаях он убеждает Александра I ограничиться обороной империи и отказаться от новых территориальных приобретений, апеллируя при этом к истории – к Плутархову жизнеописанию Александра Македонского. В статье также отмечается аллюзия на оду «Слава» в «Певце во стане русских воинов» В.А. Жуковского.
Ключевые слова: позднее творчество Державина, духовные оды, Библия, Александр I и Наполеон, Плутарх, Александр Македонский, Отечественная война 1812 г., В.А. Жуковский.
Korovin V.L . On Derzhavin's ode «Glory» (1810) and his political and religious views on the eve of the Patriotic war of 1812
Summary. Ode «Gloria» was included in the cycle of Derzhavin's spiritual odes 1810 («Hope», «Idolatry», «Virtue», «Verity»). It is directed against Napoleon and the text resonates with Derzhavin’s business note «The dreams of the economic organization of the military forces of the Russian Empire» (1810). In both cases, he convinces Alexander I to limit defense of the Empire and to refuse the new territorial acquisitions, calling for history, to Plutarch’s the biography of Alexander the Great. The article also notes the allusion to the ode «Glory» in «The Singer in the Camp of Russian Soldiers» by V.A. Zhukovsky.
Ода «Слава», написанная Державиным 24 июня 1810 г65., впервые была опубликована во время Отечественной войны в августе 1812 г.66 и оказалась первым его выступлением в печати после вторжения Наполеона в Россию. Потом она еще дважды перепечатывалась при жизни поэта67, входила в посмертные собрания его сочинений68 вплоть до «гротовского», но после этого уже никогда не переиздавалась и не вызывала интереса исследователей. Между тем эта ода заслуживает отдельного внимания хотя бы потому, что именно на нее, скорее всего, намекал В.А. Жуковский, обращаясь к Державину в «Певце во стане русских воинов», создававшемся в октябре 1812 г.:
О старец! Да услышим твой
Днесь голос лебединый;
Не тщетной славы пред тобой,
Но мщения дружины;
Простерли не к добычам длань,
Бегут не за венками –
Их подвиг свят: то правых брань
С злодейскими ордами 69.
Автор здесь как будто убеждает старшего поэта, что русские воины достойны похвалы, хотя тот нуждался в этом меньше, чем кто бы то ни было. Очевидно, перед нами аллюзия на многочисленные у Державина поэтические высказывания о тщетности земной славы (его подражание 48-му псалму так и озаглавлено: «На тщету земной славы», 1796), а конкретно – на оду «Слава», являвшуюся его последней публикацией ко времени сочинения «Певца во стане русских воинов». Вне зависимости от того, как понимать смысл этой аллюзии (как скрытую полемику или, напротив, как апелляцию к моральным принципам автора «Славы») и догадывался ли Жуковский, что ода была написана за два года до войны, ясно, что он расценил ее как не вполне соответствующую моменту и ждал, когда Державин прямо откликнется на текущие события.
Это произошло очень скоро: в том же октябре 1812 г. отдельной брошюрой вышла его ода «На парение орла», а в начале января 1813 г. – огромный (646 стихов) «Гимн лироэпический на прогнание французов из отечества»70. В них Отечественная война получила нравственную и религиозную оценку. Оправдывая «пути Господни»71, Державин утверждал веру в Божественное правосудие и неизбежность победы «агнца» над «змием» («кротости» – над «коварством»)72 и предрекал окончательное падение Наполеона и славу Александра I как умиротворителя Европы.
Ода «Слава», в которой противопоставлены не названные по имени беззаконный завоеватель и «добрый царь», имела антинаполеоновскую направленность и может рассматриваться в качестве некоего пролога к стихотворениям Державина об Отечественной войне 1812 г. с их духовной и политической проблематикой. Вместе с тем она была написана в совершенно других обстоятельствах и связана в первую очередь с думами и заботами поэта в 1810 г., с его одновременными ей произведениями.
* * *
«Слава» относится к циклу духовных од Державина, сочиненных на Званке летом 1810 г.: «Надежда. К Ф.П. Львову» (15 июня), «Идолопоклонство» (27 июня), «Добродетель» (12 июля), «Истина» (21 июля) и четыре подражания Л. Козегартену – «Тоска души» (27 июня или июля?), «Явление» (28 июля), «Предвестие» (29 июля) и «Проблеск» (6 августа)73. Все они – в другом порядке – вошли в пятую часть «Сочинений» Державина (1816).
«Слава» и «Идолопоклонство», написанные с интервалом в два дня (24 и 27 июня), выделяются в их ряду наличием эпиграфов из Священного Писания, а также заметных (хоть и завуалированных) намеков на политическую злобу дня. В особенности это касается «Славы». В ней поэт с самого начала обращается не к простым смертным, а к «царям»:
Еще ль, цари, вам имя громко
Быть мнится славою прямой?
Еще ль, мудрец, ее ты только
Чтешь дыма блещущей струей?
Признайтесь, – ваша мысль неправа;
Уверьтесь истины в словах:
Бессмертная, прямая слава
Есть цепь цветущих вечно благ (III, 47).
«Мудрец», советующий презирать любую славу, с точки зрения поэта, неправ, поскольку лишает человека сильнейшего побудительного мотива для деятельности на благо других людей. И он вдвойне неправ по отношению к царям, которые не могут и не должны безразлично относиться к мнению своих подданных, довольны они их правлением или нет, прославляют их или ненавидят. Другое дело, что «громкое имя» (историческая известность) еще не есть «прямая слава» (заслуженное одобрение современников и потомков). Ода Державина как раз и учит тому, что их следует различать.
«Слава» состоит из 14 восьмистишных строф и композиционно делится на две части: ровно по 6 строф (кроме вступительной и заключительной) отведено ложной славе и славе подлинной. Переход осуществляется в восьмой строфе:
Но и хранящий строги нравы,
Угрюмый доблестию муж,
Не отревай совсем чувств славы
И ты от любочестных душ.
Всем смертным славолюбье сродно,
Различен путь лишь и предмет… (III, 49)
Известно, что мысли о славе человеческих деяний, в особенности посмертной, часто занимали Державина, в том числе мысли о собственной славе как поэта (достаточно вспомнить его «Памятник», 1795). И он то рассуждал, в чем состоит истинная слава (честь, величие, бессмертие в памяти потомков), то сокрушался об увядании земной славы от времени, об ее тщете перед лицом вечности (в этом не было большого противоречия, поскольку мысли о посмертной славе у него сопрягались с верой в бессмертие души и загробное воздаяние). Поэтические суждения о славе находятся во множестве его стихотворений – от ранних «Читалагайских од» (среди них в особенности ода «На великость») до последних стихов «Река времен в своем стремленьи…»74 От оды с названием «Слава» можно было бы ожидать каких-то обобщений на эту тему, но посвящена она лишь одному определенному ее аспекту. О славолюбии, присущем всем смертным, и о различных путях к славе Державин здесь только упоминает, а на самом деле говорит исключительно о славе правителей и царей.
Ложной в оде показана слава завоевателя и «тирана», истинной – слава «доброго царя». В этих обобщенных образах легко узнаваемы демонизированный Наполеон и идеализированный Александр I:
Что ж хвалишься во злобе, сильный,
Внутрь беззаконием и вне,
Коль ты, чрез слезы крокодильны,
Чрез токи крови на войне,
Чрез вероломства, бунты, яды,
Чрез святотатну неба честь,
Поверг престолы, храмы, грады
И мог царей всех выше сесть?
<…>
Возьмем же, в противуположность
Тирану, доброго царя,
Всю истощившего возможность,
Блаженство подданных творя:
Не зрим ли Гения в нем неба,
Блестяща радуги лучем,
В том – мрачна демона Эреба?
Тот сыплет свет, – сей вержет гром (III, 47, 50).
Слава завоевателя обманчива, поскольку следующая за ним при жизни тайная ненависть побежденных после смерти обернется открытым поношением. И напротив, мирная слава царя, заботящегося о благе подданных и правящего с «кротостью» (которая упоминается почти во всех посвященных Александру I стихах Державина, начиная с сочиненного к его коронации «Гимна кротости», 1801), со временем только умножится, а кроме того, она больше по сердцу поэту:
Виждь: тайно, мрачно днесь вздыханье
Вслед ходит всюду за тобой;
А завтра клятвы, восклицанье
На гроб твой гром повергнут свой. –
Кто ж замыслы исполнит страшны, Чем мир поработить мнил весь?
Где блеск, где звук, где пышны брашны?
Ты был – и нет, – твой слух исчез!75
<…>
…Но польз творцу чрез кротость, честность
Звучней всех плеск принадлежит.
Отец семейств, законодатель,
Забрало от татей, коварств,
Сохи, серпа изобретатель –
Бича славней, по правде, царств.
<…>
Гнусна убийц народов слава;
Я тихой дорожу молвой… (III, 48, 50)
Нельзя сказать, что в целом эти рассуждения слишком оригинальны. В.Г. Белинский имел некоторые основания назвать «Славу» в числе тех «резонерствующих од» Державина, в которых «все мысли столько же справедливы, сколько и стары и общи: их можно найти у любого плохого стихотворца того времени»76. Кроме того, эти «мысли» не новы и у самого Державина: они повторяются во многих его сочинениях, в том числе хрестоматийно известных. Ср.: «И славно ль быть тому тираном, / Великим в зверстве Тамерланом, / Кто благостью велик, как Бог? // Фелицы слава – слава Бога, / Который брани усмирил; / Который сира и убога / Покрыл, одел и накормил…» («Фелица», 1782; I, 146); «Блажен, когда, стремясь за славой, / Он пользу общую хранил, / Был милосерд в войне кровавой / И самых жизнь врагов щадил: / Благословен средь поздных веков / Да будет друг сей человеков! / Благословенна похвала / Надгробная его да будет, / Когда всяк жизнь его, дела / По пользам только помнить будет; / Когда не блеск его прельщал / И славы ложной не искал! <…> Не лучше ль менее известным, / А более полезным быть…» («Водопад», 1791; I, 471–472); «Но ты, о зверских душ забава! / Убийство! – я не льщусь тобой, / Батыев и Маратов слава / Во ужас дух приводит мой; / Не лучше ли мне быть забвенну, / Чем узами сковать вселенну? <…> Мне добрая приятна слава; / Хочу я человеком быть…» («Мой истукан», 1794; I, 609–611).
Примеры, подтверждающие, что в оде «Слава» Державин переложил на новый лад то, что прежде уже неоднократно высказывал, нетрудно умножить. Вопрос в том, с какой целью он это сделал в данном случае? И почему ограничился не самым душеполезным для простых читателей рассуждением о славе венценосцев, притом прозрачно намекая на Александра I и Наполеона и подчеркивая их антагонизм, хотя формально они тогда были союзниками? Ответ на это кроется в историческом и биографическом контексте оды.
* * *
В июне 1810 г. через Великий Новгород проезжала великая княгиня Екатерина Павловна со своим новым супругом герцогом Ольденбургским. По этому случаю Державин тогда же сочинил стихотворение «Шествие по Волхову российской Амфитриты» (III, 37). При дворе она возглавляла консервативную партию противников реформ М.Н. Сперанского, которой поэт горячо сочувствовал, а также была особенно враждебно настроена против Наполеона, в том числе по личным мотивам: осенью 1808 г. он делал предложение о браке с нею, возмутившее русскую общественность и, в частности, побудившее Державина сочинить в 1809 г. трагедию «Евпраксия», в которой хан Батый домогался руки русской княжны77.
Весной 1810 г. Наполеон, после вторичной безуспешной попытки породниться с российским императорским домом (вторично он сватался к великой княгине Анне Павловне), заключил брак с австрийской принцессой, и отношения его с Александром I стали все больше портиться. Противники Тильзитского договора 1807 г. (в их в числе был и Державин) надеялись, что навязанные Наполеоном соглашения и союз с ним будут разорваны, и к середине 1810 г. эти надежды окрепли. В то же время Наполеон, казалось, находился на вершине своего могущества. В мае и в июне 1810 г. русские журналы сообщали о победах французов в Испании, о торжествах в разных частях Европы по случаю брака французского императора и т.п.78 Все это не могло не беспокоить Державина, который видел в Наполеоне угрозу для России (и не напрасно, как показало время). Как человек государственный, хоть и давно отставленный со службы, он, конечно, имел свои соображения о том, что сейчас следует делать Александру I, и искал способы довести их до его сведения. Визит Екатерины Павловны в Новгород представлял удобный для этого случай.
Скорее всего именно ко времени этого визита, к июню 1810 г., Державин подготовил на высочайшее имя проект «Мечты о хозяйственном устройстве военных сил Российской империи» (VII, 439–464), в котором предлагал переорганизовать вооруженные силы и сделать определенные «генеральные распоряжения». В целом эту записку Я.К. Грот датировал 1807–1810 гг., но предисловие к ней – 1810 г., поскольку на полях его черновой рукописи упоминается издание «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха в переводе С.Ю. Дестуниса, вышедшее в 1810 г. (VII, 440)79
65
См.: Державин Г.Р. Сочинения / С объяснительными примеч. Я. Грота: В 9 т. – Т. 3. – СПб., 1866. – С. 47. Далее ссылки на это издание даются в тексте статьи (римская цифра – том, арабская – страница).
66
Вестник Европы. – 1812. – Ч. 64. № 16 (август). – С. 302–305. Вместе с одой было напечатано переведенное Державиным с немецкого обращение «К жителям Остзейских губерний». (Там же. – С. 306–309.)
67
См.: Сочинения и переводы, издаваемые Российской академией. – Ч. 6. – СПб., 1813. – С. 181–184; Державин Г.Р. Сочинения: В 5 ч. – Ч. 5. – СПб., 1816. – С. 67–71. Три незначительных разночтения текста 1816 г. с первой публикацией указаны Я.К. Гротом (III, 47, 49).
68
Имеются в виду издания А.Ф. Смирдина (1831, повторено в 1833–1834), И.П. Глазунова (1843) и Д.П. Штукина, подготовленное Н.А. Полевым (1845). Последний, распределив стихотворения Державина по жанрово-тематическим отделам, поместил оду «Славу» в разделе «Духовные стихотворения» (см.: Державин Г.Р. Сочинения / Биография писана Н.А. Полевым. – СПб.: Изд. Д.П. Штукина: в тип. К. Жернакова, 1845. – С. 25–26).
69
Жуковский В.А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. – Т. 1. – М., 1999. – С. 240. О времени создания «Певца во стане русских воинов» см. комментарий А.С. Янушкевича. (Там же. – С. 595–598).
70
Об этих одах см.: Коровин В.Л. Державин и 1812 год: О смысле и композиции «Гимна лироэпического на прогнание французов из отечества» // Известия РАН. Сер. литературы и языка. – 2012. – Т. 71. – № 6. – С. 42–52. О датах первых публичных чтений и изданий «Гимна» см.: Морозова Н.П. 1813-й год в жизни Г.Р. Державина // Державинские чтения: Сб. науч. статей. – Вып. 9. – СПб., 2014. – С. 113–114.
71
«Пой! – (мир гласит мне горний, дольний) – / И оправдай пути Господни» («Гимн лироэпический…»; III, 138).
72
«Открылась тайн священных дверь! / Исшел из бездн огромный зверь / Дракон, иль демон змиевидный… <…> А только агнец белорунный, / Смиренный, кроткий, но челоперунный, / Восстал на Севере один, – / Исчез змей-исполин! (III, 139). В примечаниях к этой «таинственной» строфе Державин дал ссылки на Апокалипсис (гл. 11, ст. 9 и гл. 17, ст. 14), но, не желая прямо отождествлять эти образы с Наполеоном и Александром I, пояснил, что в его «Гимне» «под видом змия… разумеется коварство», а «под видом агнца представляется христианская кротость и имеет отношение к тому, что царствующий император вступил на престол под знаком Овна» (III, 138–139).
73
Точные даты написания этих стихотворений, отмеченные в рукописях, указаны к комментариях Я.К. Грота (см.: III, 42, 52, 56, 61, 68, 73, 75, 78).
74
Об этом стихотворении в интересующем нас аспекте см., напр.: Лаппо-Данилевский К.Ю. Последнее стихотворение Державина // Русская литература. – 2000. – № 2. – С. 146–158.
75
В этих строках Я.К. Грот усматривал одно из предсказаний Державина о падении Наполеона (III, 49). Кажется также, что это аллюзия на 36-й псалом (ст. 35–36): «Видех нечестиваго превозносящася и высящася, яко кедры Ливанския. И мимо идох, и се не бе, и взысках его, и не обретеся место его».
76
Белинский В.Г. Сочинения Державина <1843> // Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. – Т. 6. – М., 1981. – С. 17–18.
77
Об аллюзионном фоне трагедии «Евпраксия» см.: Альтшуллер М.Г. Беседа любителей русского слова: У истоков русского славянофильства. – Изд. 2-е, доп. – М., 2007. – С. 165–169.
78
См., напр., раздел «Обозрение происшествий» в «Вестнике Европы» за 1810 г. (Ч. 51. – № 11 (май). – С. 247–249; № 12 (июнь). – С. 328–339).
79
Плутарховы сравнительные жизнеописания славных мужей / Пер. с греч. Спиридона Дестуниса. – СПб., 1810. – Ч. 1–2.