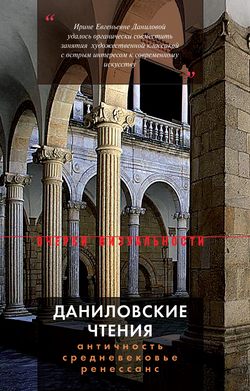Читать книгу Даниловские чтения. Античность – Средневековье – Ренессанс. Сборник 1 - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 4
*****
И. Е. Данилова и методы искусствознания
ОглавлениеМ. Соколов (M. Sokolov, Москва)
Summary
The article is dedicated to the role of Irina Danilova in Soviet art studies, to different methods of art history in her research, to the special importance of her work for the development of art theory in Russia, as well as to the investigator’s interest in contemporary art and art criticism.
Когда задумываешься о судьбах нашего искусствознания, то как-то неизменно приходит на ум образ «Золушки среди наук». Это имя присвоил науке об искусстве один немецкий профессор в конце XIX века, и именно такой она пребывала у нас весь XX век. Только-только сформировавшись и тут же, в самом начале века, завоевав немалый международный авторитет, она (после разгрома Российской академии художественных наук в 1920-е годы) быстро угасла и приказала долго жить – как, впрочем, и все прочие гуманитарные, нестратегические науки. Однако организм гуманитарной дисциплины – это все же не человеческий организм, он может возродиться и после смерти, живя по своим собственным трансбиологическим законам. В других науках – в языковедении, этнографии, филологии и т. д. – была все же своя людская критическая масса, и этот пусть и чисто количественный фактор способствовал выживанию в самых трудных идеологических условиях. Золушка же, будучи самой маленькой и слабой, так и не возродилась, несмотря на все оттепели и перестройки. Так и не образовалась вновь та объективная системность знания, которая обеспечивает жизнедеятельность научных школ независимо от всех, даже самых суровых, внешних обстоятельств. Школы, прочной традиции так и не сложилось, и вроде бы остается лишь время от времени приходить на могилку бедной Золушки и вздыхать по древним временам Д. В. Айналова и Н. П. Кондакова.
Однако, погоревав у могилки, ты вдруг понимаешь, что на кладбище ты не одинок. Кто-то поблизости сажает цветы, а кто-то даже и деревца. Определенная экзистенция – пусть даже и разрозненная, как частицы тела без живой воды – все же продолжается. Нет школы, нет прочной системы, нет единого стандарта качества (гарантом которого мог бы быть практически отсутствующий у нас научный журнал) – зато есть личности, на которых все, собственно, и держалось. И в российских условиях почти векового «наличия отсутствия» роль этих личностей была воистину героической.
Был величайший русский искусствовед XX века В. П. Зубов, были В. Н. Лазарев и М. В. Алпатов, были В. Н. Гращенков и М. Я. Либман, была блестящая эрмитажная плеяда (И. В. Линник и другие). Каждый может удлинить мой краткий список, исходя из своих собственных интересов и пристрастий… Был, в конце концов (как бы о нем ни рассуждали), И. Э. Грабарь, который мог при желании записаться на прием к И. В. Сталину и заявить ему о нуждах своей любимой науки (искусствоведов такого политического уровня ныне нет и не предвидится).
И была Ирина Евгеньевна Данилова, подлинный светоч, человек-светильник. Ныне это понятие выглядит несколько гротескно, но оно и сложилось (у Лукиана, а затем у Рабле) как веселый гротеск о людях, способных осветить целый большой ландшафт, который пребывал бы иначе в ночной тьме.
Ирине Евгеньевне удалось органически совместить в себе занятия художественной традицией, художественной классикой с острым интересом к современному искусству – и тонким пониманием того, что в нем, в его сложной оттепельно-застойной стихии происходит. Правда, она, в отличие от своего учителя М. В. Алпатова, конкретно арт-критикой никогда не занималась. Однако она долгое время преподавала в Строгановском училище – и там наладилась ее живая связь с современностью, тем паче что молодые художники внимали ей воистину самозабвенно.
Об этом мне рассказывали многие из них, но я остановлюсь на свидетельстве Виталия Комара, одного из двух основоположников соц-арта. Впитав уроки Даниловой и став настоящим художником-эрудитом, художником-искусствоведом, он затем, уже в перестройку, в свою очередь увлек Ирину Евгеньевну своими лекционными размышлениями. Увлек настолько, что они якобы (так, во всяком случае, говорил Комар) задумали даже некое соавторство, чуть ли не целую совместную книгу, где дискурс о классике сопрягался бы с медитациями о модерне и постмодерне. Правда, из этого так ничего и не вышло. Однако кто знает, может быть, этот диалог побудил Ирину Евгеньевну заинтересоваться современным искусством, о котором она прежде никогда не писала, пребывая лишь увлеченным зрителем. В 1990-е же появилась пара соответствующих ее статей в «Юном художнике» (в том числе о модернистском портрете), статей достаточно самобытных и глубоких несмотря на скромный уровень данного издания. Так что и в поздние свои годы она продолжала открывать новые сферы деятельности, расширяя их историко-хронологическую шкалу.
Но в любом случае базисными, основополагающими для Даниловой всегда были две темы – художественная теория и художественная традиция. Результаты ее древнерусских и ренессансных штудий самоочевидны, это исторически-этапные работы, которые составляют непреложную часть отечественного искусствоведческого тезауруса. Не буду на них останавливаться, ибо о них уже достаточно весомо сказали и еще, несомненно, скажут другие. Важнее, пожалуй, осветить ее теоретические интересы. Ирине Евгеньевне повезло, что расцвет ее творчества пришелся уже на эпоху относительной терпимости, когда не обязательно было ниспровергать и отвергать все, что выходило за пределы советского псевдомарксизма (а ведь М. В. Алпатову, В. Н. Лазареву или Б. Р. Випперу пришлось труднее – им ради общественного выживания приходилось участвовать в идеологической борьбе «против буржуазного искусства и искусствознания»). Данилова же уже могла вступать в свободный идейный диалог со своими зарубежными коллегами, и она активно вела этот диалог, восстанавливая то естественное научное общение, которое было прервано еще на рубеже 1920–1930-х годов. Особенно инспиративными для нее оказались труды П. Франкастеля и М. Баксендолла, наложившие конкретный отпечаток на ее исследования стенописи итальянского Ренессанса, – помнится, именно от Даниловой я впервые о М. Баксендолле и узнал.
Иконология – или, если перейти на новейший жаргон, контент-анализ – ее уже не столь увлекала. Она полагала, что нельзя слишком углубляться в содержание, игнорируя форму. В целом Ирина Евгеньевна предпочитала, как и М. В. Алпатов, то, что Г. Зедльмайер называл (в том числе и в своей высокой оценке М. В. Алпатова) «структурным методом» («Strukturforschung») – методом, который воздавал бы должное и контенту, и форме, не вычленяя символы в отдельные, преимущественные предметы внимания. Уловив, быть может и верно, симптомы такого «вычленения» в моей книге (и диссертации) о бытовых жанрах, она отнеслась к ней довольно критически. Попутно заметим, что «структурный метод» не следует путать со структурализмом, имеющим совсем другие идейные корни и основанным на философии языка. В любом случае одно дело личные теоретические пристрастия Даниловой, а совсем другое – ее общественная позиция. В последнем случае ей всегда был свойственен чуткий плюрализм, и она стремилась представить в лекционном зале ГМИИ все самое лучшее или, точнее, всех самых лучших в тогдашней гуманитарной науке. В ГМИИ выступали, к примеру, и В. В. Иванов, и Ю. М. Лотман, и В. Н. Топоров, и Л. М. Баткин. Тем самым хоть и в малой, но весьма заметной мере преодолевался тот теоретический застой, что пагубно отличал нашу науку об искусстве на фоне несравнимо более успешных языкознания и филологии.
Отметим еще один существенный аспект научного творчества Даниловой. У нас всегда, с первых шагов русской науки об искусстве, были яркие и пассионарные энтузиасты итальянского Возрождения, но никогда – если не считать разного рода прекраснодушных мечтаний – не ставилась проблема «русского Возрождения», то есть рецепции ренессансных веяний в России и автохтонного формирования того, что могло бы этим веяниям соответствовать. Так вот, две работы Ирины Евгеньевны являются в данном плане воистину этапными. Во-первых, это ее ранняя статья (собственно, в силу ее обширности не статья, а целая минимонография) «Картины итальянских мастеров в Дрезденской галерее в оценке русских писателей и художников XIX века». Славные ренессансные мастера, с Рафаэлем и его «Сикстинской мадонной» в качестве знакового эпицентра, предстали здесь тем средоточием духовного интереса, который позволил действенно соизмерить Россию с Италией XVI века и тем самым прочувствовать важную часть тех пониманий и недопониманий, что делали «русское Возрождение» хоть и страстно желанным, но все же скорее виртуальным, нежели реальным явлением. Во-вторых, это значительно более позднее исследование «Церковные представления во Флоренции в 1439 году глазами Авраамия Суздальского», где Данилова напомнила о давно опубликованном, но основательно подзабытом и толком не осмысленном древнерусском свидетельстве о ренессансных новшествах. Так во взглядах на XIX и XVI века проступали различные грани того исторического познания, которое являет контрасты и диалоги разных, то диаметрально противоположных, то, напротив, сближающихся традиций. Благодаря этому чисто прикладное искусствознание превращалось под пером Даниловой (как это не раз бывало и у М. В. Алпатова) в своего рода искусствоведческую историософию. И тем самым открывались новые горизонты познания, к которым еще не пролегли ухоженные пути.
Можно было бы упомянуть еще пару таких горизонтов, приоткрытых Ириной Евгеньевной, – в частности, в истории пейзажа или, в более широком смысле, в истории понимания природы в искусстве. Но мы не хотим растекаться мыслью по древу. Достаточно сказать, повторяя то, что мы говорили в начале: «Были личности – следовательно, была наука об искусстве». Была Ирина Евгеньевна Данилова – значит, не стоит слишком горевать о том, что нет школы, системы, издательской базы, контроля качества и всего прочего. Главное, что есть впечатляющий историко-человеческий задел. А остальное, дай Бог, приложится, пусть даже и не скоро, в дальнюю «пору чудесную»…