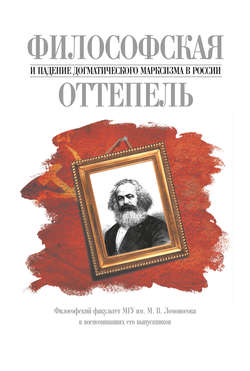Читать книгу Философская оттепель и падение догматического марксизма в России. Философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова в воспоминаниях его выпускников - - Страница 3
Из истории факультета
В. В. Соколов. Философские страдания и просветления в советской и постсоветской России
ОглавлениеЯ родился в разгар Гражданской войны в крестьянской семье и хорошо помню доколхозную, нэповскую и колхозную Русь. Я довольно поздно по нынешним временам научился читать (по молитвеннику моей матери). Стал, как тот Петрушка, читать всё, что попадалось под руку (к сожалению, очень мало книг тогда, в конце 20-х гг., можно было достать даже в нашем огромном селе). Это было время зарождавшегося движения пионеров, отношение к которым населения, почти поголовно посещавшего церковь, было враждебно-ироническим («пионеры юные, головы чугунные, руки оловянные, черти окаянные»). Я, мальчик довольно шустрый, стремившийся ко всему новому, стал неформальным лидером сельских пионеров. Активно помогал «избачу» (парторгу местной ячейки, присланному из губернии-области); играл с успехом на сельской клубной сцене в антицерковных агитках, от пионеров принял участие в «красных крестинах»: у одной девицы родился «нагульной» младенец, что было тогда на селе величайшим позором безотцовщины, и она согласилась на такие «крестины». Сначала держал речь парторг, потом он передал младенца комсомольцу, тот после каких-то слов вручил его мне, и я произнес: «Берем и клянемся воспитывать», а затем возвратил его парторгу, который провозгласил «красное» имя дитяти: Ким (Коммунистический интернационал молодежи). Через несколько месяцев я услышал, что мать его тайком всё же крестила в церкви, а в селе его стихийно «переименовали» в Акима. Помогал я парторгу и в других «прогрессивных» начинаниях. Когда в самом конце 1929 г. начались настойчивые призывы – с инициативным участием приезжих агитаторов – организовать большой колхоз и многие из мужиков яростно выступали против, я, по увещеванию того же парторга, возглавил пионеров (и непионеров), и мы своим ревом заглушали «отсталых» ораторов, чтобы они не смущали «передовых». А в марте 1930 г., после публикации «исторической» статьи И. В. Сталина «Головокружение от успехов», я с грустью наблюдал, как все, и «отсталые», и «передовые», уводили из конюшен своих лошадей, забирали сани, телеги и другую утварь. За какую-нибудь пару дней колхоз распался (заново и под усиленным давлением он был организован в меньших масштабах года через два).
Сомнений в правильности моих «передовых» настроений и мыслей у меня самого было мало, но их критики у мужиков, с которыми я любил беседовать, было сверхдостаточно. Помню также, как однажды приехавший из Москвы отец усмехнулся над моей богомольной матерью, сказавшей ему по какому-то поводу: «Что же, по-твоему и Бога нет?!» На что он «аргументировал»: «Если бы он был, то коммунистов давно бы разогнал!» Возражать ему я не мог, а в душе очень удивился: «Какой отсталый!» (ему тогда не было и сорока).
Учился я, как говорил учитель нашей сельской четырехклассной школы моим родителям, очень хорошо, стремился учиться и дальше, но продолжать учебу в далеком районном центре не было возможности. Отец мой, деревенский кузнец и специалист в других направлениях, перебрался в Москву, и в согласии с матерью перебросили и меня туда – к дяде по матери. И я стал учеником ФЗС (фабрично-заводской семилетки). Отец, однако, погиб в 1931 г., и я проживал, обучаясь в той же школе, и у того же дяди, и у других родственников (по отцу), будучи полубеспризорным (в последних пребываниях добираться до школы было довольно далеко), хотя родные, простые рабочие, относились ко мне тепло. В школе я быстро стал одним из первых учеников.
В летние (иногда и в зимние) каникулы в те полуголодные времена я приезжал к матери (у нее оставался младший брат) в колхоз, помогая ей, как мог, увеличивать ее «трудодни» (в основном в правлении колхоза, как уже довольно грамотный субъект).
Но в школе у меня возникали всё более серьезные осложнения идеологического плана. Где-то в начале 8-го класса я взбунтовался против преподавания истории по обязательной тогда «Русской истории в самом сжатом очерке» – книге марксистско-вульгаризаторской. Ее автор – старый большевик, М. Н. Покровский, написавший ряд книг по истории России, одобренных Лениным, один из первых советских академиков и руководителей высшего образования в СССР (после его смерти в 1932 г. и до 1939 г. МГУ носил его имя), был ярым приверженцем трактовки истории как политики, опрокинутой в прошлое. В этих теоретических тонкостях я тогда, конечно, не разбирался, но находился под сильным влиянием книги Александры Ишимовой, талантливо переложившей для детей фундаментальный труд Н. М. Карамзина «История государства Российского». (Пушкин высоко оценил книгу Ишимовой в своем преддуэльном письме к ней.) Отец, знавший о моем увлечении чтением, прислал из Москвы небольшой ящик книг, где была и эта. Я так ее изучил и освоил, что древо Рюриковичей, к удивлению соклассников, мог рисовать едва ли не наизусть. С таких «позиций» я и стал «громить» книгу Покровского, в которой исторические факты исчезали в экономико-политических схемах. Взбешенная Марья Ивановна, преподававшая нам историю, обвинила меня в «монархических влияниях» и за шиворот потащила к директору. Слава богу, мудрый Алексей Максимович, выдвиженец из рабочих, спустил всё на тормозах. Как ни странно, от моей «критики» Покровского я выиграл: через несколько месяцев, когда в 1934 г. были опубликованы замечания Сталина, Кирова, Жданова на какую-то книгу с критикой концепции Покровского и с рекомендацией (по сути приказом) восстановить в школах «гражданскую историю». Эти замечания по сути были кратковременной самокритикой большевизма, для которого трактовка истории всегда была догматической – политикой, опрокинутой в прошлое. Мне же такой поворот очень помог, и мой авторитет как ученика «с критическим умом» среди учителей повысился.
Однако в нашем воспитании политизация усиливалась с каждым годом, и следить за своими словами было необходимо не только на уроках истории, а этого мы, разумеется, делать не умели. В школе я оказался в одном классе с поэтом Павликом Коганом (он учился там с 1-го класса), и где-то уже в 9-м мы распевали его «Бригантину». Долгое время мы сидели с ним за одной партой. Он был из семейства старых большевиков, и вот где-то классе в 8-м на собрании нашей большой группы он был вынужден каяться «за переоценку Троцкого». В следующем классе проблемы начались у меня самого. Не очень ясно почему: то ли потому, что в своем Петрушине, куда я систематически наезжал, я видел, как плохо идет жизнь в колхозе, а мать всё время жаловалась мне в том же духе; то ли под влиянием Когана, имевшего основательную информацию о замечательном руководителе Бухарине, вывод которого из Политбюро лишь ухудшил экономическую ситуацию в голодающей стране; то ли потому, что и сам я активно начал читать газеты и партийные документы и не стесняясь стал славить Бухарина. Это был 1935 г., когда Сталин уже безоговорочно стал четвертым классиком и смолкли все сомнения – мы живем в социализме. В том году у нас шел прием в комсомол, и под руководством Васи Ямпольцева, освобожденного секретаря комсомола, поставленного райкомом, меня начали активно «молотить» (хотя всё же были отдельные защитники) и в комсомол не приняли, но аттестат отличника (никаких медалей тогда не было) мне все же выдали.
Увлеченный историей, я поступил на исторический факультет Московского института истории, философии и литературы (МИФЛИ). Учрежденный в 1931 г. в составе исторического и философского факультетов (к которым в 1934 г. был добавлен и литературный, а в 1939 г. еще и экономический), он был тогда лучшим гуманитарным учебным заведением в стране. В год 50-летия смерти Н. Г. Чернышевского институту было присвоено его имя. Я был зачислен после небольшой беседы с деканом исторического факультета И. С. Галкиным. Однако уже после войны при случайной встрече с нашей весьма эрудированной преподавательницей по литературе Любовью Петровной Жак (одновременно она была аспиранткой МИФЛИ и защищала там диссертацию) я узнал, что вдогонку мне из нашей школы поступило заявление, в котором я изобличался как бухаринец, которому либеральные учителя умудрились выдать аттестат отличника. Любовь Петровна, дав мне высокую характеристику, погасила это дело. Тем не менее меня вызвали в партком МИФЛИ, и один из секретарей настоятельно рекомендовал мне держать язык за зубами и всегда помнить, что я поступил в идеологический вуз. Я стал вести себя «правильно». Активный интерес к истории отодвигал политические интересы, хотя я, как и многие другие студенты, втягивался в агитационную работу (готовилась «Сталинская конституция») и, наконец, был принят в комсомол.
В МИФЛИ в эти годы читали содержательные (некоторые из них были и увлекательными) лекции и вели серьезные семинары профессора и преподаватели Ю. В. Готье, В. С. Сергеев, Н. А. Кун, Н. А. Машкин, В. К. Никольский, К. В. Базилевич, А. И. Неусыхин, С. Д. Сказкин, Б. Ф. Поршнев, Ф. В. Потемкин. Все они были с основательным дореволюционным образованием. В их семинарах у меня проявлялось стремление не только к рассмотрению данной темы, но и к сравнению реалий конкретной эпохи, которая обсуждалась, со сходными реалиями древней и средневековой истории, что вырабатывало общий взгляд на нее. Некоторые преподаватели не отвергали такого подхода, даже шли ему навстречу. Например, Юрий Владимирович Готье, ученик Ключевского, академик, широко образованный историк, специалист мирового уровня по истории Киевской и вообще феодальной Руси, иронически прищурив глаза, даже вступал в дискуссии с невоспитанным наглецом, потому что, полагаю, чувствовал искреннее стремление к углубленному постижению истории. В семинаре известного историка античной культуры Н. А. Куна я сделал доклад (теперешняя курсовая) «Общественный строй древней Спарты», и Николай Альбертович похвалил меня. К сожалению, недавно открывшаяся тогда кафедра классической филологии совсем не вела у нас занятий по древнегреческому языку, а проводила лишь не очень интенсивные занятия латинским.
Три с лишним года я метался между историей России, которой я увлекся уже в сельской школе (а другую историю там просто не преподавали), античной, средневековой, новой. Остановился было на средневековой (А. И. Неусыхин, С. Д. Сказкин и др.). Здесь и произошел у меня перелом интеллектуальных интересов. Незаурядная эрудиция в области истории (как мне говорили сокурсники, да и некоторые преподаватели) пробудила во мне ту интуицию целостности, без которой нет философии (в принципе она «работает» во всех науках, но в разной степени и с разными результатами). Я стал задумываться о философском факультете.
Туда не было приема в 1936 и 1937 гг.: было арестовано большинство преподавателей факультета. Прием снова открылся в 1938 г., и семь студентов, окончивших два курса истфака, перешли туда: Арзаканян, Егидес, Карпов и др. Я же продолжал колебаться. Еще на первом курсе лекции по диамату-истмату содержательно и остроумно нам читал доцент Дмитрий Алексеевич Кутасов, будущий декан философского факультета. Они произвели на меня определенное впечатление. Я стал посещать некоторые семинары на философском факультете.
В мае 1939 г. я присутствовал на защите докторской диссертации Георгием Федоровичем Александровым. Он был тогда профессором философского факультета, читал лекции по истории философии, а в 1939 г. опубликовал на основе этих лекций книгу «История западноевропейской философии». Значительно позже я услышал, что некоторое время Г.Ф. общался в МИФЛИ с А. В. Кубицким, первым (по сути единственным) переводчиком «Метафизики» Аристотеля, а также его «Категорий», и тот учил его древнегреческому языку. Вряд ли Александров далеко продвинулся в этом направлении, но написал диссертацию по мировоззрению Аристотеля в целом. Одним из его оппонентов был М. А. Дынник, занимавшийся тогда по совместительству античной философией. Однако в качестве неофициального оппонента выступил профессор Давид Юльевич Квитко, тоже читавший лекции по истории европейской философии в МИФЛИ. Он справедливо утверждал, что по такому гиганту, как Аристотель, защищать диссертацию «в целом» совершенно поверхностно и неубедительно. Председатель совета (кажется тогда единственного в МИФЛИ) заведующий кафедрой истории ВКП(б) Б. М. Волин (студенческая частушка: «Как бы рад я был, доволен, если б Волин был уволен») провозгласил, что профессор Квитко, в отличие от диссертанта, совершенно не прав. Он, конечно, был проголосован и стал доктором философских наук. Едва ли не на следующий день в «Правде» появилась заметка об успешной защите докторской диссертации бывшим беспризорным (его отец, путиловский рабочий, к тому времени давно умер). Успех Александрова во многом определялся и тем, что после опустошения партийных и вообще гуманитарных кадров в 1937-1938 гг. Сталин был вынужден привлекать новые. Они в особенности были необходимы для партийного аппарата. Александров тоже перешел в аппарат Коминтерна, а затем и ЦК ВКП(б). Однако при всей формальности защиты Г. Ф. Александровым его докторской диссертации, первой по философии и первой публичной, в отличие от него Марк Борисович Митин без всякой защиты стал доктором философии за редактирование учебника по диалектическому материализму.
Нельзя в этом контексте не вспомнить о заслуге Александрова перед философским факультетом МИФЛИ. Со времени своего основания в 1931 г. он равнялся одной кафедре – диалектического и исторического материализма. Александров же учредил кафедру истории философии, которая до того изучалась как краткое введение в диамат-истмат. Но сам Александров, читавший курс истории философии как особый предмет, был переведен в сферы ЦК ВКП(б). Новую кафедру он передал Борису Степановичу Чернышеву, окончившему историко-филологический факультет по отделению философии в 1921 г. Но теперь ему пришлось вступить в партию.
Попытка моего перехода на философский факультет не сразу увенчалась успехом. Гуманитарные предметы на историческом и филологическом факультетах изучались основательно, и я их успешно сдал. На философском гуманитарные предметы тоже изучались, но в меньшем объеме и не все. Зато здесь к ним прибавлялись предметы естественно-научного цикла: математика, физика, химия, биология, физиология органов чувств, психология. Ректор А. С. Карпова не решалась поэтому перевести меня на философский, но декан факультета Федор Игнатьевич Хасхачих, знавший меня по отзывам нескольких преподавателей, добился моего перевода в сентябре 1939 г., когда я закончил уже три курса истфака.
На философском факультете меня сразу привлекли лекции и в особенности содержательные семинары по античной философии Б. С. Чернышева. История философии и стала для меня главным притягательным центром, к чему стимулировала моя осведомленность в истории, теперь уже всеобщей. Все естественно-научные предметы я сдал с успехом. Приближался к пятому курсу, но тут меня постигла неожиданная катастрофа.
Еще на историческом факультете мне, запятнанному «разоблачительным» письмом из школы, всё же удалось вступить в комсомол. Во многом в результате смены руководства НКВД, когда в вакханалии арестов 1937–1938 гг. в «ежовые рукавицы» попало немало молодежи, произошел некоторый «откат». Многие юнцы связывали тогда «послабление» таких арестов с приходом к руководству НКВД Лаврентия Берии. В действительности никогда не ошибавшееся партийное руководство вспомнило «ленинскую позицию», которая провозглашала, что комсомол призван для воспитания молодежи, которая, конечно, может и ошибаться. Однако вспоминается, что на комсомольском собрании МИФЛИ, посвященном итогам XVIII съезда ВКП(б), в марте 1939 г. в клубе им. Русакова докладчику доценту Е. Городецкому послали много вопросов, почему «товарищ Ежов не избран членом ЦК партии». Недоумение многих объяснялось тем, что Ежов, перестав возглавлять НКВД, еще оставался Наркомом водного транспорта. Бедный докладчик отвечал всем вопрошавшим: «Значит, теперь товарищ Ежов не достоин столь высокого членства». Однако в кулуарах некоторые студенты старших курсов и аспиранты говорили: ну что ж, мавр сделал свое дело, мавр может уйти! Вскоре совсем тихо произошло освобождение Ежова с поста Наркомвода, как и его арест и последующий «суд» и расстрел, о чем стало известно лишь после ХХ съезда КПСС.
На новых для меня двух курсах философского факультета я встретил других «сокашников», и некоторые из них, например, П. Копнин, В. Келле, Д. Горский, С. Анисимов, И. Нарский, Б. Мееровский, А. Гулыга, А. Зиновьев, Ф. Кессиди в послевоенное время стали значительными научными работниками, авторами, профессорами не только в философских кругах. Секретарем комсомольской организации всего МИФЛИ стал тоже мой сокурсник Семен Микулинский (поступил в институт кандидатом партии и стал здесь ее членом). Столь ответственная занятость оставляла ему мало времени для интенсивных занятий, он должен был писать в ЦК ВЛКСМ предложения о политическом воспитании студентов, формулируя свои идеи о способах его усиления. В этом контексте я неожиданно для себя, будучи уже на четвертом курсе, стал одним из наиболее трудных объектов для такого рода усилий.
Практическая дипломатия, особенно при резких ее поворотах и политическом их оправдании, – весьма опасный феномен с точки зрения воспитания молодежи. Именно такая ситуация возникла, когда за несколько дней произошел переворот в отношениях с фашистской Германией. Вчера ее поносили все средства СМИ, а сегодня в Москву приезжает Риббентроп и заключает договор о ненападении (23 августа 1939). И я совсем потерял внутренний контроль, когда практически через месяц (в сентябре 1939) с той же ненавистной фигурой был заключен даже договор о дружбе. Многие историки утверждают, что этот договор, в отличие от первого, был совершенно ошибочным, демобилизующим советский народ и армию. Партийное руководство принялось яростно его оправдывать. На сессии Верховного Совета Молотов объявил агрессорами Англию и Францию, а Германию – страдающей стороной, защищающейся от «агрессоров». (Менее чем через год, напомним, Германия сокрушила Францию, захватив «попутно» Бельгию, Нидерланды, Норвегию.) Польшу, уже оккупированную Германией (и СССР), Молотов объявил совершенно прогнившей и заслуживавшей ликвидации как государство. Последовали приветственные телеграммы Сталина Гитлеру и т. д. Взбесившись, я записал в своем дневнике резкое осуждение договора, речь Молотова назвал насквозь софистической и, слава богу, ничего не писанул о Сталине. В дальнейшем я продолжал дневник, мало уже касаясь политики, забыв о записи сентября 39-го. Когда в следующем году нас перебрасывали из общежития на Усачевке в общежитие на Стромынке, я забыл дневник, а его нашел один мой сокурсник по истфаку и сдал в комитет комсомола. Я был очень удивлен, когда где-то в сентябре-октябре 1940 г. меня вызвали в комитет комсомола и члены комитета стали расспрашивать меня о моих взглядах на международную ситуацию и т. п. Я отвечал вполне правильно, в духе официальной линии, пока Семен не сказал: «Хватит с ним играться. А вот что ты писал в дневнике в прошлом году?» Я вспомнил ту роковую запись, растерялся и что-то лепетал, а комитетчики разоблачали меня, оттачивая свое партийно-комсомольское оружие. Обсуждение закончилось страшной для меня резолюцией: «За двурушничество и осуждение последних мероприятий партии во внешней политике исключить из комсомола».
Хотя «двурушничество» было закономерным явлением и следствием навязанной официальной идеологии и носило, в сущности, массовый характер, я глубоко переживал свое моральное падение, ибо говорил (например, на избирательном участке) не то, что писал в дневнике. Минимально мне грозило исключение из института, но я надеялся (конечно, тщетно) вернуться на исторический факультет. Не один месяц меня воспитывали в райкоме комсомола, был выделен специальный инструктор, и я, конечно, полностью прозрел и выразил сожаление о необдуманной и легкомысленной записи в дневнике. Однако дело мое все равно было передано в горком ВЛКСМ, а там первый секретарь, заглянув в мой дневник, сказал: «Э-э, да у тебя нутро гнилое!» – и исключил меня из комсомола. Это была уже весна. И месяца через два-три началась война.
Ненависть к фашизму была столь велика, что множество студентов МИФЛИ через день-другой после речи Молотова, объявившего об агрессии Германии против СССР, бросились в наш военкомат записываться добровольцами. Я тоже был среди них. Призывались отдельными группами и направлялись на различные службы. Немало студентов стали «чекистами», задача которых состояла в охране подмосковных военных и хозяйственных объектов и борьбе с возможными немецкими парашютистами. Из философов моего курса здесь оказались Ю. Карпов, его жена А. Серцова, Н. Сенин, О. Яхот. Более значительная группа во главе с С. Микулинским отправилась под Смоленск воздвигать различные препятствия, помогая прибывавшим туда войскам задерживать наступавшие немецко-фашистские силы. Военная ситуация, как теперь многократно описано и изображено в ряде фильмов, развивалась столь быстро, что из «строителей» стали отбирать в солдаты – по здоровью и политическим факторам, направляя их в воинские части. Например, Ф. Кессиди, рвавшемуся туда, не оказали «доверия», как греку, и бедный Феохар вынужден был вернуться в Москву и оттуда отправиться в родной Тбилиси, так и оставшись вне армии. Самые надежные стали солдатами с различной военной судьбой. Некоторые, как Келле, пройдя госпиталь, вернулись еще в 1944 г. в университет. Немало было и погибших. Едва ли не печальнее стала участь тех, кто оказался в плену и вернулся после него на учебу. Окончить факультет им, как А. Арзаканяну и С. Анисимову (он, раненый, попал в плен уже под Сталинградом), им удалось, но, имея дипломы об окончании факультета, несколько лет они не могли устроиться ни на какую работу. Оказался в плену и С. Микулинский. Как-то ему удалось скрыть свою партийность и, будучи евреем, представиться то ли русским, то ли украинцем. Попав после войны в фильтрационный лагерь, он был отпущен из него по ходатайству ряда бывших студентов МИФЛИ, справедливо напомнивших партийным органам о его активнейшей роли вузовского секретаря комсомола в МИФЛИ. Вернувшись в университет, Семен стал именоваться не Руфимовичем, а Романовичем и занялся историей биологии.
Другая группа студентов МИФЛИ, в которую включили и меня, была отправлена где-то уже в конце июля в Бронницы (сравнительно недалеко от Москвы) в 139-й запасный зенитный артиллерийский полк. До конца сентября мы осваивали зенитные орудия и были переброшены в Москву. Но в октябре, как известно, немецкие армии подошли уже к дальним подступам Москвы. Из зенитных орудий был сформирован 694-й противотанковый истребительный полк, в различные батареи которого вчерашние курсанты отправились в качестве командиров орудий. Я тоже стал одним из командиров третьей батареи. Уже 12 октября полк в составе 16-й армии К. Рокоссовского дислоцировался под Волоколамском. Более месяца, когда немцы готовили свое завершающее наступление на Москву (операция «Тайфун»), мы стреляли по их самолетам и осваивали противотанковые гранаты и бутылки с горючей смесью («коктейль Молотова»). Тяжелый бой с танками, которых сопровождали автоматчики, полк и наша батарея приняли 17 ноября в начале той немецкой операции. Этот бой не раз был описан в печати (впервые в «Вечерней Москве» 26 сентября 1966) и транслирован по телевидению. Я был награжден орденом Боевого Красного Знамени, ифлиец, наводчик последнего неподбитого орудия батареи Ефим Дыскин стал Героем Советского Союза. В дальнейшем в том же полку и в той же должности командира уже иного противотанкового орудия на юго-западном фронте я участвовал в отражении танковой атаки и был награжден медалью «За отвагу», но на следующий день в августе 1942 г. при минометном налете был тяжело ранен в бедро.
После операции в госпитале где-то за Волгой меня отправили на долечивание в Москву, где я оказался к началу 1943 г. и явился на философский факультет уже МГУ, где одна группа 4-го курса продолжала учебу с начала февраля 1942 г., когда немецкие войска отогнали от Москвы. За несколько месяцев я сдал остававшиеся предметы философского факультета и пять государственных экзаменов: диамат, истмат, историю философии, политическую экономию, историю ВКП(б). Дипломных работ тогда, как и в несколько последующих лет, не было. О профессорах и преподавателях факультета буду говорить в дальнейшем. Получив статус нестроевика, в октябре того же 1943 г. я поступил в аспирантуру кафедры истории философии, которую возглавлял Б. С. Чернышев. В 1944 г. она стала именоваться кафедрой истории западноевропейской философии, поскольку в том же году появилась кафедра истории русской философии.
* * *
Аспирантское, и тем более последующее, погружение в философию, как и расширение восприятия и осмысления конкретной жизни во множестве ее аспектов, естественно, открывало всё новые горизонты социальной действительности и философской жизни. Специфичность духовной атмосферы советских времен, как ни в одну другую эпоху, заключалась в тесном переплетении политических и идеологических факторов, в зависимости от которых вспоминались и выявлялись те или иные философские идеи.
Они были утрачены, забыты в армейские времена, но в еще большей мере – в результате давления идеологии, которая в первую очередь требовалась и на экзаменах, и еще более на госэкзаменах. Всякая идеология, даже религиозная (в особенности сугубо монотеистическая, как христианство) в определенной степени взывает к тем или иным философским идеям, вырываемым из системного интеллектуального контекста. Изгнание Лениным группы выдающихся философов, которых он считал антимарксистами (что было, конечно, верно, и сами они этого не скрывали), идеалистами и, следовательно, представителями «поповщины», террористическое гонение на служителей церкви, повседневная антирелигиозная пропаганда требовали новой духовной пищи для масс. Мавзолеизация мумии Ленина создавала новый культ, призванный разрушить религиозные, одновременно стремясь к максимизации роли марксистской идеологии.
Сам Ленин, как известно, слепо верил в марксизм, весьма схематично его понимая и вырывая из него те положения, в которых видел необходимость для учреждения социализма в экономически и социально отсталой стране: захват власти через революцию, беспощадное проведение так называемой диктатуры пролетариата, опора на высокоцентрализованную партию и т. п. Еще в «Материализме или эмпириокритицизме» Ильин-Ульянов противопоставил «научную идеологию» гносеологии эмпириокритиков как ведущую к фидеизму и «поповщине». Уже после смерти автора этого компилятивного опуса, написавшего множество статей и теперь увековеченного, его последователи из партийных верхов провозгласили усопшего вождя творческим продолжателем уже давних «основоположников», утвердили другого идеологического кентавра – «марксизм-ленинизм», новацией которого стала «мировая революция». Идейно-политическая борьба между «диадохами», объявленными через полузакрытые суды «врагами народа» и расстрелянными, закончилась полным торжеством единственного вождя и «отца народов» Сталина. После его смерти продолжалась политически менее значимая борьба между эпигонами. Их определяющей идеологической задачей стала «борьба за чистоту марксизма-ленинизма» с любыми от него, как и от «генеральной линии партии», отклонениями. Наше поколение, в основном рожденное после Октября, идеологически и политически служило и писало, уже так или иначе общаясь с ними.
Марксистско-ленинская идеология, стремившаяся полностью преодолеть религиозные вероисповедания, писаниями и речами своих эпигонов (теперь среди них было множество вузовских и академических деятелей) непрерывно «разоблачая» всякого рода идеализм, провозгласила ленинский этап в философии как единственно правильный и убедительный. Этот «этап» содержал немало утверждений и положений, которые повторялись, а то и просто мусолились многими эпигонами, но иногда и честными авторами и преподавателями, стремившимися прояснить их «рациональное ядро». Здесь мы не будем на них останавливаться, но вспомним о них в дальнейшем в конкретных контекстах.
Дальнейшая последовательно тотальная трансформация философии в идеологию, ориентированная на широкие круги пропагандистов, которые были обязаны доносить ее до более широких масс, как и на учащихся вузов, во времена, когда И. В. Сталин, ставший четвертым «классиком», объявил победу социализма в СССР, определялась его очерком «О диалектическом и историческом материализме», вошедшим в «Краткий курс истории ВКП(б)» (1938), рассчитанным на самые широкие круги. Отдавая должное этому очерку, следует отметить догматическую ясность его текста, доступного вполне грамотному человеку. Замена «законов» диалектики на «черты» способствовала трансформации философии в идеологию. Часть, излагающая черты диалектического материализма, на добрую половину состоит из цитат, взятых из произведений Энгельса, Маркса, Ленина. Настаивая на том, что исторический материализм является распространением положений диалектического материализма на истолкование общественной жизни (более резко, чем три его предшественника), Сталин именно ей отдает большую часть текста, подчеркивая при этом те выводы, которые необходимы для общественно-политической жизни. Главный из них – преимущество построенного в СССР социализма перед капиталистическими странами, переживающими безнадежный кризис и т. п.
У нас в довоенные и послевоенные годы было распространено мнение, что ясность и связность диамато-истматовского текста сталинского очерка следует объяснить тем, что в действительности он написан философом Яном Стэном, автором статьи «Философия» в «Большой советской энциклопедии», подписанной М. Б. Митиным в связи с расстрелом Стэна как «врага народа». Мне случайно прояснила это недоразумение вдова Стэна, освободившаяся из концлагеря и посетившая где-то в 1960-е гг. нашу кафедру истории философии для общения с проф. В. Ф. Асмусом (они были знакомы в довоенные времена). Я тоже познакомился с ней, и по дороге в Институт философии она немало рассказала мне о характере отношений между Стэном и Сталиным. В это семейство смелый и прямолинейный философ был действительно вхож, но лишь в качестве приятеля Н. Я. Аллилуевой, жены вождя. Бывал свидетелем напряженных отношений между супругами («Надя, подай спички» – «Видишь, Ян, делает доклады о политической роли женщины, а дома такой»). С самим же вождем Стэн вступал иногда в яростные споры, нередко заявляя ему: «Ты эмпирик, Коба». А жене Стэн говаривал (с уверенностью можно сказать, что не только ей): «Эта рябая сука устроит нам и процесс Дрейфуса, и дело Бейлиса».
В те годы «диадох» Сталин, ставший «отцом народов» огромной империи, довел до кульминации «диктатуру пролетариата», реализованную судами над «врагами народа», арестами и расстрелами 1936–1938 гг. Философия, заимствованная, как ясно из рассмотренного выше «Очерка», у «основоположников», Сталина, в сущности, не интересовала, но он подверг ее сугубой идеологизации и политизации, как сказано выше. Политический прагматизм Сталина оперировал военными образами. Например, в 1920-е гг. происходила довольно оживленная полемика между «механистами» (Скворцов-Степанов, Тимирязев, Аксельрод-Ортодокс) и «диалектиками» (Деборин, Карев, Стэн). Сначала были побеждены «механисты» как антидиалектические упрощенцы, и торжествовали «диалектики». Но и они не привлекли Сталина своей, как он считал, бесплодной схоластикой. Против них генсек мобилизовал группу молодых философов, эпигонов во главе с М. Б. Митиным и П. Ф. Юдиным. Политической сутью «механистов» был объявлен «правый уклон» (Бухарин, Рыков, Томский). «Диалектикам» сам вождь дал совершенно «точную» квалификацию – «меньшевиствующий идеализм», выражавший «левый уклон» (Троцкий, Зиновьев, Каменев).
Задачей «философии» становилась теперь «борьба на два фронта». Из «диалектиков» были арестованы и расстреляны виднейшие сторонники Деборина – Карев и Стэн. Активнейшее участие в ней стали принимать и другие эпигоны. Многие из них получали философское образование и политическую закалку в Институте красной профессуры, революционный цвет которого гарантировал высокое качество в обоих этих направлениях. Были там и лекции, и семинары, правда, никаких диссертаций они не писали, но выпускники всё же получали звания профессоров. Митин и Юдин с подачи Сталина в 1939 г. стали членами Академии наук СССР. Существовала еще Академия коммунистического воспитания, несколько меньшей значимости.
Партийные чистки, аресты и расстрелы 1936–1938 гг. опустошили партийный аппарат, и для эпигонов открылись соответствующие возможности. Среди них тоже развивалась тайная и явная борьба за различные должности «наверху», включая и академические, переплетавшиеся с партийными. В этих интересах писались статьи, брошюры, трактовавшие мысли «классиков».
Вернувшись на факультет в 1943 г., я узнал о двух новых профессорах – Алексее Федоровиче Лосеве и Павле Сергеевиче Попове, которых я совершенно не знал, но впоследствии для меня многое прояснилось. Оказалось, что они появились на факультете благодаря Георгию Федоровичу Александрову, о котором я говорил выше. В 1940–1950-е гг. он сыграл немаловажную роль в философско-идеологической советской жизни, и я теперь вернусь к нему.
В аппарате ЦК ВКП(б) Александров сделал большую карьеру. Сталин провел его и в кандидаты ЦК, и, более того, вопреки уставу этого всесильного органа сделал его и членом Оргбюро (в принципе туда вводились только члены ЦК). Главным идеологом партии был А. А. Жданов, член Политбюро и одновременно первый секретарь Ленинградского горкома ВКП(б). Здесь в преддверии войны и должен был сосредоточиться преемник С. М. Кирова. Говорили, что он рекомендовал Сталину назначить Александрова начальником управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б), что и произошло. Он стал теперь большой партийной фигурой, особенно в условиях войны, когда и члены Политбюро, и множество членов ЦК были втянуты в повседневные требования войны. Когда МИФЛИ в эвакуации оказался в Ашхабаде, его руководство (по-видимому И. С. Галкин, декан истфака МИФЛИ и ректор МГУ, когда он снова прибыл в Москву в 1943–1946 г.) обратилось к члену Оргбюро с вопросом, как им быть в эвакуации. Он распорядился влиться в МГУ им. М. В. Ломоносова, что там и произошло. Так здесь появились философский, филологический и экономический факультеты, а исторические слились.
Занятия на философском факультете в Москве начались в феврале 1942 г., когда немецкие войска были отогнаны довольно далеко. Преподавателей на нем (и на его отделении психологии) было крайне мало, но и студентов едва ли более трех десятков. Профессоров-философов тоже три-четыре (Б. С. Чернышев, З. Я. Белецкий, Г. М. Гак и, кажется, А. П. Гагарин). На отделении психологии примерно столько же. Тогдашний декан факультета Г. Г. Андреев, будучи в отделе пропаганды ЦК, говорил с Александровым о немногочисленности профессоров на факультете, особенно в перспективе умножения студентов, демобилизирующихся из армии по ранению, по болезни, не успевших окончить факультет до начала войны. Александров знал о Лосеве и Попове как об ученых с дореволюционным образованием, окончивших Московский университет, знал и об их тяжелых конфликтах с ГПУ в прошлом (о чем напишу в дальнейшем). Как политик, учитывающий некоторую идеологическую оттепель, кратковременно наступившую в результате неожиданных огромных поражений на фронте в первый период войны, а также речь Сталина на историческом параде 7 ноября 1941 г., содержавшую патриотическую тематику, Александров «выразил мнение» о привлечении на факультет дореволюционных русских профессоров с философским образованием. Такое «мнение» высокого начальника сообщил декану факультета Н. Г. Тараканов – подчиненный Александрова, окончивший философский факультет МИФЛИ. Так А. Ф. Лосев и П. С. Попов стали профессорами факультета. Первый опубликовал в 1920-е гг. восемь книг (за собственный счет), но все его довоенные попытки защитить докторскую диссертацию были безуспешны. Теперь Александров «выразил мнение», что столь солидный автор заслуживает присвоения степени доктора философских наук без формальной защиты. Совет принял к исполнению это «мнение», но проявил осторожность и присвоил ему степень доктора филологических наук (в сумятице военных лет такое было возможно).
В те годы в философской жизни факультета и Института философии АН СССР, которые, можно сказать, были сообщавшимися учреждениями, произошли события, имевшие немаловажное значение для философии, для идеологии и даже для политики. Важным для них событием послужила публикация трех томов «Истории философии» (1940–1943), в принципе необходимых не только для философского образования, но и для удовлетворения мировоззренческих интересов широкой публики. Такого рода книг, можно сказать, до этой публикации не было в советские времена, а солидные переводные книги (Виндельбанд, Фалькенберг и др.) найти было уже трудно. Для издания в трех томах был подобран квалифицированный в общем коллектив, а редакцию составили Александров, Быховский, Митин и Юдин. Двое последних никакого отношения к истории философии не имели, будучи, однако, членами Академии наук и занимая большие партийно-административные посты. Все три тома в 1943 г. получили Сталинскую премию первой степени. Прежде всего члены редакции – Александров, Митин и Юдин, которые не написали ни строчки и ничего не редактировали, будучи заняты на «ответственных постах», да они и не были компетентны в истории философии. Подлинным организатором и редактором, написавшим к тому же наибольшее количество текстов, был Бернард Эммануилович Быховский, сумевший получить филологическое и философское образование на грани революционных лет, а в советские времена весьма активный автор множества статей и нескольких книг. Александров тоже не участвовал в редактировании, но Быховский сократил верстку его диссертации, подготовленной к изданию, и она стала важнейшей главой античной части I тома. Кроме членов редколлегии еще шесть авторов (более чем из тридцати) стали лауреатами Сталинской премии первой степени.
Три этих тома, названные студентами «серыми лошадями» – по цвету обложки, десятилетиями служили учебным пособием для студентов философских факультетов. Лауреаты торжествовали и выдвинули двух наиболее компетентных профессоров, Асмуса и Быховского, в члены-корреспонденты Академии наук. Отделение философии и права утвердило их выдвижение. Спустя несколько лет один из лауреатов О. В. Трахтенберг (мой научный руководитель после смерти Б. Г. Чернышева) и Быховский как-то в случайном разговоре рассказали мне, что члены отделения, их утвердившие, были весьма удивлены, что общее собрание академии избрало членом-корреспондентом А. А. Максимова. Научный отдел ЦК ВКП(б) бдительно следил и за этой сферой и зорко соблюдал партийный контроль. Наверху знали, что Асмус глубоко беспартийный, по неясным основаниям пристегнутый к «меньшевиствующим идеалистам», а член партии Быховский в молодости как-то прислонился к троцкизму и получил выговор, не снимаемый до гроба. Максимов же был бдительный коммунист, громивший теорию относительности Эйнштейна как идеалистическую.
Но вокруг III тома «Истории философии» развернулись уже в следующем 1944 г. политические события, ставшие весьма значимыми для философских дел. Тогда я еще не мог знать о закулисной стороне развернувшихся событий, связанной с борьбой за руководство «философским фронтом» между Г. Ф. Александровым, набиравшим всё большее влияние, и М. Б. Митиным и П. Ф. Юдиным, занимавшими высокие посты, но всё же шедшими под уклон. Неожиданно для всех против III тома выступил профессор Зиновий Яковлевич Белецкий, обозленный и приниженный своим удалением из института, считавшегося центром философской жизни. От Б. С. Чернышева, моего друга Михаила Федотовича Овсянникова, защитившего кандидатскую диссертацию об эстетике Гегеля и Бальзака в 1943 г., я узнал, как развивалось всё дело.
З. Я. Белецкий, окончив медицинский факультет Московского университета в 1925 г. и став врачом, затем поступил в Институт красной профессуры и получил звание профессора. В 1934–1943 гг. он возглавлял партийную организацию Института философии. О его философской и тем более историко-философской компетенции сказать фактически нечего. Он смог опубликовать лишь две-три статьи на политические темы. Директор Института философии П. Ф. Юдин уволил его оттуда за бездеятельность, и он стал профессором философского факультета МГУ (еще до войны он работал там как совместитель). Лекций он фактически не читал, а вел аспирантский семинар, в котором состоял и я.
Третий том «Истории философии» был доведен до изложения западноевропейской философии до середины XIX в., но добрая его половина была посвящена немецкой классической философии, большая часть которой, естественно, излагала ее фундаментальный идеализм, фокус которого составляла доктрина Гегеля, столь высоко значимая и использованная «классиками» марксизма, включая Ленина. В большой его статье «О значении воинствующего материализма» (опубликована в основанном тогда философском журнале «Под знаменем марксизма» № 3, 1922), вождь мирового пролетариата категорически рекомендовал учредить «общество материалистических друзей философии Гегеля». Быховский и Чернышев, основные авторы текстов III тома досконально использовали все наиболее значимые высказывания «классиков». Однако профессора, увлеченные аналитическим изложением трудных учений (а замыслы Быховского и в целом редакции предполагали еще четыре тома), фактически не учитывали, что третий том публикуется в разгар ожесточенной войны с немцами. Белецкий же использовал это обстоятельство, как иногда говорится, на всю катушку. Он обратился к Сталину с большим «разоблачительным» письмом. Длительное время о содержании этого письма мы могли судить лишь косвенно по суждениям Белецкого на нашем аспирантском семинаре. Но сравнительно недавно профессор Анатолий Данилович Косичев в архивах ЦК ВКП(б) – КПСС обнаружил это письмо и опубликовал его в книге «Философия. Время. Люди. Воспоминания и размышления декана философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова» (М., 2007). Выпускник ИКП философии З. Я. Белецкий весьма туманно трактовал историю философии, полностью отрицал целостность ее традиций, утверждая, что воззрения любого философа определяются временем его жизни, национальным фактором и, главное, тем социальным статусом, к которому он принадлежал. Белецкий доводил до абсурда принцип социального детерминизма, который определял и методологию «классиков». Автор письма их положения использовал выборочно. «Забывал» о работе Ленина «Три источника, три составных части марксизма». Настойчиво подчеркивал ленинское утверждение, что идеализм – это «поповщина». Использовал некоторые преувеличения немецкого национального фактора, которые кое-где имеются у Гегеля (и тем более у Фихте). Преувеличивал известное высказывание Гегеля о необходимости войн как морально мобилизирующего фактора национальной жизни (авторы тоже критически использовали данный текст). В целом стремился доказать, что авторы III тома, искажая положения «классиков», фактически защищают идеализм.
Приспосабливаясь к честолюбию Сталина, Белецкий утверждал, что авторы не считаются с некоторыми положениями его очерка «О диалектическом и историческом материализме». Если Асмус в предвоенной брошюре, как и Быховский, убедительно доказывал, что Гегель (и тем более Фейербах), в сущности, сторонники гуманизма, который растоптал фашизм, то Белецкий утверждал, что они подлинные предшественники фашизма. Здесь же Белецкий не забыл прибавить, что Быховский – бывший троцкист, а Асмус – меньшевиствующий идеалист, а Лосев, присланный на факультет из ЦК, – откровенный мистик.
Сталин ознакомился с этим письмом и позвал Г. Ф. Александрова, дал прочитать ему и спросил его мнение. Слухи об их «свидании» и позиции Сталина я слышал еще в конце войны, но наиболее достоверно суть этого разговора передана в книге академика Т. И. Ойзермана со слов самого Александрова (разумеется, после смерти Сталина), с которым он был достаточно близок со времен МИФЛИ, в его монографии «Оправдание ревизионизма» (М., 2005). Ознакомившись с письмом Белецкого, Теодор Ильич сказал вождю, что это письмо свидетельствует о философской малограмотности автора, его истолкование философии Гегеля совершенно перечеркивает трактовку Маркса, Энгельса, Ленина, да и самого Сталина в его очерке «О диалектическом и историческом материализме». Но, выслушав такую оценку, Сталин сказал, что, по-видимому, в философии автор письма и не силен, но у него совершенно ощутим философский нюх.
Для прояснения ситуации генсек распорядился передать письмо Белецкого в ведомство секретаря ЦК Г. М. Маленкова для тщательного обсуждения. В этой акции проявилось определяющее свойство Сталина-политика. Философия как таковая, по существу, его не интересовала (и здесь, полагаю, его отличие от Ленина). В его очерк для «Краткого курса истории ВКП(б)», автор в различных разделах (особенно в истматовском) стремится зафиксировать практическо-политические выводы для «углубленного» понимания и истолкования социальной жизни. При этом философию Гегеля он явно не жаловал и – косвенные свидетельства – пренебрежительно относился к «Философским тетрадям» Ленина. Как сообщает Т. И. Ойзерман в его названной книге, со слов Александрова Сталин вызвал его вместе с заместителями (П. Н. Федосеевым, М. Т. Иовчуком и В.С. Кружковым) и спросил их, как они трактуют социальную суть философии Гегеля. Никто из них не решился сформулировать свое понимание (но сделать это мог, конечно, только Александров). Тогда высказался сам Сталин: «Философия Гегеля – это аристократическая реакция на Великую французскую революцию и французский материализм XVIII в.». Вождь высказал совершенно нелепую идею, свидетельствующую о его полной некомпетентности в истории философии этого периода (и не только).
По-своему глубокую критику этой революции сформулировали так называемые традиционалисты уже во время ее и вскоре после – англичанин Эдмунд Берк, французы Жозеф де Местр и Луи Бональд. В том же III томе содержится весьма содержательный анализ их сугубо консервативных воззрений, но тогда с ними вряд ли кто знакомился. Социальные воззрения Гегеля здесь тоже были представлены в соответствии с уже принятой трактовкой: энтузиаст событий французской революции в студенческие и молодые годы, в «Философии права» он консерватор, но сторонник конституционной монархии и гражданского общества. Вождь, по-видимому сам III тома не читая, свою «смелую» трактовку социального гегельянства не опубликовал, хотя она стала в общем известна и приводила к растерянности действующих философов. На философской дискуссии 1947 г. (я на ней присутствовал и скажу о ней дальше), которой руководил главный тогда идеолог А. А. Жданов, ему из зала кто-то задал вопрос, как понимать эту трактовку социальности Гегеля т. Сталиным. Жданов уклонился от ответа и сказал, что уточнит ее с ним своим.
Обсуждение III тома (трижды в секретариате Г. М. Маленкова – А. С. Щербакова) в соответствии с указанием Сталина состоялось в феврале-марте 1944 г. О нем мне рассказал Б. С. Чернышев, затем я слышал об этом и от других фигурантов. Быховский, Асмус и Чернышев, специалисты весьма компетентные, говорили о фактическом невежестве, вульгаризаторстве и примитивизме позиции Белецкого, присутствовавшего здесь же и тоже выступавшего. Но вся убедительная компетентность и эрудиция вышеназванных профессоров была совершенно безразлична секретарям ЦК, ибо они знали позицию Сталина. Отсюда и итоги «дискуссии»: тому же Александрову, напутствовавшему названных профессоров показать невежество «горбуна» (Белецкого), было предложено написать полностью критический текст, который был опубликован как решение Политбюро в 7–8 номерах журнала «Большевик» (официальный орган ЦК ВКП(б)) за 1944 г.: «О недостатках и ошибках в освещении истории немецкой философии конца XVIII – начала XIX вв.». Здесь в особенности «разоблачалось» возвеличение Гегелем немцев «как избранного народа». Сталин-политик показал, как надо трактовать прошлое с позиций настоящего, да еще полыхающего огнем. «Извратителями» были названы Быховский, Чернышев (умерший от инфаркта в сентябре того же года) и Асмус. Белецкий же фактически «реабилитировался».
С III тома сталинская премия была снята (восстановлена как государственная после смерти вождя). Митина отстранили с поста директора ИМЭЛ, а Юдина – директора Института философии. Быховский был лишен поста заведующего сектором истории философии и отправлен рядовым редактором в «Большую советскую энциклопедию». Александров остался на своем посту.
Примерно в то же время и на философском факультете произошли неприятные, печальные события. Александров понял свою политическую ошибку с Лосевым. По инициативе Белецкого был проработан А. Ф. Лосев, преподававший в семинаре студенческой группы IV курса, как сугубый гегельянец, идеалист и даже мистик. Алексей Федорович сообщил мне много позже, что был приглашен к председателю комитета по высшей школе С. В. Кафтанову и тот сказал ему, что они считают, что как доктору филологических наук ему лучше работать «по специальности», и отправил его на кафедру классической филологии в пединститут им. Ленина.
На факультете случились и другие неприятности. Бывшего декана Г. Г. Андреева, принимавшего на службу Лосева и Попова, в 1943 г. отправили в советскую дипмиссию в Лондон, но в 1944 г. отозвали в Москву в МИД, а после какого-то краткого отчета пригласили в МГБ и в итоге дали 25 лет лагерей (он отсидел половину этого срока, после смерти Сталина вернулся в университет). Были также арестованы два студента: А. Романов, работавший в семинаре Лосева, и А. Ревзон (под сурдинку критиковал новый гимн, но один из сокурсников не согласился с ним). Б. С. Чернышева освободили от поста декана, которым он стал после отъезда в Лондон Андреева, и заменили доцентом Д. А. Кутасовым, бывшим деканом факультета перед войной в МИФЛИ.
Торжество Белецкого на факультете стало полным. В лектории МГУ он стал читать небольшой курс по осужденному немецкому идеализму. По моему аспирантскому восприятию, его лекции были примитивны: социологизированы и политизированы, философски поверхностны. Со второй лекции я ушел и больше их не посещал.
Отрицательность описанных событий для факультетской жизни и философского образования компенсировалась и положительными приобретениями, косвенно и непосредственно связанными с этими событиями. Нетерпимым фактом философского (и не только) образования, как оно сложилось в довоенные времена, было отсутствие курсов и семинаров по логике. Это осознавалось и в верхах. Не раз мне приходилось слышать, что инициатива принадлежала здесь Сталину. Можно думать, что его семинарская учеба полностью у него не выветрилась. Да и его произведениям, и в особенности выступлениям и речам, при всей их сугубой упрощенности нельзя отказать в логической ясности. В 1941 г., еще перед войной, «партия и правительство» приняли постановление о введении в школьное образование двух новых предметов – логики и психологии. На философский факультет МИФЛИ приглашался профессор Валентин Фердинандович Асмус с эпизодическими лекциями о предмете логики. Тогда я с ним и познакомился (два-три вопроса). В 1942–1943 гг. преподавание логики на философском факультете МГУ было восстановлено. Там уже работал упомянутый выше высокоавторитетный профессор В. Ф. Асмус, о котором в дальнейшем будет специальный разговор. Собственно для преподавания логики на факультет были в 1942 г. посланы ведомством Александрова А. Ф. Лосев и П. С. Попов, окончившие отделение логики и психологии Московского университета еще в 1915 г. В 1947 г., когда появились аспиранты-логики и другие преподаватели, возникла и кафедра логики, которую возглавил профессор Попов, и мы в дальнейшем к ней вернемся.
Другим приобретением философского факультета, можно считать прямо связанным с описанными событиями вокруг III тома «Истории философии», стала организация кафедры истории русской философии. Поворот в сторону ее преподавания наметился уже перед войной, и политически здесь опять проявилось воздействие резкого поворота Сталина к истории России, в которой, по его категорическому утверждению, уже построен социализм. Редакция III тома наметила из последующих четырех томов один посвятить истории русской философии. В значительной мере, по-видимому, вчерне, он был написан ко времени обсуждения этого тома, а в ходе самого обсуждения прозвучала довольно резкая критика Митина и Юдина, которые уже довольно долго руководили «философским фронтом», но тормозили разработку русской философской тематики (см. статью Г. С. Батыгина и И. Ф. Девятко «Советское философское сообщество в сороковые годы. Почему был запрещен третий том «Истории философии»? в кн. «Философия не кончается. Кн. I. Из истории отечественной философии. ХХ век. 1920–50-е годы». Под ред. В. А. Лекторского. М., 1998). Во всех вузах СССР преподавали диалектический материализм главным образом по произведениям Энгельса, в которых первостепенная роль отводилась Гегелю, главному классику немецкого идеализма с его диалектическим методом, как и Фейербаху, ущербному материалисту, но тем не менее сыгравшему переломную роль в переходе Маркса и Энгельса на позиции материализма, уже так называемого диалектического. Всё это потребовало создания истории русской философии во главе с Михаилом Трифоновичем Иовчуком, окончившим Академию коммунистического воспитания и одним из заместителей Александрова в Управлении агитации и пропаганды. Кафедра истории философии стала называться кафедрой истории западноевропейской философии.
В 1944–1945 гг. на факультете работали два аспирантских семинара – по истории философии, которым руководил Б. С. Чернышев вплоть до своей смерти, и по диалектическому и историческому материализму, которым руководил З. Я. Белецкий. Кроме меня в этих семинарах участвовали М. Ковальзон, Ш. Герман, Е. Куражковская, Д. Кошелевский, А. Никитин, позже присоединился В. Келле, демобилизованный после госпиталя. Семинары работали активно.
Мы с моим другом, тогда доцентом М. Ф. Овсянниковым не стеснялись в критике (с преподавателями и аспирантами) Белецкого как продолжателя В. Шулятикова, дореволюционного литкритика и философа, который в книге «Оправдание капитализма в западноевропейской философии» развивал сверхвульгаризаторскую трактовку этой философии, большевика, чьи воззрения отвергал даже Ленин. У меня же были нередки довольно резкие споры с Белецким на его семинаре, поскольку я уже тогда не принимал марксистского положения о сугубой «надстроечности» философии над пресловутым социально-экономическим базисом. Белецкий при поддержке некоторых аспирантов не раз меня «прорабатывал».
Мне это аукнулось при защите кандидатской диссертации в июне 1946 г. В ней я трактовал соотношение марксистского решения проблемы свободы и необходимости с домарксистским ее решением Спинозой и в меньшей мере Гегелем. Тема эта, стимулированная идеей Маркса о том, что будущее коммунистическое общество, к которому придет всё человечество, станет «царством свободы», тогда активно обсуждалась. Перед самой войной кандидатскую диссертацию по этой теме защитил Т. И. Ойзерман. Теперь взялся за нее и я, стремясь в меру своих знаний прояснить ее родословную. После благожелательного выступления официальных оппонентов, В. Ф. Асмуса и М. Ф. Овсянникова, и моего им ответа выступили с резко отрицательными выпадами члены кафедры диамата – будущий столп диалектической логики доцент В. И. Мальцев, теоретик эстетики С. С. Гольдентрихт. Оба они отрицали саму идею сравнения марксистского решения данной проблемы с какой-то домарксистской темнотой (последний из них, помнится, указал на то, как Александр Матросов закрыл своей грудью немецкую амбразуру – ярчайший факт ленинско-сталинского понимания свободы в действии).
В выступлениях этих неофициальных оппонентов содержались кричащие противоречия, которые умело выявил в своей реплике мой научный руководитель (после смерти Б. С. Чернышева) Орест Владимирович Трахтенберг, показавший, что это не те противоречия, «которые ведут вперед» (формула Гегеля). И здесь в атаку пошел сам З. Я. Белецкий. Общий смысл его выступления был тот же: само сопоставление марксистской концепции свободы с предшествующими в корне порочны. Были какие-то и более частные и малоубедительные возражения, которых теперь не помню (стенограмма не велась, не было и совета как такового, голосовали все, кто имел степень или звание). Я резко, запальчиво и, полагаю, не очень-то умело отвечал Белецкому, стремясь показать неубедительность его возражений. По своей невоспитанности я совсем не благодарил его, как мне советовали сделать в ожидании результатов голосования тогдашний аспирант Ю. К. Мельвиль, и П. В. Копнин, и другие более зрелые друзья. Я ждал провала, но оказалось, что при голосах против я всё же прошел «в упор». Думаю, что не из-за моего поведения, а из-за активной неприязни к Белецкому (обратившемуся с новыми письмами к Сталину против Александрова) и его кафедре, о чем свидетельствовали громкие аплодисменты довольно многочисленной публики.
В конце того же 1946 г. я был утвержден в степени на ученом совете МГУ под председательством ректора академика А. Несмеянова (ВАКа тогда еще, кажется, не было). Но возможность работы на кафедре истории западноевропейской философии, о чем я мечтал, мне была закрыта. Слабовольный ее заведующий В. И. Светлов, работавший по совместительству и сменивший Б. С. Чернышева, совершенно пасовал перед сверхволевым З. Я. Белецким, во многом определявшим кадры не только своей кафедры, но и других. В частности, он определял и кадры по логике, и П. С. Попов сумел с ним договориться, хотя А. Ф. Лосев в результате его «разоблачений» был удален из университета.
Но в то время, осенью 1946 г., была открыта Академия общественных наук (АОН), как бы вместо Института красной профессуры, закрытого в 1938 г. (множество арестов среди преподавателей и слушателей). Новая академия, как и тот институт, была ориентирована на партийных работников. Среди нескольких кафедр здесь учредили три философских: диамата-истмата (заведующий П. Н. Федосеев), истории философии (возглавил сам Г. Ф. Александров) и логики и психологии (во главе с высококвалифицированным психологом Б. М. Тепловым). Каждая кафедра имела кабинеты соответствующей литературы. Я поступил заведовать кабинетом при кафедре истории философии. Новая академия набирала партийных аспирантов, которые после трехлетнего обучения должны были защищать кандидатские диссертации.
Здесь необходимо вспомнить, что в довоенном СССР диссертаций, даже кандидатских, защищалось крайне мало, не в последнюю очередь потому, что приобретенная степень фактически не увеличивала зарплату. В 1946 г. «остепенение» значительно по тем временам ее увеличивало. С каждым годом теперь увеличивалось и количество защит, более всего кандидатских, но постепенно и докторских. Сами защиты всё более превращались в инсценировки, особенно если диссертант в официальной характеристике наделялся высокими партийно-общественными качествами. Поток диссертаций наиболее широким был в сфере истории ВКП(б), как в наиболее актуальной тематике в политическом аспекте. Снижение требовательности и, соответственно, качества диссертаций (я имею здесь в виду прежде всего, если не главным образом, общественно-политическую, включая и философско-идеологическую проблематику) рождало множество шуток и анекдотов: «Если в диссертации списан один чужой текст – это плагиат, два текста – реферат, три – компиляция, четыре – диссертация».
* * *
Поскольку АОН была учреждена фактически при управлении агитации и пропаганды ЦК ВКП(б), Александров раз или два назначал заседания кафедры в своих помещениях, и я, как заведующий кабинетом при его кафедре, стал вхож в главное здание страны. В самой академии и тем более здесь я увидел, как она управляется, рассмотрел и даже познакомился с некоторыми из эпигонов.
С Александровым я общался главным образом через его заместительницу по кафедре доцента Марию Дмитриевну Цебенко, но иногда и лично. Он представлялся мне довольно симпатичным, даже для меня немного открытым, а особенно для моего друга Павла Тихоновича Белова, работавшего с ним перед войной. Я, не очень-то тогда квалифицированный в истории философии, иногда при разработке и обсуждении программы кандидатского минимума всё же замечал кое-какие промахи и ошибки в познаниях шефа. Но я, конечно, понимал, что при его партийно-политической занятости у него вряд ли находится время для углубления своих знаний, и он жил «старым запасом».
На заседании кафедры в ЦК присутствовали оба его заместителя – Петр Николаевич Федосеев (первый) и Михаил Трифонович Иовчук (второй). Я обратил внимание, что когда Александров торопил с составлением программы кандидатского минимума для аспирантов, то посматривал на Федосеева, который говорил, что не стоит с этим так уж торопиться. Когда же программа минимума по кафедре Александрова была отпечатана, в отделе кадров ЦК зафиксировали, что большинство аспирантов взяты кафедрами АОН неправильно по их партийным и служебным качествам. На эти кафедры пришлось набирать других аспирантов. Кафедра же диамата, руководимая Федосеевым, даже не приступала к составлению своей программы.
В дальнейшем я более подробно узнал о Федосееве, наблюдая его в АОН. Несколько удивлял его партийный стаж, ибо он стал членом ВКП(б) лишь в 1939 г., в то время как его ровесники Иовчук и Александров вступили в партию в 18 и в 20 лет. Мне объяснили тогда, что Федосеев – сын кулака и не мог стать коммунистом так рано, как его теперешние сослуживцы. Наблюдая его и впоследствии (короткое время я был даже заместителем редколлегии «Философского наследия», а председателем был Петр Николаевич), я убедился в его «герметичности». Он был из тех, о ком говорят: «Слово – серебро, молчание – золото». Окончив исторический факультет горьковского пединститута, он стал аспирантом философского факультета МИФЛИ и перед войной защитил кандидатскую диссертацию «Ленин и Сталин о религии и атеизме». В дальнейшем, работая в ЦК ВКП(б) редактором теоретического органа журнала «Большевик», теоретического органа Центрального комитета, он стал и академиком, и вице-президентом АН СССР, и директором Института философии, и директором ИМЭЛ. Пользовался большим авторитетом в партийных верхах. Его поздний труд «Диалектика современной эпохи» явно составлен при помощи референтов.
В 1946 г., когда я стал работать в АОН, Александров достиг вершины своей партийно-государственной значимости: начальник названного управления, член Оргбюро ЦК, которому после смерти секретаря ЦК ВКП(б) А. С. Щербакова Сталин поручал делать традиционные доклады в день смерти В. И. Ленина. Естественно ему было досадно, что Митин и Юдин, не имевшие каких-либо значимых трудов, не защищавшие диссертаций, были членами Академии наук и как бы возглавляли «философский фронт». Александров вместе со своими заместителями тоже решили стать членами Академии наук. Было при этом одно препятствие: туда нельзя было баллотироваться, не имея степени доктора наук, а Иовчук, тоже работавший по совместительству на кафедре истории философии АОН, таковой не имел. Необходима была срочная защита, ибо до выборов в академию (ноябрь 1936 г.) оставались, кажется, две-три недели и надо было торопиться.
Михаил Трифонович, коммунист чуть ли не с юношеского возраста, был типичным партийным карьеристом. Окончив Академию коммунистического воспитания, он оставался поверхностным и безнадежным догматиком, ухватившимся за русских революционных демократов, мусолившим «ленинские традиции в философии». Лез во все редколлегии, включая те, в которых он был пустым местом. В отношении подчиненных и тех, кто стоял ниже его по служебной лестнице, нередко проявлял себя откровенным хамом. Вместе с тем обладал даром хорошей речи и определенного остроумия. Не признавая Марка Борисовича Митина достойным руководителем «фронта», он придумал для него «псевдоним» Мрак Борисович Мутин. Обыгрывая его свойства «толкать речи» не всегда по данному вопросу, Михаил Трифонович окрестил его Маркс Борисович Митинг.