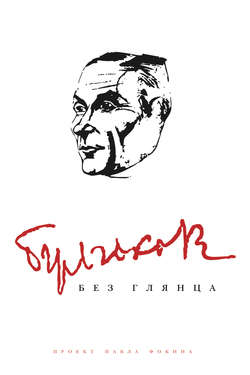Читать книгу Булгаков без глянца - Группа авторов - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Личность
Творчество
ОглавлениеВиталий Яковлевич Виленкин:
Главное, что меня в нем поражало, это неугасимая внутренняя готовность к творчеству. Казалось, что если не сегодня, то завтра он непременно начнет писать, и было ясно, что в голове его зреет множество замыслов [5; 294].
Арон Исаевич Эрлих:
Он сидит за столом сразу при входе справа. Вот он раскрыл папку, – обыкновенную картонную папку с надписью «М. Булгакову», – в ней свежие, только сегодня доставленные почтой, рабкоровские корреспонденции. Вот он подогнул под себя на стуле левую ногу, осел на нее всей тяжестью корпуса, – значит, сейчас будет готовить подборку заметок в очередной номер газеты: мы уже знаем – Михаил Афанасьевич пишет не иначе, как сидя на собственной левой ноге [16; 67].
Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:
Писал Михаил Афанасьевич быстро, как-то залпом. Вот что он сам рассказывает по этому поводу: «…сочинение фельетона строк в семьдесят пять – сто отнимало у меня, включая сюда и курение и посвистывание, от восемнадцати до двадцати минут. Переписка его на машинке, включая сюда и хихиканье с машинисткой, – восемь минут. Словом, в полчаса все заканчивалось» [4; 95].
Константин Георгиевич Паустовский (1892–1968), писатель, соученик Булгакова по киевской Александровской гимназии:
Легкость работы Булгакова поражала всех. Это та же легкость, с какой юный Чехов мог написать рассказ о любой вещи, на которой остановился его взгляд, – чернильнице, вихрастом мальчишке, разбитой бутылке. Это – брызжущий через край поток воображения.
Так легко и беззаботно работал Булгаков в «Гудке» в те знаменитые времена, когда там подвизалась на «четвертой полосе» компания насмешливых юношей во главе с Ильфом и Петровым. ‹…›
В то время Булгаков часто заходит к нам, в соседнюю с «Гудком» редакцию морской и речной газеты «На вахте». Ему давали письмо какого-нибудь начальника пристани или кочегара. Булгаков проглядывал письмо, глаза его загорались веселым огнем, он садился около машинистки и за 10–15 минут надиктовывал такой фельетон, что редактор только хватался за голову, а сотрудники падали на столы от хохота [5; 102].
Ирина Сергеевна Раабен (фон Раабен, урожд. Каменская), в 1920‑е годы – машинистка, работавшая с Булгаковым над «Записками на манжетах» и романом «Белая гвардия»:
Первое, что мы стали с ним печатать, были «Записки на манжетах». Он приходил каждый вечер, часов в 7–8, и диктовал по два-три часа и, мне кажется, отчасти импровизировал. У него в руках были, как я помню, записные книжки, отдельные листочки, но никакой рукописи как таковой не было. Рукописи, могу точно сказать, не оставлял никогда. Писала я только под диктовку [5; 128].
Татьяна Николаевна Кисельгоф. Из беседы с М. Чудаковой:
Когда он обычно работал? В земстве писал ночами… в Киеве писал вечерами, после приема. Во Владикавказе после возвратного тифа сказал: «С медициной покончено». Там ему удавалось писать днем, а в Москве уже стал все время писать ночами [5; 120–121].
Август Ефимович Явич:
Булгаков жил в удлиненной комнате с одним окном, к которому вплотную был придвинут письменный стол, совершенно пустынный, – ни карандаша, ни листка бумаги, ни книжки, словом, никаких признаков писательского труда. Похоже, все складывалось в ящики стола, как только прекращалась работа, и для посторонних любопытных глаз ничего не оставлялось. Да и работал он в ту пору по ночам [5; 158].
Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:
Идет 1927 год. Подвернув под себя ногу калачиком (по семейной привычке: так любит сидеть тоже и сестра М. А. Надежда), зажегши свечи, пишет чаще всего Булгаков по ночам [4; 130].
Елена Сергеевна Булгакова. В записи В. Я. Лакшина:
Я в молодости, познакомившись с Булгаковым, когда его страшно ругали за «Белую гвардию», «Турбиных», сказала ему: «Ну что вам стоит написать пьесу о Красной Армии». Он посмотрел на меня страшными глазами и сказал с обидой: «Как вы не понимаете, я очень хотел бы написать такую пьесу. Но я не могу писать о том, чего не знаю» [5; 413].
Михаил Афанасьевич Булгаков. Из допроса ОГПУ. Собственноручное признание. 22 сентября 1926 г.:
На крестьянские темы я писать не могу потому, что деревню не люблю. Она мне представляется гораздо более кулацкой, нежели это принято думать.
Из рабочего быта мне писать трудно, я быт рабочих представляю себе хотя и гораздо лучше, нежели крестьянский, но все-таки знаю его не очень хорошо. Да и интересуюсь я им мало, и вот по какой причине: я занят, я остро интересуюсь бытом интеллигенции русской, люблю ее, считаю хотя и слабым, но очень важным слоем в стране. Судьбы ее мне близки, переживания дороги.
Значит, я могу писать только из жизни интеллигенции в Советской стране. Но склад моего ума сатирический. Из-под пера выходят вещи, которые порою, по-видимому, остро задевают общественно-коммунистические круги.
Я всегда пишу по чистой совести и так, как вижу. Отрицательные явления жизни в Советской стране привлекают мое пристальное внимание потому, что в них я инстинктивно вижу большую пищу для себя (я – сатирик) [15; 133].
Елена Сергеевна Булгакова:
Булгаков не мог писать фотографии, точный образ того человека, с которым он был знаком. Но когда он глядел на людей, то он как-то сразу проникал в их сущность и сразу создавал все-таки что-то свое при этом. Дело в том, что у него была такая манера: он любил ходить в рестораны, потому что там было много людей для наблюдения. Он садился и говорил: «Вот посмотри на тот столик. Там сидят четыре человека. Хочешь, я тебе расскажу их отношения между собой, кто они по профессии, о чем они сейчас говорят и что их мучает?» Может быть, он все это импровизировал, выдумывал, но, когда я смотрела на людей, мне казалось, что только так и может быть, настолько убедительны были все его доводы, все доказательства того, что вот это люди именно такой профессии, таких отношений между собой и об этом они сейчас думают или говорят [5; 381–382].
Константин Георгиевич Паустовский:
От общения с Булгаковым оставалось впечатление, что и прозу свою он сначала «проигрывал». Он мог изобразить с необыкновенной выразительностью любого героя своих рассказов и романов. Он их видел, слышал, знал насквозь. Казалось, что он прожил с ними бок о бок всю жизнь. Возможно, что человек у Булгакова возникал сначала из одного какого-нибудь услышанного слова или увиденного жеста, а потом Булгаков «выигрывался» в своего героя, щедро прибавлял ему новые черты, думал за него, разговаривал с ним (иногда буквально – умываясь по утрам или сидя за обеденным столом), вводил его, как живое, но «не имеющее фигуры» лицо в самый обиход своей булгаковской жизни. Герой завладевал Булгаковым всецело. Булгаков перевоплощался в него [5; 99–100].
Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:
1929 год. Пишется пьеса «Мольер» («Кабала святош»). Действует все тот же не убитый или еще не добитый творческий инстинкт. Перевожу с французского биографии Мольера. Помню длинное торжественное стихотворение, где творчество его отожествляется с силами и красотой природы…
М. А. ходит по кабинету, диктует текст, играя попутно то или иное действующее лицо. Это очень увлекательное действо. ‹…›
Как сейчас вижу некрасивое талантливое лицо Михаила Афанасьевича, когда он немножко в нос декламирует:
Муза, муза моя, о, лукавая Талия…
[4; 177]
Сергей Александрович Ермолинский:
Сочиняя либретто оперы «Минин и Пожарский», он усаживался за рояль и пел арии на какой-то невообразимый собственный мотив. «Луна, луна, за что меня сгубила? – пел он речитатив сына посадского Ильи Пахомова. – Уж я достиг стены, но выдал лунный свет, меня заметили, схватили… Ах, неудачник я!..» Он подгонял текст под ритмическую прозу и сам с собой играл в оперного певца, композитора, изображал оркестр и дирижера. А однажды днем я застал его в халате танцующим посреди комнаты. В доме никого не было, семья была на даче в Загорянке. Он сам открыл дверь и продолжал выделывать па, вскидывая босые ноги и теряя шлепанцы.
– Миша, что с тобой? – остолбенел я.
– Творю либретто для балета. Что-то андерсеновское – «Калоши счастья». Вдохновляюсь. Ничего, брат, не попишешь. Надо – буду балериной. Но… не более.
Константин Георгиевич Паустовский:
Однажды зимой он приехал ко мне в Пушкино. Мы бродили по широким просекам около заколоченных дач. Булгаков останавливался и подолгу рассматривал шапки снега на пнях, заборах, на еловых ветвях. «Мне нужно это, – сказал он, – для моего романа». Он встряхивал ветки и следил, как снег слетает на землю и шуршит, рассыпаясь длинными белыми нитями [5; 103].
Елена Сергеевна Булгакова. Из дневника:
‹1937›
25 июня. ‹…› М. А. часто уходил к себе в комнату, наблюдал луну в бинокль – для романа. Сейчас – полнолуние [7; 156].
Александр Михайлович Файко. Из речи на гражданской панихиде 11 марта 1940 г.:
Он умел работать методично, последовательно и систематично. Этому можно было у него поучиться. Когда он обращался к прошлому – когда писал «Дон Кихота», «Мольера» и «Пушкина», – он изучал материал со скрупулезной точностью. Так, например, изучал он испанский язык, когда работал над «Дон Кихотом», так копался он в архивах, работая по «Пушкину» и «Мольеру». У него была страсть коллекционировать словари. Это был не прихотливый каприз, а он подходил к ним с взыскательной требовательностью ученого [6; 310].
Виталий Яковлевич Виленкин:
Его творческая натура требовала все новых и новых проявлений. Иногда они бывали неожиданными. Елена Сергеевна показала мне как-то толстую клеенчатую тетрадь, в разных местах обрывочно заполненную его характерным крупным с резкими нажимами почерком. Это были наброски отдельных глав учебника по истории СССР, который он начал писать, прочтя в газете объявление о предстоящем конкурсе. Я был поражен свежестью и живостью языка, изяществом стиля, словом, литературным совершенством этих еще черновых исторических фрагментов [5; 295].
Сергей Александрович Ермолинский:
Ему претили словесные штампы, ужасала казенная узость обобщений. Не менее этого его раздражало «новаторство» – намеренная невнятица, гримасы уродливого языка или нарочито грубый натурализм. Игра жаргонными словечками, якобы фиксирующими современный язык, а в особенности откровенная непристойность и словесный цинизм вызывали у него брезгливость [8; 69].