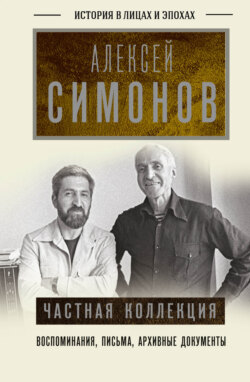Читать книгу Частная коллекция - - Страница 3
Зал «Семейные портреты и реликвии»
Обжигаясь об историю
ОглавлениеВы когда-нибудь пробовали пускать «блинчики»? Это делается на морском берегу, при тихой воде, там, где пляж – огромное лежбище обкатанной, оглаженной прибоем гальки. Берете в руку самый плоский камень и, отведя локоть, пускаете сей метательный снаряд вдоль по поверхности воды. Вот сколько раз он отскочит, пока не хлюпнет, не юркнет в глубину, столько блинчиков вам и удалось пустить.
Применительно к теме нашего сочинения, это вроде как метафора: море – оно просоленное, безбрежное, как история страны, а делающий, сколько сил хватит, прыжков по поверхности воды камень – это доступная мне часть нашей семейной истории. И надо смириться с тем, что с какой бы силой вы ни пустили свой «блинчик», он все равно канет, растворится в толще истории, не оставив на поверхности сколько-нибудь заметного следа.
А кстати: какова фамилия вашего камня? Моего вроде бы – Симонов. Но в моем Симонове полно и других фамилий. Через папу – Иванишевы и Оболенские, далее – Шмидт, Шаховские – далее не знаю. Через маму – попроще: Ласкины и Аншины. Одни – из Орши, другие – из Шклова.
Отцовы родичи – из Петербурга и Москвы. Материнские – из черты оседлости, и только предки, чью фамилию я ношу, – на особицу: родной отец моего отца – из мелкопоместных калужских дворян Симоновых. Как видите, семейная моя история сложилась из элементов, по всей России разбросанных.
Бывает по-другому: бывают «блинчики» пущены буквально из двух соседних домов, расположенных в десяти метрах друг от друга, и никакой загадки в таинстве пересечения их в истории нет. В моем случае понадобился исторический шторм 1917 года, когда перемешались все социальные страты государственного устройства, иначе ну никак бы не сошлись в историческом пространстве линии жизни моих мамы и папы.
Род Оболенских, чтобы было понятно, – один из древнейших дворянских родов России, ведущий свое родословие от легендарного Рюрика. Поколение отца – 32-е – это если от Рюрика, и 21-е от патрона рода – великого князя Черниговского. А от основателя рода князя Константина Юрьевича Оболенского – 19-е.
Что до рода Ласкиных – это род еврейских торговцев соленой рыбой в черте оседлости. Для необразованных: черта оседлости – районы Российской империи, где разрешено было жить не добившимся крупного успеха в жизни евреям. Добившиеся – выезжали за черту оседлости, имея за плечами либо успешную торговлю, либо чудеса храбрости на поле империалистических войн.
Достоверность рассказов о семейной истории следует подкреплять документами. Но – с одной стороны – достоверных документов о третьем от меня поколении, что в материнском, что в отцовском роду, не осталось никаких: революции и войны, увы, не способствуют накоплению семейных архивов, а с другой стороны – всегда среди родичей находится кто-нибудь более въедливый и более тщательный, чем ты и, глядишь, у вас, как у меня сейчас, окажутся исторические свидетельства, составленные этими, более тщательными, чем я, родственниками.
По странному стечению обстоятельств авторы исторических записей в моем случае оказались двоюродные братья моих родителей: князь Николай Николаевич Оболенский и инженер-химик Марк Савельевич (Саулович) Ласкин. Родились они – первый – в 1905 году в Астрахани, где «заведующим калмыцким народом» служил его отец Николай Леонидович – старший брат моей бабки, Александры Леонидовны Оболенской – Иванишевой. Второй родился в Орше в 1908 году и был сыном старшего брата моего деда, Самуила Моисеевича Ласкина. По отцовской линии это выглядит так: в 2003 году в Петербурге был издан «Дневник тринадцатилетнего эмигранта», и большая часть интересующих нас с вами сведений взята из предисловия и комментариев к этому дневнику моего троюродного дяди, составленных И. Вышеславцевой и С.А. Ларьковым, занимавшимися много лет родословием рода Оболенских.
Второй источник – машинописная рукопись, названная автором «Заметки о моей жизни», и причиной, побудившей Марка Савельевича взяться за этот обширный, чуть не в 200 страниц, труд, было, по его словам, «наблюдаемое сейчас равнодушие нашей молодежи к прошлому своих предков». Написана она в 1974–1976 годах, а окончательный вариант перепечатан в 1978-м, когда и стал доступен для родственного чтения. Его дочь с мужем, две внучки и многочисленные правнучки читают ее уже в Израиле.
Теперь, когда об источниках я вам рассказал, давайте о том, что же в этих исторических документах зафиксировано. Цитирую.
«Семья Ласкиных жила в Орше, как говорится, испокон веков. Достоверно знаю, что мой прадед (т. е. дед моего деда, так в рукописи, читать, вероятно, следует… «отец моего деда») Мордухай Пинхос Ласкин умер в Орше в 1902 году в возрасте около 80 лет, пережив всего на один год свою жену Двойру. Он хорошо владел русским языком – по тем временам явление редкое – любил шахматы и служил бухгалтером у местного помещика Сипайло.
Его сын – мой дедушка, Моисей Мордухович Ласкин, был купцом не то гильдии второй, не то третьей. Он вел оптовую торговлю соленой рыбой, солью и керосином. Жена его – бабушка Хая из Шклова (местечко в 40 км от Орши, ниже по Днепру). Ее мать, мою прабабушку Малку Миндлин, я хорошо помню. Она умерла в 1920 или 1921 году в глубокой старости (около 90 лет) […] Ее муж, мой прадед Бер Миндлин, славился в Шклове своей честностью. Говорили, что его слово крепче векселя. Отец мой, Саул Моисеевич Ласкин, родился в Орше в 1882 году, был он вторым ребенком в семье. Первым была сестра его Сима. После отца родилось еще четверо: Самуил (это уже мой дедушка – А.С.), Фаня, Яков и Женя. Трое старших получили домашнее образование, т. е. были людьми грамотными, но не более. Младшие получили высшее образование, все трое стали врачами […]. На протяжении одной недели были сыграны две свадьбы. Сперва женился отец, а через неделю, 14 августа 1907 года (старого стиля), его младший брат Самуил. Спешка была вызвана тем, что дедушка Моисей не разрешал младшему жениться раньше старшего».
Почему Марк Савельич дату женитьбы моего деда, своего дяди, помнит лучше, чем дату женитьбы собственных родителей? Да потому что в день, когда мой дед, Самуил Моисеевич, справлял свою золотую свадьбу с бабушкой Бертой, родители Марка, к сожалению, давно померли, а он на золотой свадьбе дяди присутствовал как самый близкий родственник, вместе с младшим братом – Борей, Борисом Ласкиным, известным юмористом, автором знаменитых песен «Спят курганы темные» и «Три танкиста» и сценария фильма «Карнавальная ночь». Впрочем, меня-то как раз на той свадьбе не было: я оказался так далеко, что не приедешь – в Якутии, на полюсе холода, в экспедиции по 3-му Международному геофизическому году.
Женой деда была барышня из хорошей еврейской семьи – так было принято формулировать – девичья ее фамилия Аншина – и она, как и Маркушина бабушка Хая, была из Шклова, откуда, судя по всему, извлекали невест оршанские холостяки. У бабушки было не то семь, не то восемь сестер. Но – обратите внимание – чем лучше девочки, тем меньше шансов сохранить девичью фамилию для истории – всех выдают замуж, и все – по традиции – меняют фамилию на фамилию мужа.
Бабушка Берта, она же Берта Павловна, родит мужу трех дочерей – вот как сильны были в Аншиных женские гены – Фаину, которую в семье с детства звали Дусей (1909), Софью (1911) и Евгению (1914) – мою маму. А вот почему они на этом остановились – ведь и у того, и у другого детей в семьях было намного больше – здесь, я думаю, вмешалась история.
Дело в том, что именно в 1914 году исторически начался XX век – век войн, революций, диктатур и концлагерей, век неверный, ненадежный, сопряженный с опасностью и бедами для отдельной семьи, век – убийца и баламут. И великим еврейским предчувствием Ласкины это угадали. А порода была крепкая, надежная: бабка с дедом прожили более 85 лет каждый, у Сони и Жени жизнь оборвалась в один и тот же 1991 год, т. е. одной 80, а другой 77. И самой рекордной даты достигла старшая моя тетка – Дуся, дожила до 100 лет, получила поздравление от Путина, устала и перестала жить.
В это же примерно время, на другой стороне жизни, в Санкт-Петербурге, точнее в Петрограде (уже война, Первая мировая началась), родился Кирилл Симонов – сын полковника Генерального штаба Михаила Агафангеловича Симонова – из дворян Калужской губернии и княжны Александры Леонидовны Оболенской – младшей дочери действительного статского советника, одного из немногих родовитых дворян, сделавших карьеру на гражданской службе.
С появлением на свет матери, а потом и отца стартует моя личная история с биографией. И даже подумать страшно, что должно случиться, чтобы ни о чем еще не знающее мужское начало моего отца вошло в многообещающее столкновение с женским началом моей мамы. Но это случится почти через четверть века, не ранее 1936 года, когда в Литературный институт, открытый в Москве на Тверском бульваре двумя годами раньше, поступит на редакторский факультет моя мама, еще не зная, что со дня основания Литинститута на поэтическом факультете учится Кирилл Симонов.
Что могло помешать им встретиться? Какие препятствия по истории и географии, не говоря уже о социальном устройстве, каждому из них способствовали, а какие пришлось преодолевать?
Итак, маршрут друг к другу с препятствиями. Любопытно, что, кроме общего чудовищного переполоха 1917–1919 годов, все остальное – разное, индивидуальное и не скажешь, что простое.
В 1917 году отец отца Михаил Агафангелович Симонов получает звание генерал-майора и на значительное (до сих пор не знаем точно, сколько оно продолжалось) время теряется в войне, пропадает без вести. К тому моменту бабкиного отца – Леонида Николаевича Оболенского, действительного статского советника, представителя правительства в правлениях банков и железных дорог уже нет в живых, он скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет и не оставил значительного состояния. Четыре дочери и – опора и надежда семьи – сын Николай Леонидович Оболенский к 1917 году губернатор то в Курске, то в Ярославле, он в феврале 1917 временно арестован, а в августе 1918-го с женой и детьми чудом бежит за границу – сначала в Турцию, оттуда в Болгарию и, наконец, оседает во Франции. Отрезанный ломоть. Мать и сестры – в Питере, связи случайные, спорадические – письма через знакомых, родственников или родственников знакомых.
А в Питере уже рушат мир насилья «до основанья, а затем». И среди этой разрухи мать и четыре дочери, причем старшая – уже вдова, и у нее трое детей, а у младшей – двухлетний младенец и муж без вести пропавший.
Надо сказать, что предсказание Интернационала не сбылось. Кто был никем, тот мало кем стал, а вот в обратном порядке: кто был всем, тот стал никем – это осуществилось в полной мере. По публикациям историков-архивистов могу засвидетельствовать, что по меньшей мере трое двоюродных братьев отца – Оболенских – были растерзаны революционными толпами и еще минимум четверо двоюродных дядьев с семьями были вынуждены бежать сломя голову и эмигрировать.
Даже старинную фамильную мебель украли спекулянты, которым доверили ее продать. Есть было в буквальном смысле нечего, и подались сестры Оболенские в Рязань, следом за старшей сестрой Людмилой, надеясь там обжиться и прокормиться. Людмила Леонидовна работала в детском приемнике воспитательницей. Софья устроилась в библиотеку, младшая Александра – делопроизводителем в воинскую часть.
Стронулись с места и Ласкины, но, мягко говоря, в другую сторону. Объявленный Лениным НЭП дал возможность деду решиться и, покинув Оршу, перевезти жену и дочек в Москву, на Сретенке снять квартиру, а на Болотной, там, где сейчас памятник Чехову, открыть на паях торговлю все той же соленой рыбой, солью и керосином. Девочки поступили в школу, причем старшие – в один класс. Фотография этого класса у меня в архиве есть, а вот почему они там оказались вместе при разнице в два года – забыл спросить. Вообще это доказательство нашего нелюбопытства встретится вам в моем рассказе еще не раз. И очень обидно: спрашивайте, пока есть время, пока все или хоть кто-нибудь живы.
В ту же школу, но в младший класс пошла моя мама. А вот как они учились, опять спросить некого, но все революционные новации образования, педология, бригадный зачет и т. д. выпали на их долю, неслучайно о школе не вспоминали никогда ни мать, ни тетки.
НЭП был звездным часом дедовой торговли. Он уверенно стоял на ногах и на предложение партнеров дать деру всей семьей в Персию ответил решительным отказом. В эти же годы на деньги от торговли на Болотной дед купил строящуюся на Зубовской площади квартиру в двухэтажном «левом» флигеле, построенном на деньги и из материалов, уворованных умельцами на строительстве соседнего шестиэтажного дома. Но пока квартира строилась, НЭП стали душить и, как водится в отечестве, душить начали с нэпманов. Описанную в пятнадцатой главе «Мастера и Маргариты» сцену артистического изымания валюты под названием «Сон Никанора Ивановича» дед видел воочию. Боюсь, что в ней не было присущих Булгакову изобретательности и артистизма, но с ума он не сошел, а потому был трижды сослан из Москвы в разные дальние концы советской ойкумены, оставляя семью на положении лишенцев.
В феврале 2017 года в «Новой газете» я наткнулся на статью председателя Красноярского мемориала и там прочел: «Лишенцев и членов их семей старались не брать на работу, а работавших увольняли. Это делалось, даже если не было прямого указания. Начальники понимали, что лишенцы «токсичны», из-за них могут быть неприятности. На разного рода «чистках» была популярная формула: «Засорил аппарат лишенцами».
Лишенец мог восстановиться в избирательных правах, если доказал лояльность советской власти и занимался общественно полезным делом. Для молодого человека не было лучшего способа доказать лояльность, чем отказаться от семьи публично».
В подтверждение – вот какая бюрократическая деталь. Свою первую трудовую книжку дед получил вместе со всей страной в 1939-м. Принят на работу агентом-товароведом в 1937-м, трудовой стаж 22 года, из них четыре «подтверждено документами» – ну то есть мальчик в рыбной лавке, приказчик у отца, компаньон – совладелец – это все «со слов», а когда утвердился в качестве лишенца, т. е. с 1935 года – «подтверждено документами».
Тут уже сущность большевизма проявилась в полной мере. Под ее давлением в семьях моих родителей формируются два принципа приспособления к действительности, может быть, и не противоречащие друг другу, но, безусловно, друг от друга отличающиеся: один – характерная для дворянского миропонимания – лояльность государственной власти, вторая – чертой оседлости рожденная верность семейным ценностям, усвоенным в местечковом детстве.
В материнской семье при кардинальных изменениях жизненных обстоятельств влияние жизни страны на жизнь семьи не рассматривалось как закономерность, а лишь как очередная подлянка, кинутая жизнью, но не нуждающаяся ни в объяснении, ни в понимании. Ей надо было сопротивляться и одолеть или забыть. Все, точка. Так и с объявлением деда лишенцем. Этого слова не было в семейном словаре, хотя на судьбе трех его дочерей эта «подлянка» сказалась, да еще как.
Совсем иначе последствия октябрьского переворота сказались на семье Оболенских. Изменение жизненных соответствий и пропорций привело к тому, что традиционные ценности: монархия, православие, империя и т. д. трансформировались незначительно в народовластие, безбожие и веру в «светлое будущее», при сохранении исходной лояльности к действующей власти. Что сделало моих дворянских предков куда более восприимчивыми к доводам советской пропаганды. Нужно добавить еще и верность военную, дисциплинарно-армейскую, которую в эту семью привнес отчим отца Александр Григорьевич Иванишев.
А между тем жизнь в Рязани и особенно в Саратове, куда семья Иванишевых переехала в конце 1927 года, когда приемному сыну, Симонову Кириллу, исполнилось двенадцать, уже располагала всеми приметами советской действительности. В 1927-м присутствовал при аресте обезножившего генерала – дальнего родственника отчима, а тремя годами позже на несколько месяцев исчез из военного городка сам отчим. Его забрали в НКВД, но выпустили, подвергнув многочасовым допросам. А пока отчимом занималось НКВД, начальник училища распорядился выгнать семью задержанного из офицерского общежития. Это не в последнюю очередь послужило причиной переезда семьи в Москву в начале 1930-х.
Две сестры Оболенские, старшая Людмила и младшая Александра, обжились в Рязани. Старшая нашла работу, младшая – тревожное семейное счастье, а две средние сестры Софья и Дарья вместе с матерью вернулись в Питер. В 1934-м, уже после смерти матери, их оттуда выслали вместе с тысячами других «бывших», сделав как бы соучастниками убийства С.М. Кирова – лидера питерских большевиков. Выслали в Оренбург, где в 1937-м Софья была арестована НКВД, осуждена и расстреляна, а Дарья, принявшая тайный постриг, умерла в разгар гонений на религию.
Софья была любимой теткой отца, ей он писал подробные письма о школьных делах и успехах, к ней в Питере охотно ходил в гости. А в 1937-м, отцу уже двадцать два, но никаких оттенков в поведении не изменилось. Как верил в перековку воров на Беломоро-Балтийском канале, так и целую повесть в стихах написал. Правда, позднее решительно отказывался ее включать в сборники стихов или собрания сочинений, хотя там есть, пусть и в подражание Киплингу, совсем неплохие куски. Связано тут одно с другим? По-моему, как во всякой человеческой жизни, все со всем связано, только неочевидно, ненапрямую. Угадывать эти тайные связи и значит «писать биографию». Так что об этом как-нибудь в другой раз.
А пока – вот собственные слова отца по этому поводу, взятые из книжки «Глазами человека моего поколения»: «Когда узнал, что ее там, в ссылке, посадили, а потом от нее перестали приходить всякие известия, и через кого-то нам сообщили, что она умерла, неизвестно где и как, без подробностей, помню, что у меня было очень сильное и очень острое чувство несправедливости совершенного с нею, именно с нею, больше всего с нею. Это чувство застряло в душе и – не боюсь этого сказать – осталось навсегда в памяти, как главная несправедливость, совершенная государственной властью, советской властью по отношению лично ко мне, несправедливость, горькая из-за своей непоправимости».
К тому времени трехкомнатную квартиру, которую построил дед на Зубовской площади, уплотнили. Проще говоря, отняли две комнаты и вселили туда сотрудницу НКВД. В этой квартире, а точнее в той единственной сохранившейся от нее комнате, 1 сентября 1937 года арестовали первого гражданского мужа моей мамы Якова Евгеньевича Харона, двадцатитрехлетнего звукорежиссера киностудии на Потылихе, будущий «Мосфильм». Ему дадут 10 лет, и мы с ним познакомимся ровно десятью годами позже на том же месте – в комнате на Зубовской, когда он временно вернется из первой отсидки.
Спросите, за что? Вам версию суда или по правде? По суду – как немецкого шпиона, а по правде – за то, что учился в Берлинской консерватории и с юности свободно говорил по-немецки.
Якова с мамой познакомил его коллега по шумовой бригаде «Мосфильма» мамин двоюродный брат Боря Ласкин. И в качестве примера парадокса истории приведу еще один отрывок из рукописи его старшего брата Марка Ласкина.
«В конце лета 1936 года, часа в три ночи, покой нашего семейства был нарушен телефонным звонком мамы. Душераздирающим голосом, сквозь рыдания она сказала мне, что только что НКВД арестовал Борю.
Хочу напомнить читателю этих строк, что шел 1936 год, а не 1937, и арест был происшествием хоть и из ряда вон выходящим, но не таким кошмарно-катастрофическим, каким стал через год. Он просидел шесть недель. Его обвиняли не больше и не меньше как в организации террористического акта против Ворошилова. Арестовали его по доносу какого-то студента ВГИКА, сказавшего, что Боря указал ему на проезжавшего в машине по Ленинградскому шоссе Ворошилова…и все. Дело его рассматривало так называемое Особое совещание НКВД и признало его невиновным. Содержался он в Бутырках, в большой общей камере, повидал там многих самых разных людей, наслушался всяких рассказов и теперь много и красочно рассказывал о своих переживаниях. Немного позже мы поняли, что Боря может благодарить судьбу за то, что эпизод этот произошел не годом позже, в 1937-м».
Ну вот, я как раз об этом. По сравнению с Хароном, в общей сложности проведшем в лагере и ссылке 17 лет, шесть недель его приятеля Ласкина выглядят легким «пионерским отдыхом». Вот что значит «опередить время» и «сесть вовремя».
Ну что ж, время дало команду «сходитесь»! И мои родители двинулись навстречу друг другу по Тверскому бульвару, где расположился недавно открывшийся Литературный институт, моя крохотная, в 1,5 метра, мама и, по тем временам довольно высокий, под метр восемьдесят папа.
И пока они идут навстречу друг другу, подведем с вами некоторые итоги их жизни в период «доменный», т. е. до меня. Я назвал бы их обоих «меченные историей». Мама, лишенка, дочь нэпмана, жена арестованного (слава богу, что в документах гражданский муж не заслуживает отдельной графы). И папа, сын исчезнувшего генерала, наследник древней дворянской фамилии и пасынок ушедшего в запас комполка из полковников царской армии, человек с еще неустоявшейся биографией.
При этом они были отчаянно молоды, судя по чуть ли не единственной сохранившейся совместной фотографии, белозубы и улыбчаты, полны уверенности в правильности выбранной стези: он – поэта, она – литературного редактора и критика. Что касается семейных уз, то они завязались ненадолго: хватило, чтобы родить меня и еще около года прожить вместе. Прожив с ними, с одним – 40, с другой – 52 года, я могу сказать, что это меня ну никак не удивляет, а если еще вспомнить, что в 1939-м (я две недели как успел родиться) папаша, уезжая на свою первую войну на Халхин-Гол, попрощался с матерью строками единственного в его творческом наследии ей посвященного стихотворения «Фотография»:
«Я твоих фотографий в дорогу не брал
Все равно и без них, если вспомним – приедем…»
Тут не то кавалерийская лихость, не то подозрительная сухость, не то то и другое вместе. Впрочем, я не буду забираться здесь в сказочно интересные мне нюансы этого брака, хочу только отметить, что именно история подкидывает в нашу семейную сагу – эту первую, почти что юношескую войну, как репетицию судьбы. Ну и еще обращу ваше внимание на существенную для дальнейшего изложения деталь – на появление на свет автора всей этой, как только что было сказано, саги. Подбрасывающие наш, все еще летящий, камешек волны истории уже ощущаются мною как перипетии не только общественной, но и моей частной биографии.
И поэтому закономерен вопрос: а зачем? Зачем я ввязался в это иронически-аналитическое исследование? А я, уже ввязавшись, вдруг уяснил: хочешь понять себя, хочешь узнать, откуда ты такой взялся и почему ты в тех или иных обстоятельства вел или ведешь себя так, а не иначе, погрузиться в историю своей биографии – самое полезное дело. Поэтому, не утомляя вас преждевременными выводами, я продолжу излагать историю, но то, что и я появился, наконец, на ее страницах, я тут отметил.
Отец ушел от матери еще до большой войны. И эта та часть нашей семейной биографии, которой чужие руки и чужие нескромные взгляды не дают угомониться и стать историей. Поскольку всякая сколько-нибудь значительная биография состоит из фактов и чувств, и чувства эти, заражая наблюдателя, не дают ему успокоиться. Это тот случай, о котором Анна Андреевна Ахматова сказала: «Я научила их говорить, как мне теперь заставить их замолчать?»
Взрывные, непривычно откровенные, глубоко личные стихи отца, посвященные Серовой, породили кроме поклонников еще и целый сонм соглядатаев, которые, зараженные любовным их жаром, все еще и сегодня, толпятся вокруг уже давно опустевшей и остывшей постели этой любовной пары, ставшей образцовым романом сталинской эпохи.
Между тем девятый вал истории в виде Второй мировой войны не оказал заметного и уж тем более разрушительного влияния на ход нашей семейной биографии, разъехавшейся на две части, уже навсегда. Война, с точки зрения отдельной человеческой судьбы, – проявитель: и лучшее и худшее в судьбах она проявляет с непривычной для жизни резкостью. То же можно сказать и о характерах. Судьбы самых мне близких выпускников Литинститута: отец к концу войны стал самым популярным советским поэтом, знаменитым журналистом, орденоносцем и подполковником, и мать награждена орденом «Знак почета» и медалями «За трудовую доблесть» и «За доблестный труд». К концу 1945-го года она заведовала отделом снабжения цветными металлами и трубопрокатом Наркомтяжпрома, т. е. производством танков. Это после Литинститута?
Да-да – после редакторско-критического факультета, где не учат самореализовываться, а учат понимать других.
Десять послевоенных лет отец двигается по красной ковровой премьерной дорожке. Возглавляет журнал, Союз писателей, газету, получает Сталинские премии, сидит в президиумах и ездит по заграницам.
Мать с огромным трудом уходит из танковой промышленности (не хотели отпускать) и в 1948-м устраивается на работу в литдрамвещание Всесоюзного радио.
В 1949 году отец делает в Союзе писателей целеполагающий доклад о группе критиков-космополитов, где подвергает разгрому идеологию людей определенной национальной ориентации за отсутствие в них советского всеобщего патриотизма. В 1949-м мать увольняют из Радиокомитета за национальную схожесть с этими самыми лифшицами и рабиновичами. В том же году арестована мамина сестра Софья Самойловна Ласкина – начальник отдела снабжения металлом завода имени Сталина (ЗиС). За неправильное снабжение тетке дают 20 лет, а поскольку таких, как она, в деле этом не один десяток, по Москве начинает блуждать легенда о трехстах евреях, которые хотели взорвать ЗиС. Было ли их там 300 – моя часть истории умалчивает.
История с отцовским докладом о космополитах – чудовищный вывих судьбы, как если бы пущенный по поверхности моря гладкий камешек совершил бы на лету сальто-мортале. Вправить этот вывих отцу так и не удалось. Даже в последней, надиктованной, предсмертной, автобиографической книге «Глазами человека моего поколения» он не сумел, не успел или так и не смог разъяснить природу этого подрыва собственной биографии, хотя диктовал книжку в стол, без мысли о немедленной ее публикации. В этом он похож на любимого своего поэта из послевоенного поколения Бориса Слуцкого, который в 1959 году выступил на собрании в Доме литераторов с осуждением Пастернака, а потом более 20 лет пытался самому себе стихами и прозой объяснить, зачем он это сделал. Может быть, в основе отцовой любви к Слуцкому есть и мотив общего для обоих безоговорочного выполнения приказа партии, членами которой они оба были до самой смерти.
В это десятилетие – с середины 1940-х по середину 1950-х у меня была одна мама и, как потом выяснилось, два папы. В воспоминаниях людей, работавших в эти годы с отцом в Союзе писателей, в редакциях «Нового мира» и «Литературной газеты», отец – образец начальника, умен, добр, снисходителен, щедр и великодушен. А во всех документах эпохи – докладах, выступлениях, репликах и записках вполне законченный чинуша: жесток, мыслит популярными трафаретами, прямолинеен и подчеркнуто, партийно выдержан. Кстати, и писательство становится для него чем-то вроде общественной нагрузки – все написанное с 1946 по 1955 годы практически не представлено в последнем десятитомном собрании сочинений.
Мать оставалась безработной, т. е. обратно в танковую промышленность ее – не знаю – то ли не брали, то ли она сама не хотела, а в гуманитарное учреждение – от детского сада до всесоюзного издательства – ее уж точно не брали. Перебивалась она разовыми заработками, то кому-то перевод редактировала, то в ведомственный журнал статью писала с человеческим уклоном. Проблема еще была в том, что писать мать терпеть не могла, что для выпускницы Литинститута, прямо скажем, сомнительная характеристика. Жили мы на деньги, которые давал отец.
И только в 1956 году, когда распахнулся, раздвинулся занавес оттепели, в Москве был создан московский толстый литературный журнал, который так и назвали: «Москва». Придуман был особый дизайн: блекло-сиреневый цвет с темной надписью, отличался он от бледно-голубого с синим «Нового мира» или зеленого с красными буквами «Знамени». Мать взяли в журнал заведовать поэзией, и до 1963-го, не то 1964 года никто не знал, что взяли ее по блату, да к тому же блат этот носил застенчиво антисемитский характер. Штат набирал главный редактор журнала Николай Атаров, приличный дядька, средней руки советский писатель.
В члены редколлегии он пригласил Владимира Луговского, тот согласился. Но при условии, что заведовать отделом поэзии, за которую он, как член редколлегии, должен был отвечать, возьмут Женю Ласкину. И ее взяли. Но сперва ее вызвал Атаров и, льщу себя надеждой, краснея, сказал ей: «Евгения Самойловна», я даже допускаю, что он сказал: «Понимаете, Женя, отделом поэзии вы руководить будете, а вот в штатном расписании станете числиться сотрудником отдела прозы, иначе в составе редакции обнаружится на слишком многих ответственных должностях слишком много евреев. Но вы ни под каким видом не должны сообщать об этом Луговскому». Так все и было. Отдел она возглавляла и после смерти Луговского, а когда Атарова «ушли» и редактором журнала стал Поповкин, он для начала всех расставил по рабочим местам, согласно штатному расписанию. Так последствия космополитического шторма сделали мать причастной к публикации в «Москве» самой знаменитой прозы – романа «Мастер и Маргарита». Но это – в 1966-м.
А в 1969-м уже новый редактор Михаил Алексеев, один из лидеров руссконародного почвенничества, выгнал ее из журнала, не дал доработать полгода до пенсии. Выгнал с формулировкой «За допущенные грубые идейные ошибки и политическую неразборчивость…». Это за публикации «политически двусмысленных стихов» Евгения Евтушенко, Льва Озерова, Маргариты Алигер, а главное – названное в приказе, но напечатанное в журнале стихотворение Семена Израилевича Липкина «Союз И», о союзе «И», соединяющем слова и о народе «И», соединяющем народы. Такую идеологическую диверсию даже в приказе не выделили – сробели. А ведь это были самые счастливые мамины годы – на своем месте, всем нужна, поэты вокруг бродят неприкаянные, свободные по-советски, и хорошие стихи иногда удается публиковать.
Камушек нашей семейной истории, попрыгав на отцовских и материнских волнах, добирается, наконец, и до моего мелководья. Я называю это мелководьем не в порядке самоуничижения, а, сравнивая грозовую наполненность волн, где неверный поступок, выбор и даже слово влекли за собой драматические, вплоть до трагических, последствия. Мне досталась куда менее грозная среда, но все-таки…
С четвертого курса начиная, я никак не мог поехать на зарубежную практику, поскольку что-то основательно и постоянно мешало парткому МГУ дать мне выездную характеристику. Это сейчас даже невозможно представить, что такая характеристика была непременным условием для получения загранпаспорта и пересечения государственной границы. Вообразить такое сейчас сложно, когда видишь по родному ТВ, как в разных местах Москвы берут интервью у 16–17-летних барышень и амбалов, и те не знают «девичью» фамилию Ленина и принимают как должное что псевдоним «Сталин» взял себе чудак по фамилии Шеварднадзе. Подозреваю, что и за словом «партком» они нырнули бы в словари.
Нет, я точно знал, что такое партком, и поехал дуриком, устроившись переводчиком при группе полусекретных специалистов по образцам нашего оружия, которое мы в большом количестве поставляли в дружественную Индонезию. Как оно ведет себя в тропических условиях, интересовало выпускавшие это оружие ведомства.
Там мне и характеристику дали, и паспорт оформили, да еще в течение трех месяцев зарплату инженера-переводчика платили, два раза в месяц под охраной тетки с пистолетом на боку, провожавшей меня к кассе в невзрачном здании в районе Петровки. И какое это было счастье – взглянуть в лица моих доброжелателей, когда я доложил в институте, что такого-то июня уезжаю на годичную языковую практику в «морями теплыми омытую», а все остальные детали я не вправе разглашать.
Это был 1963 год. Весь следующий год я работал переводчиком в Индонезии и, если кому охота, в главе «Прощай, Индонезия» есть все подробности этого, достаточно необычного периода моей жизни. В июне 1964-го я вернулся. Вернулся, провозя через границы пачку нецензурованных писем, с потной от страха спиной, на которой, как потом выяснилось, отпечатался, как переводная картинка, только задом наперед, адрес с верхнего конверта.
А потом меня 18 лет из страны не выпускали. Спросите, почему? Я спрашивал, но ни разу, ни один человек не признался, что имел к этому хоть какое-то отношение. Даже в разгар перестройки, когда это было можно, мне до истины докопаться не удалось. Так я и не знаю, чем я им так не понравился, кроме знания индонезийского языка.
Из этой патовой ситуации, когда непонятно, что происходит, а спросить не у кого, меня выручила отцовская фамилия. По решению ЦК КПСС очередному морскому теплоходу было присвоено имя «Константин Симонов». Строили его в Польше, принял его дальневосточный экипаж, и в первый его рейс Калининград – Куба – Одесса я был приглашен гостем. В судовую роль гостей не записывают, и там я числился третьим механиком. А поскольку Морфлот – совсем особое ведомство, меня, видимо, оформляли не там, где раньше, или уже срок прошел, не знаю. Но я поехал и чуть не месяц болтался в морях-океанах, посылая любимой девушке телеграммы типа: «Кругом чайки и ни одной Галки». Она примерно с тех пор и вышла за меня замуж и до сих пор меня терпит.
А с 1983-го жизнь переменилась, тем более, что уйдя в кино, участь свою я поменял и как раз к 1985-му снял самую успешную свою картину «Отряд», признанную победительницей Всесоюзного фестиваля кино, как раз 1985 года. Это тоже произошло в результате исторического катаклизма. Победить на этом фестивале в Минске должна была картина по роману Чаковского «Победа», специально снятая к 40-летию Победы, которому и был посвящен фестиваль. Но прошел слух, что потенциального победителя показали в ЦК, новому генсеку Горбачеву, и фильм ему не понравился. Жюри обрадовалось – и стало судить по-честному, как сказал мне потом его председатель.
Интересно, что ко всем дальнейшим переменам в моей личной участи бури государственного океана не имели ни малейшего касательства. За исключением одной истории, которую я и расскажу последней, мелькнувшей над поверхностью океана и канувшей, не оставив следа.
Раннеельцинское время, где-то между 1991 и 1993 годами. Кадрами в правительстве занимается Бурбулис. Возник затор с кандидатурой министра культуры. Как я его постфактум назвал: проблема на букву «С». Итак: с министерского поста уходит Юрий Мефодьевич Соломин, нужно подобрать кандидатуру на ту же букву. Зачем? Это, извините, не по мне. Начинают трясти мешок с кадрами. Выпадают: Смирнов Андрей – кинорежиссер, Старовойтова Галина – политик, Станкевич Сергей – политик и Симонов Алексей – кинорежиссер. Всех по очереди вызывают на собеседование в ведомство Бурбулиса, где его проводит некто Жихарев. Кто такой – не знаю. К собеседованию, не знаю, как других, но меня готовят. Две дамы, работавшие экспертами-консультантами с предыдущим министром, носят мне разные разъясняющие материалы, причем изустно повторяют их содержание по нескольку раз. В какой-то момент я понимаю, что они, по предыдущему своему опыту с уходящим министром – актером, репетируют.
– Девушки, – говорю, – со мной репетировать не надо, у меня другая профессия. – Не поссорились.
Среди принесенных ими материалов нахожу несколько интересных рассуждений и, когда слух о том, что мы являемся кандидатами в министры, выходит в публичное пространство, ко мне обращаются за интервью, соглашаюсь. Предупредив, что не сам я это придумал, а нашел в сопроводительных материалах, изрекаю кредо: «Государство не имеет на культуру никаких прав. Государство имеет перед культурой только обязанности». Была тогда газета, которую редактировал старший Кучер. Не помню, как она называлась. Там и напечатали мое интервью с этим кредо. И министром сделали Евгения Сидорова – литературного критика и ректора Литературного института. Если помните, именно там, в этом институте когда-то встретились впервые мои мама и папа, и там же закончилась проблема на букву «С» – фамилий, начинающихся на иные буквы алфавита, в этой истории не зафиксировано.
2008