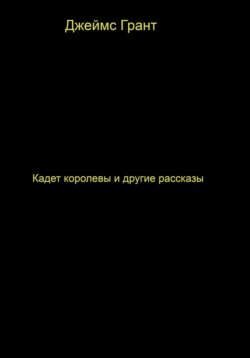Читать книгу Кадет королевы и другие рассказы - - Страница 2
Призрачная рука
ОглавлениеВозвращаются ли мертвые когда-нибудь на эту землю?
По этому поводу даже уважаемый и несентиментальный доктор Джонсон придерживался мнения, что утверждать, что они этого не делают, значило бы противоречить одновременным и неизменным свидетельствам всех эпох и народов, поскольку не было народа столь варварского и столь цивилизованного, среди которого не было бы людей, о которых рассказывали бы и которые не верили бы в явления мертвых.
– То, в чем сомневаются отдельные придирчивые люди, – добавляет он, – может очень мало ослабить общие доказательства, и некоторые, кто отрицает это своими языками, признаются в этом из-за своих страхов.
В августе прошлого года, во время турне по северу, я оказался с тремя друзьями в отеле «Скандинавия» в длинном и красивом Карле Йохане Гейде в Христиании. Одного дня или чуть больше нам хватило, чтобы «объехать» всех львов маленькой норвежской столицы – королевский дворец, величественное белое здание, охраняемое сутулыми норвежскими стрелками в длинных плащах, с широкими полями и зелеными плюмажами; огромное кирпичное здание, где был штурм, и где красный лев изображен на всем, от королевского трона до ведерка для угля у привратника; замок Аггерхейс и его небольшая оружейная, с единственной кольчугой и длинными мушкетами шотландцев, павших при Ромсдале. Кроме этого больше нечего смотреть; и когда маленькие сады Тиволи закрываются в десять, вся Христиания засыпает до рассвета следующего утра.
Поскольку английские экипажи в Норвегии были совершенно бесполезны, мы заказали для отъезда четыре местных кареты, так как намеревались отправиться в дикую горную местность под названием Доврефельд, когда задержка с прибытием некоторых писем вынудила меня задержаться на два дня дольше моих спутников, которые обещали ждать меня в Роднес, недалеко от начала великолепного Рансфьорда; и эта частичная разлука с последующим обстоятельством необходимости путешествовать в одиночку по совершенно незнакомым мне районам, имея лишь очень слабое знание языка, стали поводом для истории, которую я собираюсь рассказать.
В фешенебельных отелях Христиании фуршет заканчивается к двум часам дня, поэтому около четырех пополудни я покинул город, улицы и архитектура которого напоминают участки Тоттенхэм-Корт-роуд с редкими фрагментами старого Честера. В моей карриоле, комфортабельной двуколке, находились мой чемодан и футляр для оружия; все это вместе со всей моей персоной, да и сам кузов экипажа, было накрыто одним из тех огромных брезентовых плащей, которые компания carriole поставила на прилавок магазина.
Хотя дождь начал лить с необычной для скандинавов силой и густотой, когда я оставил позади город, покрытый красной черепицей, со всеми его шпилями из зеленой меди, я не мог не быть поражен смелой красотой пейзажа, когда сильная маленькая лошадка быстрым шагом несла легкую повозку по дороге. Неровная горная дорога, окаймленная естественными лесами из темных и торжественных на вид сосен, перемежающихся изящными серебристыми березами, зелень листвы которых сильно контрастировала с синевой узких фиордов, открывавшихся со всех сторон, и с цветами, в которые были выкрашены похожие на игрушки деревенские домики: их деревянные стены всегда были снежно-белыми, а черепичные крыши – огненно-красными. Даже некоторые деревенские шпили носили тот же кровавый оттенок, представляя, таким образом, особую особенность пейзажа.
Дождь усилился до неприятной степени; день, казалось, сменился вечером, а вечер – ночью раньше, чем обычно, в то время как густые массы тумана скатывались с крутых склонов лесистых холмов, над которыми повсюду и во всех открывающихся перспективах, подобно морю шишек, раскинулись мрачные ели. И по мере того, как домов становилось все меньше и они удалялись друг от друга, и ни одного странника не было видно на горизонте, а ориентироваться мне помогала только карманная карта моего «Джона Мюррея», я вскоре убедился, что вместо того, чтобы следовать маршрутом в Роднес, я нахожусь где-то на берегах Тири-фиорда, по меньшей мере три норвежские мили (то есть двадцать одна английская) в противоположном направлении, моя маленькая лошадка измучена, дождь все еще льет непрерывным потоком, ночь уже близка, а вокруг меня повсюду потрясающие горные пейзажи. Я находился в почти круглой долине (окруженной цепью холмов), которая открылась передо мной после выхода из глубокой пропасти, в которую входит дорога, недалеко от места, которое, как я впоследствии узнал, носит название Крогклевен.
Из-за крутизны дороги и некоторого износа упряжи моей наемной повозки колеса разболтались, и я оказался с бесполезной теперь лошадью и повозкой вдали от любого дома, усадьбы или деревни, где я мог бы починить повреждения или найти укрытие. Дождь все еще продолжался, льющий, как водный поток. Густой, косматый и непроходимый лес из норвежской сосны возвышался вокруг меня, тени деревьев казались еще темнее из-за необычного мрака ночи.
Оставаться тихо в повозке было неподходящим решением для такого нетерпеливого темперамента, как мой; я отвел двуколку в сторону от дороги, накрыл брезентом свой небольшой багаж и оружейный ящик, привязал к пони и отправился пешком, окоченевший, измученный и усталый, на поиски помощи. И, хотя я был вооружен только норвежским складным ножом, я не боялся воров или нападения.
Идя пешком по дороге под проливным дождем, в шотландском пледе и клеенке, которые теперь были моей единственной защитой, я вскоре заметил боковую калитку и маленькую аллею, указывавшие на близость жилища. Пройдя около трехсот ярдов, лес стал более открытым, передо мной появился свет, и я обнаружил, что он исходит из окна на первом этаже небольшого двухэтажного особняка, полностью построенного из дерева. Створка, разделенная посередине, была не заперта на засов и стояла частично и самым заманчивым образом открытой; зная, насколько гостеприимны норвежцы, я, не утруждая себя поисками входной двери, перешагнул через низкий подоконник в комнату (в которой не было жильцов) и огляделся в поисках звонка, забыв, что в этой стране, где нет каминных полок, его обычно можно найти за дверью.
Пол, разумеется, был голый и выкрашен коричневой краской; высокая немецкая печь, похожая на черный железный столб, стояла в углу на каменном блоке; дверь, которая, очевидно, вела в какую-то другую комнату, открывалась посередине с помощью одной из причудливых ручек, характерных для деревни. Вся мебель была из простой норвежской сосны, покрытой густым лаком; оленья шкура, расстеленная на полу, и еще одна на мягком кресле были единственной роскошью; а на столе лежали «Иллюстрет Тиденде», «Афтонблат» и другие утренние газеты, а также пенковая трубка и кисет с табаком – все это свидетельствовало о том, что кто-то недавно выходил из комнаты.
Я только успел окинуть все эти детали беглым взглядом, когда вошел высокий худощавый мужчина джентльменской наружности, одетый в грубый твидовый костюм и алую рубашку с расстегнутым воротом – простой, но элегантный костюм, который он, казалось, носил с естественной грацией, потому что не каждый мужчина может так одеваться и при этом сохранять видимость отличия. Сделав паузу, он посмотрел на меня с некоторым удивлением и вопросительностью, когда я начал свои извинения и объяснения по-немецки.
– Талер Данско-норвежский, – коротко ответил он.
– Я не могу бегло говорить, но…
– Тем не менее, добро пожаловать, и я помогу вам в продолжении вашего путешествия. А пока вот коньяк. Я старый солдат и знаю, что такое полноценная столовая, а также индийский табак на мокром бивуаке. К вашим услугам трубка.
Я поблагодарил его и (пока он отдавал распоряжения своим слугам отправиться за повозкой и лошадью) стал наблюдать за ним повнимательнее, потому что что-то в его голосе и взгляде глубоко заинтересовало меня.
В его чертах, которые были красивыми и с очень легкой орлиной горбинкой, было много меланхолии от разбитого сердца – чего-то, что указывало на скрытую печаль. Лицо у него было бледное и изможденное; волосы и усы, хотя и пышные, были совершенно белыми, но на вид ему было не больше сорока лет. Глаза у него были голубые, но без мягкости, со странно проницательным и печальным выражением, и временами в них внезапно появлялся испуганный взгляд, отдающий испугом, или болью, или безумием, или всем вместе взятым. Это неприятное выражение в значительной степени нивелировало симметрию лица, которое в остальном, очевидно, было прекрасным. Внезапно, когда я сбросил несколько своих промокших шарфов, по нему, казалось, разлился свет, и он воскликнул:
– Вы говорите по-датски и по-английски тоже, я знаю! Вы совсем забыли меня, герр капитан? – добавил он, с доброжелательной энергией сжимая мою руку. – Разве вы не помните Карла Хольберга из датской гвардии?
Голос был тот же, что и у некогда счастливого, жизнерадостного молодого датского офицера, чей веселый нрав и буйство духа делали его похожим на сумасброда, который имел обыкновение угощать шампанским придворных дам и балерин Хоф-Гарден, которому отдали свое сердце многие красивые датские девушки и который, как говорили, однажды имел наглость начать флирт с одной из королевских принцесс, когда нес караул во дворце Амалиенборг. Но как мне было примириться с этой переменой, с появлением многих лет преждевременного старения, которые произошли с ним?
– Я прекрасно помню вас, Карл, – сказал я, когда мы пожимали друг другу руки, но мы так давно не виделись; более того, извините меня, но я не знал, находитесь ли вы в стране живых.
Странное выражение, которому я не могу дать определения, появилось на его лице, когда он сказал тихим, печальным тоном:
– Бывают времена, когда я не знаю, принадлежу ли я к живым или к мертвым. Прошло двадцать лет с тех пор, как мы были счастливы, двадцать лет с тех пор, как я был ранен в битве при Идштедте, а кажется, что прошло двадцать веков.
– Старый друг, я действительно рад снова встретиться с вами.
– Да, стариком вы можете называть меня по правде, – сказал он с грустной усталой улыбкой, дрожащей рукой проводя по своим побелевшим локонам, которые, как я помнил, были насыщенного каштанового цвета.
Теперь всякой сдержанности пришел конец, и мы быстро вспомнили десятки и больше прошлых сцен веселья и удовольствий, которыми наслаждались вместе до Голштинской кампании, в Копенгагене, этом самом восхитительном и веселом из всех северных городов; и, под влиянием воспоминаний, его теперь увядшее лицо казалось просветлело, и часть его прежнего выражения вернулась обратно.
– Это ваше место для рыбалки или охоты, Карл? – спросил я.
– Ни то, ни другое. Это мое постоянное пристанище.
– В этом месте, таком сельском, таком уединенном? Ах! Вы стали Бенедиктинцем, влюбились в деревне и так далее, но я не вижу никаких признаков…
– Тише! Ради бога! Вы не знаете, кто нас слышит, – воскликнул он, и ужас отразился на его лице; и он убрал руку со стола, на котором она лежала, с необъяснимой нервной внезапностью, как будто к ней прикоснулись горячим железом.
– Что такое? Мы не можем говорить о таких вещах? – спросил я.
– Вряд ли здесь или где-либо еще для меня, – бессвязно сказал он. – Затем, подкрепив себя бокалом крепкого коньяка и пенящейся сельтерской, он добавил, – вы знаете, что моя помолвка с моей кузиной Марией Луизой Виборг была расторгнута – какой бы красивой она ни была, возможно, она остается и сейчас, ибо даже двадцать лет не смогли уничтожить прелесть ее черт лица и яркость выражения, но вы не знаете почему.
– Я думал, вы плохо обошлись с ней, а на самом деле вы сошли с ума.
По его лицу пробежала судорога. Он снова отдернул руку, как будто его ужалила оса или что-то невидимое коснулось ее. Он сказал:
– Она была очень гордой, властной и ревнивой.
– Ее, конечно, возмутило, что вы открыто носите кольцо с опалом, которое принцесса бросила вам из окна дворца…
– Кольцо… кольцо! О, не говорите об этом! – сказал он глухим голосом. – Сумасшедший? Да, я был сумасшедшим – и все же я не сумасшедший, хотя я пережил и даже сейчас переживаю то, что разбило бы сердце Хольгера Данске! Но вы услышите, если я смогу рассказать это связно и без прерываний, причину, по которой я бежал от общества и мира, и на все эти двадцать несчастных лет похоронил себя в этом горном уединении, где лес нависает над фиордом, и где ни одно женское лицо никогда не улыбнется мне!
Короче говоря, после некоторого размышления и множества невольных вздохов – и по настоянию, когда решимость раскрыть себя поколебалась, – Карл Хольберг рассказал мне небольшую историю, настолько необычную и дикую, что, если бы не печальная серьезность или напряженная торжественность его манер и атмосфера совершенной убежденности, которую несли его манеры, я должен был бы посчитать его совершенно… сумасшедшим!
– Мария Луиза и я должны были пожениться, как вы помните, чтобы излечить меня от всех моих шалостей и дорогих привычек – сам день был назначен; вы должны были быть шафером и выбрать набор драгоценностей для невесты в Конгенс-Найторре, но война, разразившаяся в Шлезвиг-Гольштейн вывела мой гвардейский батальон на поле боя, куда я отправился без особого сожаления, поскольку это касалось моей невесты; ибо, по правде говоря, мы оба были несколько утомлены нашей помолвкой и не подходили друг другу: так что не обошлось без обид, холодности и даже ссор, пока соблюдение приличий не наскучило нам.
Я был с генералом Крогом, когда произошла решающая битва при Идштедте между нашими войсками и германизирующимися голштинцами под командованием генерала Виллизена. Мой гвардейский батальон был отделен от правого фланга с приказом наступать из Зальбро в тыл голштинцам, в то время как центр должен был быть атакован, пронзен, а батареи за ним взяты на острие штыка, и все это было блестяще выполнено. Но перед этим меня послали с приказом развернуть мою роту в боевом порядке в заросли, которые покрывали холм, увенчанный разрушенным зданием, частью старого монастыря с уединенным могильником.
Незадолго до того, как мы открыли огонь, мимо нас, по-видимому, проходили похороны знатной дамы, и я отвел своих людей в сторону, чтобы освободить место для открытого катафалка, на котором лежал гроб, покрытый белыми цветами и серебряными коронами, а за ним стояли ее служанки, одетые в черные плащи как обычно, они несли венки из белых цветов и бессмертников, чтобы возложить их на могилу. Желая, чтобы эти скорбящие двигались как можно быстрее, чтобы они не попали под пушечный и мушкетный огонь, моя рота открыла огонь с расстояния шестисот ярдов по голштинцам, которые наступали с большим воодушевлением. Мы вели с ними перестрелку больше часа, в долгих ясных сумерках июльского вечера, и постепенно, но со значительными потерями, гнали их через чащу и через холм, на котором стоят развалины, когда пуля просвистела через отверстие в полуразрушенной стене и попала в цель, мне в затылок, чуть ниже моей шапки из медвежьей шкуры. Казалось, вокруг меня вспыхнули тысячи звезд, затем наступила темнота. Я пошатнулся и упал, полагая, что смертельно ранен; благочестивый призыв задрожал на моих губах, рев красной и далекой битвы стих, и я стал совершенно бесчувственным.
Как долго я лежал так, я не знаю, но когда я представил, что возвращаюсь к жизни и к миру, я оказался в красивой, но довольно старомодной квартире, одна часть которой была завешена гобеленами, а другая – богатыми драпировками. Приглушенный свет, который исходил, я не мог определить откуда, заполнил его. На буфете лежали мой меч и шапка датской гвардии из бурой медвежьей шкуры. Очевидно, меня унесли с поля боя, но когда и куда? Я растянулся на мягком кресле или кушетке, и мое форменное пальто было распахнуто. Кто-то любезно поддерживал мою голову – женщина, одетая в белое, как невеста; молодая и такая прелестная, что пытаться как-либо описать ее кажется тщетным!
Она была похожа на причудливые портреты красивых девушек, которые иногда можно увидеть, потому что она была божественна, совершенна, как мечта какого-нибудь энтузиаста или самое счастливое представление художника. Долгий вздох, вызванный восхищением, восторгом и болью от моей раны, вырвался у меня. Она была такой изысканно белокурой, нежной и бледной, среднего роста и хрупкой, но очаровательно округлой, с совершенными руками и чудесными золотистыми волосами, которые волнистой массой ниспадали на лоб и плечи и из-под которых выглядывало ее пикантное личико, как из шелкового гнездышка. Я никогда не забуду это лицо, и мне не позволят этого сделать, по крайней мере, пока длится жизнь, – добавил он со странным искажением черт, выражавшим скорее ужас, чем пыл. – Оно всегда перед моими глазами, во сне или наяву, запечатлено в моем сердце и в моем мозгу! Я попытался встать, но она успокоила или остановила меня ласковым жестом, как мать своего ребенка, в то время как ее яркие сияющие глаза мягко улыбались мне, возможно, больше с нежностью, чем любовью; в то время как во всем ее облике было много достоинства и уверенности в себе.
– Где я? – был мой первый вопрос.
– Со мной, – наивно ответила она, – разве этого недостаточно?
Я поцеловал ей руку и сказал:
– Пуля, я помню, сразила меня в месте захоронения на дороге в Салбро – странно!
– Почему странно?
– Я люблю бродить среди могил, когда бываю в задумчивом настроении.
– Среди могил, почему? – спросила она.
– Они выглядят такими мирными и тихими.
– Смеялась ли она над моей непривычной серьезностью, но такой странный огонек, казалось, заиграл в ее глазах, на зубах и на всем ее прекрасном лице? Я снова поцеловал ее руки, и она оставила их в моих. Обожание начало наполнять мое сердце и глаза и едва слышно слетать с моих губ; ибо необычайная красота девушки сбивала меня с толку и опьяняла; и, возможно, меня ободрил прошлый успех не в одном любовном романе. Она попыталась отдернуть руку, сказав:
– Не смотрите так; я знаю, как легкомысленно вы относитесь к любви другого человека.
– Вы о моей кузине Марии Луизе? О! Что из этого? Я никогда, никогда не любил до сих пор! – и, сняв с ее пальца кольцо, я надел на него свой прекрасный опал.
– И ты любишь меня? – прошептала она.
– Да, тысячу раз, да!
– Но ты солдат, к тому же раненый. Ах, если бы ты умер до того, как мы встретимся снова!
– Или, если ты умрешь раньше? – сказал я, смеясь.
– Умру? Я уже мертва для мира, но, живые или мертвые, наши души едины, и…
– Ни небеса, ни подземные силы теперь не разлучат нас! – воскликнул я, когда к искренности внезапной страсти, которую она внушила мне, начало примешиваться что-то мелодраматическое. Она была такой импульсивной, такой яркой и пылкой по сравнению с холодной, гордой и спокойной Марией Луизой. Я смело заключил ее в объятия; тогда ее великолепные глаза, казалось, наполнились тонким светом любви, в то время как в ее прикосновении и, более всего, в ее поцелуе был странный магнетический трепет.
– Карл, Карл! – вздохнула она.
– Что?! Ты знаешь мое имя? А твое?
– Тира. Но больше не спрашивай.
– Есть всего три слова, чтобы выразить охватившие меня эмоции: замешательство, опьянение, безумие. Я осыпал поцелуями ее прекрасные глаза, ее мягкие локоны, ее губы, которые наполовину встретились с моими, но избыток радости вместе с болью от моей раны начали одолевать меня; сон, растущее и дремотное оцепенение, с которым я тщетно боролся, овладело мной.. Я помню, как сжал ее маленькую крепкую ручку в своей, словно желая спасти себя от погружения в забытье, а потом – больше ничего, больше ничего!
Когда я снова пришел в сознание, я был один. Солнце вставало, но еще не взошло. Пейзаж, заросли, через которые мы продирались, казались темными, как глубочайший цвет индиго, на фоне янтарного неба на востоке; и последний свет убывающей луны все еще серебрил лужи и болота по краям озера Лангсе, где были восемь тысяч человек, павших во вчерашнем сражении, они лежали неподвижные. Мокрый от росы и крови, я приподнялся на локте и огляделся вокруг с таким изумлением, что у меня защемило сердце. Я снова был на кладбище, где меня сразила пуля; маленькая серая сова ухала и моргала в углублении осыпающейся стены. Была ли драпировка в комнате всего лишь плющом, который шелестел по ней? Там, где стоял освещенный буфет, была старая квадратная могила, где лежали мой меч и шапка из медвежьей шкуры!
Последние лучи убывающей луны пробирались сквозь руины на свежевырытую могилу – воображаемый диван, на котором я лежал, – усыпанную вчерашними цветами, а в изголовье ее стоял временный крест, увешанный белыми гирляндами и венками из бессмертников. Каким образом на моем пальце оказалось еще одно кольцо, но где же она, дарительница? О, что за опиумный сон или что за безумие это было?
Какое-то время я оставался совершенно сбитым с толку яркостью моего недавнего сна, ибо таковым я его считал. Но если это сон, то откуда у меня на пальце это странное кольцо с квадратным изумрудным камнем? А где было мое? Озадаченный этими мыслями, преисполненный удивления и сожаления о том, что красота, которую я видел, не имела реальности, я пробирался по призрачным обломкам поля битвы, ослабевший, охваченный лихорадкой и жаждой, пока в конце длинной липовой аллеи не нашел приют в величественном кирпичном особняке, который, как я узнал, принадлежал графу Идштедтскому, дворянину, в гостеприимство которого, поскольку он благоволил к голштинцам, я намеревался вторгаться как можно реже.
Однако он принял меня вежливо и доброжелательно. Я застал его в глубоком трауре, и, случайно узнав, что я был тем офицером, который остановил шеренгу стрелков, когда накануне проезжал похоронный кортеж, он искренне поблагодарил меня, добавив с глубоким вздохом, что это были похороны его единственной дочери.
– Кажется, половина моей жизни ушла с ней – моей потерянной дорогой! Она была такой милой, герр капитан, такой нежной и такой необыкновенно красивой, моя бедная Тира!
– Как вы сказали? – воскликнул я голосом, который звучал странно и неестественно, приподнимаясь с дивана, на который я бросился, чувствуя боль в сердце и слабость от потери крови.
– Тира, моя дочь, герр капитан, – ответил граф, слишком печальный, чтобы заметить мое волнение, потому что это было причудливое древнедатское имя, произнесенное в моем сне. – Смотрите, какого ребенка я потерял! – добавил он, отдергивая занавеску, закрывавшую портрет в полный рост, и, к моему растущему ужасу и изумлению, я увидел одетую в белое, точно такую, какой я видел ее в своем видении, белокурую девушку с массой волос. Золотистые волосы, прекрасные глаза и пикантная улыбка освещали ее черты даже на холсте, и я прирос к месту.
– Это кольцо, господин граф? – ахнул я.
– Он выпустил занавеску из рук, и теперь им овладело ужасное волнение, когда он чуть не сорвал драгоценный камень с моего пальца.
– Кольцо моей дочери! – воскликнул он. – Оно было похоронено вместе с ней вчера, ее могила была осквернена, осквернена вашими печально известными войсками.
Пока он говорил, мое зрение, казалось, затуманилось; головокружение заставило мои чувства пошатнуться, затем рука, нежная маленькая ручка прошлой ночью, с моим кольцом с опалом на безымянном пальце незаметно коснулась моей руки! Более того, поцелуй с дрожащих губ, которых я не мог видеть, был прижат к моим, когда я откинулся назад и потерял сознание! Остальная часть моей истории должна быть рассказана вкратце.
Моя служба в армии закончилась; моя нервная система была слишком сильно расшатана для дальнейшей военной службы. Возвращаясь домой, чтобы соединиться с Марией Луизой и обвенчаться с ней – союз с которой теперь был мне крайне противен, – я глубоко задумался о странном нарушении законов природы, вызванном моим приключением; или, возможно, о безумии, которое на меня нашло.
В тот день, когда я представился своей нареченной невесте и подошел, чтобы поприветствовать ее, я почувствовал, как чья-то рука, та же самая рука, мягко легла на мою. Вздрогнув и дрожа, я огляделся вокруг, но ничего не увидел. Пожатие было крепким. Я провел по нему другой рукой и почувствовал тонкие пальцы и изящное запястье, но я по-прежнему ничего не видел, а Мария Луиза наблюдала за моими движениями, моей бледностью, сомнениями и ужасом со спокойным, но холодным негодованием.
Я собирался заговорить, объяснить, сказать, сам не знаю что, когда поцелуй с губ, которых я не мог видеть, запечатал мои, и с криком, похожим на вопль, я вырвался от своих друзей и убежал.
Все считали меня сумасшедшим и с сочувствием говорили о моей раненой голове; и когда я выходил на улицу, люди смотрели на меня с любопытством, как на человека, над которым нависла какая-то злая судьба, как на человека, с которым случилось что-то ужасное, и мрачные мысли отбрасывали меня в тень. Мой рассказ может показаться невероятным, но этот сопровождающий, невидимый, но ощутимый, всегда рядом со мной, и если под влиянием какого-либо порыва, такого даже, как внезапное удовольствие от встречи с вами, я на мгновение забываю об этом, мягкое и нежное прикосновение женской руки напоминает мне о прошлом и преследует меня, как демон-хранитель – если можно так выразиться – правит моей судьбой.
Сейчас в жизни для меня нет удовольствий, а только ужасы. Печаль, сомнение, и вечный ужас подорвали корни существования; ибо дикий и неистовый страх перед тем, что может произойти в следующий момент, всегда живет в моем сердце, и когда приходит это прикосновение, моя душа, кажется, умирает внутри меня.
Вы знаете, что преследует меня сейчас – Боже, помоги мне! Боже, помоги мне! Вы бы сказали, что всего этого не понимаете. Еще меньше понимаю я, но во всех праздных или экстравагантных историях о привидениях, которые я читал, историях, которые когда-то были моей забавой и предметом насмешек из-за вульгарных суеверий или невежества, – так называемый сверхъестественный посетитель был виден глазу или слышен ухом, но призрак, дьявол, невидимая вещь, которая всегда находится рядом с Карлом Хольбергом, ощутима только на ощупь – это невидимая, но осязаемая субстанция призрака!
Он зашел так далеко, когда у него перехватило дыхание, он побагровел и, проведя дрожащими пальцами правой рукой по левой, примерно на дюйм выше нее, сказал:
– Это здесь, сейчас здесь, даже в вашем присутствии я чувствую ее руку на своей; пожатие крепкое и нежное, и она никогда не покинет меня, только вместе с жизнью!
И тогда этот когда-то веселый, сильный и отважный парень, ныне сломленный телом и духом, упал вперед, уткнув голову в колени, рыдая и теряя сознание.
Четыре месяца спустя, когда мы с друзьями охотились на медведей на Хаммерфесте, я прочитал в норвежской газете Афтенпостен, что Карл Хольберг застрелился в постели в канун Рождества.