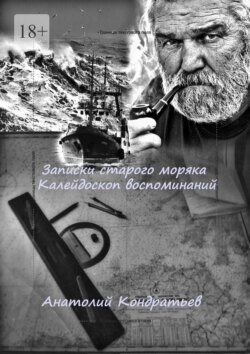Читать книгу Записки старого моряка. Калейдоскоп воспоминаний - - Страница 3
О Тихом океане и тропическом вине
ОглавлениеНачало 80-х… Совсем недавно, три года назад Игорь Кондауров закончил Мурманскую «Вышку» (Высшее инженерное морское училище) и дослужился уже до 3-го помощника капитана, т. е. повысился по службе, вырос из четвёртых (во времена Советского Союза существовал институт четвёртых помощников капитана). Карьера штурмана складывалась вполне удачно. Вот и сейчас он трудился третьим штурманом на БАТе-0062 «Алексей Генералов» Мурманского тралового флота (БАТ – большой автономный траулер). За плечами были уже три шестимесячных рейса в ЮВТО (Юго-Восточная часть Тихого океана). Гоняли ставриду от 35-го до 42-го градусов южной широты, в открытой части океана за пределами Чилийской экономической зоны. Базировались на Перуанский порт Кальяо – город-спутник столицы Перу – Лимы.
В том рейсе, начавшемся как всегда и не предвещавшем ничего необычного, всё проходило в устоявшемся порядке. Вышли из Кальяо с грузом провизии, снабжения и почтой для других судов большой группы промыслового флота Союза. Это было обычной, устоявшейся практикой, когда следующие из Кальяо на промысел суда, брали такой попутный груз, который с большим нетерпением ждали на промысле рыбаки Советского Союза (хорошее и великое было время, однако), особенно почту из далёкого дома. Позади шесть суток перехода по открытой части океана, в обход 200-мильной экономической зоны пиночетовской, фашистской Чили. Прошли так называемые «Чилийские яйца» (очень меткое название, данное моряками этой части Чилийской зоны) – если циркулем провести от островов Хуан Фернандес двести миль, то очертания и будут напоминать эти самые яйца.
Добрались до района промысла в районе 42-го градуса южной широты, раздали на траулеры привезённый груз и вполне успешно и привычно втянулись в промысел. Набрали полный груз и по указанию Берега (Управление Тралфлота) пошли к японскому транспорту на выгрузку курсом на север, в сторону экватора, т. е. в более спокойный относительно погоды район, подальше от «ревущих сороковых», как эти широты издавна называют моряки всего мира.
С каждым днём и каждой милей, по мере продвижения на север, погода становилась всё лучше, океан всё спокойней. Моряки уже скинули тёплую «спецуху» и подставили яркому, даже жаркому солнцу свои белые лица и спины. Что не преминуло тотчас сказаться на их здоровье. Уже через день после вхождения в солнечные широты к судовому врачу выстроилась очередь из перегревшихся, получивших солнечные ожоги моряков. Но и это не портило настроения команде. Переход в благоприятные широты воспринимался ими как неожиданный отпуск в чистом, так сказать, виде, как награда за напряжённые дни промысла в суровых погодных условиях… В самом деле, ни в какое сравнение не идут условия напряжённой работы на промысле, когда каждая вахта оценивается как бой, в буквальном смысле. Когда с мостика Кондауров уходил в мокрой от пота рубахе и не потому, что ему приходилось рубить дрова или таскать тяжёлые мешки, а от нервного и морального напряжения. На промысловой вахте приходилось следить не только за горизонтом хода трала, своевременно маневрируя им. Опускать или подымать по показаниям быстрой и манёвренной ставриды.
Вот сейчас! … Вот когда траулер прямо над ней и поисковый эхолот показывает глубину хода косяка, а вахтенный штурман выводит на этот горизонт пелагический трал… Ну, ещё чуть-чуть!.. Ну вот же, через мгновение он должен встретиться с косяком! … Ну же! Давай! … Ну! … И, … мимо. Разочарование и недоумение. Там, где по всем расчётам должна быть ставрида, её и в помине нет. В одном случае юркая рыба метнулась метров на 70—100 глубже хода трала, а в другом – вообще в сторону, испугавшись импульсов поискового прибора траулера. Куда и как она ринется, и в какой горизонт необходимо вывести трал, это вопрос опыта штурмана, который нарабатывается только практикой. Если траление прошло успешно, и на палубу поднят улов в 30—50 тонн (а то и больше), то моряки на палубе говорят:
– Наловил трёшник (третий штурман)! Или:
– Старпом наловил!
Признаюсь, джентльмены, что большей похвалы судоводителю и не требуется. Когда так говорят, то это вполне заслуженно. Ключевое слово здесь – «наловил».
После вахты, пообедав, и, если не было подвахты на рыбофабрике, Игорь возвращался на мостик, наблюдая за действиями 2-го помощника, т. е. перенимая опыт старшего товарища. Кстати, на поведение ставриды влияет и время суток, поэтому, по возможности, он заходил и к старпому, чья вахта выпадает на вечер (с 16:00 до 20.00 судового времени). А вообще, скажу я вам, промысел ставриды в открытом океане это «отдельная песня». Это очень увлекательная и азартная работа, я бы сказал, даже не работа, а охота. Охота на рыбу. Траулер идёт средним ходом, обшаривая горизонт гидролокатором по направлению и глубине. Электрорадионавигатор, а на «Генералове» он был в прошлом гидроакустиком на «кошельковистах» (суда, занимающиеся ловом кошельковыми неводами), так вот, гидроакустик в наушниках следит за прибором. Прислушивается… И вдруг внезапно отключает автоматический ход гидролокатора и вручную переводит вибратор прибора в определённое направление. Плавными, даже нежными и аккуратными движениями точечно уточняет направление на эхосигнал, который он услышал в стороне от курса судна. Отметки сигнала ещё не видно на экране дисплея или бумаге «Саргана» (модификация поискового прибора, ныне устаревшего), а он его уже услышал (тонкий, музыкальный слух, мля). Ещё несколько минут, и отметка цели появилась на бумаге. Гидроакустик сообщает штурману её азимут. Вокруг поисковика столпились капитан, вахтенный штурман, тут конечно же и «майор» (старший мастер добычи на морском сленге) с кружкой чая или кофе, всегда готовый действовать и нестись на палубу по сигналу к постановке трала.
Мгновение. … Штурман и капитан окидывают взглядом горизонт в направлении, куда указал акустик, и если там всё чисто, т. е. никто не мешает (нет других судов), меняют курс траулера по направлению к цели.
Подчас в плотной группе можно наблюдать картину, когда на тот же косяк нацелился другой промысловик. И тут уже судоводителям необходимо оценить ситуацию – успеваем ли первыми поставить трал, или нет. Сумеем ли опередить конкурента? Нет, значит бросаем этот косяк и ищем следующий. Если успеваем, сигнал «колокола громкого боя». «Майор» понёсся на палубу! На мачту вздымается флаг «Z» (ZULU) – «Я вымётываю сети, держитесь в стороне от меня» (согласно Международному своду сигналов), на баке подымаются конуса вершинами друг к другу – всё это знаки, говорящие другим судам, что БАТ-0062 «Алексей Генералов» начал постановку трала, и никто не должен ему мешать (есть такие Правила совместного плавания и промысла судов, ПСПП-72 года). Очень многое зависит от слаженных, грамотных действий палубной команды. Ни одной заминки быть не должно, ни малейшей! Иначе проскочим, пропустим косяк и шансов вернуться на него очень мало, так как вокруг стая «голодных волков» – других промысловиков.
Кроме определений «увлекательная» и «азартная», применительно к рыбалке, есть и сопутствующие – нервная и изматывающая. Потому что с судоводителей, кроме всего прочего, никто не снимал ответственности по безопасности мореплавания. Промысловые группы в ЮВТО, в которых довелось работать Игорю Кондаурову, были многочисленными и очень плотными, иной раз до пятидесяти, а то и до ста судов (со всех морских бассейнов Советского Союза плюс иногда и кубинские суда – ну эти вообще безбашенные ребята).
Работая в группе, траулер стремится занять наиболее выгодное положение. Впереди и чуть в стороне, в 3—4 кабельтовых, идёт промысловик по отличным показаниям. Его приборы контроля фиксируют прекраснейшие заходы рыбы в трал, о чём вахтенный штурман с удовольствие рассказывает на УКВ-канале своему другу, идущему рядом (судя по радостному голосу, он очень доволен. Видимо, что-то вкусненькое жуёт, гад такой, запивая чаем или кофе). А приятель его злится, нервничает. Уточняет у первого горизонт хода, раскрытие трала, потому что… Потому что у него ни хрена нет! Нет и всё тут. Поо-чем-ммуу, мля?!… Как так?!… У него есть, а у меня нет? Ведь всё то же самое? В результате, за три часа траления первый подымает 60 тонн! А рядом идущий – тонн десять, или вообще ничего. Почему, мля? Вопрос, кстати, до сих пор для Кондаурова так и не выясненный, оставшийся большой загадкой.
Потом, уже на берегу, Игорь спрашивал мнение других штурманов – своих друзей, «научников» из ПИНРО (Полярный научно-исследовательский институт рыбного хозяйства). Так вот, для них, как оказалось, это тоже было большой загадкой (ENIGMA, мля, да и только!). На всевозможных конференциях, в научных трудах они, конечно же, с «умняком» на лице объясняют возможное поведение пугливостью рыбы, запутывая аудиторию разными наукообразными терминами. Но за бутылкой водки, на берегу, откровенно говорят:
– Честно, Игорь, …хер его знает… почему так.
Почему в отдельные месяцы она держится плотно в одном горизонте, а в другое время, по причинам, неизвестным как для самих «научников», так и для науки в целом, вдруг «сигает» вглубь или вверх, а то и в сторону, хотя все сопутствующие признаки одни и те же. Вот уж загадка так загадка!
Так вот, на промысле суда идут плотно в группе, и штурман помимо задач рыбалки, следит за окружающей обстановкой и маневрирует так, чтобы не столкнуться, не приведи Господь, и не сцепиться орудиями лова (а такое тоже нередко бывает). Группа дружно следует в обоих (параллельных) направлениях (если погода позволяет), а иные (кубинцы, мля, особенно) и поперёк!
Всё это Игорь с содроганием вспоминал на переходе к транспорту, блаженно расслабившись на мостике – вокруг на десятки миль никого (даже радар выключил за ненадобностью (а пусть его… пусть отдохнёт). Ярко светит жаркое солнце (это после пасмурно-дождливых и штормовых дней), работ особых никаких, разве что судовой журнал заполнить в конце вахты. Попивая ароматный, крепкий чай (кофе уже давно закончился), он лениво прокручивал в голове отдельные эпизоды промысла. Вспоминал подвахты после больших подъёмов в 80—120 тонн (что, кстати, не редкость в ЮВТО, ну, по крайней мере, было в те годы), когда после вахты штурмана, как и другие специалисты, выходят в рыбцех на «уборку» рыбы (подготовка рыбы к заморозке в специальных камерах), т. е. выполняют черновую, тяжёлую работу простых матросов, когда надо, шкерят (потрошат), набивают рыбой специальные формы (противни) для последующей заморозки в больших камерах, разбитых на ячейки для этих самых противней, упаковывают в картонные короба блоки с мороженной или отгружают в трюма уже сформированные ящики с готовой рыбой, поскольку рыбообработчики физически не успевают обработать большой улов. Если этого не сделать и вовремя не убрать улов, рыба просто протухнет и будет непригодна к заморозке в пищевых целях. Поэтому-то и существуют подвахты на промысловых судах. На подвахтах задействованы все, кроме «маркони» (прозвище радистов), шеф-повара (кашеварит для команды), «айболита» (доктора, заработок которого не зависит от улова: жалованье он получает в береговой медсанчасти, которой был послан в море), ну и конечно же капитана. Все остальные – вниз, мля, на «монетный двор» (так на судах называют рыбцех. Кстати, хорошие капитаны тоже выходят на подвахту: в том смысле, что заступают на вахту вместо штурмана, а того посылают в рыбцех. Вот так вот. Лишних рук на промысловиках нет.
На отдых после подвахты остаётся четыре часа. Валишься с ног, иной раз раздеться просто сил нет. Далее по кругу… напряжёнка на вахте… подхвата… И так в течение долгих недель, пока трюма траулера не заполнятся готовой продукцией.
Поэтому нынешний переход к японскому транспорту воспринимался экипажем как подарок судьбы. Кто работал в том районе и широтах, тот поймёт моряка, пишущего эти строки.
Вахта второго помощника (с 12:00 до 16.00 судового времени) Миши Демчишина, тоже выпускника МВИМУ, приятеля Игоря Кондаурова. Мерная зыбь спокойно, плавно вздымала и столь же осторожно опускала идущий на север в сторону экватора большой автономный траулер. Это мерное движение вверх—вниз нельзя было даже назвать качкой. Океан, в понимании моряков, был спокоен. Он просто дышал!
Неспокойный океан в понимании Кондаурова – это свистящий, временами даже ревущий штормовой ветер. Низко стелющиеся над водой тучи. Срываемая с огромных волн бешенным ветром пена. «Ревущие сороковые» как никак! Взвесь из водной пыли и холодного воздуха, скрывающая горизонт… Волны в океане, как говорится, «выше колокольни» (интересное, кстати, определение). Первый раз такое определение высоты волн Игорь услыхал во время плавательской практики на НИС (научно-исследовательское судно) «Персей-3» от капитана по фамилии Сенатор (запоминающаяся фамилия) в 1977 году. Матрос 1-го класса Кондауров стоял тогда на руле. БМРТ (большой морозильный траулер) попал в жёсткий шторм в Северной Атлантике. Бросало и мотало судно тогда изрядно. Капитан Сенатор, сидя в своём капитанском кресле на мостике, спросил тогда Игоря:
– Курсант Кондауров, а ты знаешь, откуда пошло выражение «волна выше колокольни»? Так вот, – не дожидаясь ответа продолжил он, – в патриархальной, крестьянской царской России в морской флот набирали парней из деревень. Попав в первый в их жизни шторм и отписывая домой свои впечатления, они сравнивали высоту волны (чтобы их родные могли себе представить) с самым высоким в их селе сооружением, а это и была как раз колокольня. Вот отсюда и повелось – «выше колокольни».
А сейчас шла мерная океанская зыбь, становившаяся, по мере продвижения на север, всё ближе к экваториальным широтам, всё более пологой.
Солнце ярко светит. На голубом небе «кучевые облака хорошей погоды» (есть такое определение в метеорологии). Кондауров и Демчишин, друзья и почти ровесники, попивали из больших кружек чай, вспоминая курсантские годы и знакомых им преподавателей, офицеров-воспитателей. Время от времени мостик оглашал их звонкий смех после рассказанных случаев из жизни в училище.
Вдруг, неожиданно, двери рубки распахиваются, и на мостик лёгким прыжком буквально вскакивает старпом Саша Козлов, однокашник Демчишина. Лёгкий, по-спортивному сложенный молодой парень. Все штурмана делали уже совместный третий шестимесячный рейс на «Генералове». Знали друг о друге почти всё. Все были коллегами и друзьями.
Неделю назад получили с берега радиограмму (РДО – по-морскому) о награждении их капитана Ажогина Вячеслава Васильевича орденом «Знак почёта». Весь экипаж был искренне рад за него. Общее мнение было – вполне заслужил награду. Отличный, опытный промысловик. С ним всегда траулер, что называется, «был на рыбе». Ну, поздравили и поздравили, но… поздравили-то «на сухую», шутливо намекали капитану штурмана.
– Василич, а когда простава будет? – смеясь подзуживал капитана второй штурман.
Смущаясь, Ажогин уходил от ответа…
– Ну не время… потом… на берегу…
Сегодня на мостике старпом, пользуясь тем, что все заинтересованные, так сказать, лица собрались на мостике, опять поднял тему «обмыть награду», широко улыбаясь обратился ко второму:
– Парни, я думаю, пора брать инициативу в свои руки! Вы как?
– Чиф, как скажешь. Кто бы против, только не мы!
Сказав это, второй помощник в штурманской рубке выдвинул верхний ящик стола с листами карт, аккуратно уложенных там заботливыми руками Игоря. А там… там, словно готовые к бою снаряды, лежали две бутылки «тропического» сухого вина. Любовно обмотанные листами писчей бумаги, прихваченной скотчем, чтобы предательски не звякали на зыби.
Тут надо пояснить, что в стародавние времена великого Советского Союза на судах морского и промыслового флотов, работающих в тропических широтах, по нормам Министерства здравоохранения полагалось выдавать по 200 граммов сухого вина в сутки на человека. Естественно, что каждый день вино не выдавалось, а, как правило, копилось моряками, и выдача «божественной амброзии» приурочивалась к банным дням. То есть каждые 10 суток каждый член команды получал по две бутылки «нектара». Но подчёркиваю, что речь идёт именно о тропических широтах, т. е. об условном поясе на географической карте в промежутке между 30-тью градусами северной и южной широты. «Генералов» уже день назад пересёк 30-й градус южной широты курсом на север и отсчёт «благодатных» дней начался.
Ещё два года назад перед выходом из Мурманска в районы ЮВТО, второй штурман получил на продовольственных складах «Тралфлота» два сорта сухого вина. Это были прекрасные молдавские вина: красное – «Каберне» и белое – «Алиготе». В те далёкие времена молдавские вина были ещё качественными и высоко ценились истинными гурманами. Получил он вино из расчёта двух лет нахождения судна в тропиках. Специально предназначенные для его хранения провизионные кладовые на судне («Провизионные кладовые напитков» – имелись и такие на БАТах) были забиты ящиками с вином под завязку, под подволок (по-морскому – потолок). Ну а каждый опытный второй штурман, а Мишель Демчишин, безусловно, относился к таковым, знал, как «списать на бой» некоторое количество бутылок вина (штормовые условия… и всё такое…). На сегодняшний день, как сообщил по секрету второй, у него было списано по акту более 10 ящиков первоклассного вина. Ключ от «пещер Али Бабы» находился только у второго штурмана, и он зорко следил за тем, чтобы никто и близко к этим провизионкам не приближался. В банные же дни, преисполненный собственной значимости, вместе с артельным (из особо доверенных матросов палубной команды) он священнодействовал: с тетрадкой и карандашом в руках, похожий на обычного берегового кладовщика, выдавал морякам бутылки с вином.
– Давай-ка для начала, снимем пробу, – предложил второй штурман, любовно поглаживая бутылку «Каберне».
Заготовленные бутылки вина, конечно же, не предназначались для грядущего торжественного события – обмывания награды капитана. Второй и третий штурмана, пользуясь прекрасной погодой и спокойными вахтами на океанском переходе, приготовились было испить по бокалу-другому (бокалами они по благородному называли простые стаканы), но появление старпома нарушило программу действий и внесло свои коррективы. Но не пропадать же добру… Разлив на троих бутылку красного вина, с удовольствием выпив его, затеяли разговор о береге, предстоящем отпуске после рейса, до окончания которого было ещё долгих 4 месяца. Спустя некоторое время старпом Козлов напомнил о своём предложении отметить награду Ажогина.
– Но ведь одной оставшейся бутылки для такого серьёзного мероприятия на четверых, нет, на пятерых – сейчас майор поднимется на мостик, будет явно недостаточно, – задумчиво произнёс второй, почёсывая затылок. И только он это произнёс, как дверь рубки распахнулась и на мостик поднялся слегка заспанный старший мастер добычи Мишка Ромашов, тёзка второго.
– А что это вы тут делаете?
Он повёл носом по ветру.
– Никак тропическое распечатали, изверги. А майора, конечно же, забыли пригласить. Ну да, зачем вам майор, он вам нужен только на палубе, а как что-либо вкусненькое, так ну его. – Ворчал Ромашов.
– А чего тебя приглашать? Ты ж за версту чуешь, когда и где наливают.
И громкий хохот огласил мостик.
– Ладно-ладно. Что празднуем, бродяги?
Демчишин в двух словах объяснил Ромашову, что они задумали. Сонное выражение тут же слетело с рябоватого, обветренного ветрами всех широт лица опытного моряка.
– Это дело!.. Обмыть, конечно же, нужно! А иначе, как он награду носить будет, а? Сколько у вас вина? Чтооо? Всего бутылка? Смотрите не упейтесь, зверюги!
– Согласен, явно маловато будет, – серьёзно ответил старпом.
– Ну так я мигом! Ща вернусь! Вы тут побдите… и вперёд повнимательней глядите.
– Мишель, давай я сгоняю, – смеясь предложил Кондауров.
– Да, щщаззз, разбежался! … Вперёд смотри, штурман!
Через десять минут Мишель вернулся на мостик. Под рубахой навыпуск явно проглядывали заткнутые за ремень две бутылки вина. Третью бутылку белого вина он торжественно нёс в руках.
– Ну вот, готово! Можно звать Василича. Чиф, звони кэпу.
– Шо, вот так, без закуски, что ли? – Брезгливо сморщил лицо старший мастер.
– Погодите! Я мигом!
Вернулся Ромашов через некоторое время с толстыми ломтями свежеиспечённого судовым пекарем душистого и вкуснейшего хлеба и свёртками пергамента в руках. На специально смонтированном в штурманской рубке самодельном столике он нарезал замороженный рулет из ставриды, завёрнутый до этого в тот самый пергамент.
Рулет из ставриды – это деликатес, требующий отдельного описания. Из свежей потрошёной и обезглавленной рыбы извлекаются кости вместе с хребтом. Оставшееся мясо солится, перчится, в рыбу закладывается душистый перец горошком, дольки чеснока и лавровый лист. Далее мясо со специями сворачивается в плотный рулончик, заворачивается в пергамент и замораживается в холодильнике. Лучшей закуски, предварительно нарезанного «пятаками» замороженного рулета, уложенного на свежий душистый ломоть хлеба с маслом на завтрак, да с кружкой крепко заваренного сладкого чая, пожалуй, нет.
Все эти деликатесы были любовно и быстро приготовлены. Вино откупорено и разлито по стаканам.
– Вот теперь можешь звонить. Давай! – почти скомандовал майор старпому.
Чиф позвонил капитану и наигранно-взволнованным голосом попросил его срочно подняться на мостик, не объясняя причин. Спустя пару минут Вячеслав Васильевич с недоуменно-тревожным лицом, в майке и спортивных «трениках» почти влетел в рубку. Бедняга, он уже третьи сутки отсыпался, восстанавливая силы после тревожных треволнений промысла.
– Что случилось?! Что, тревога?!
Мгновение спустя, окинув взглядом собравшихся на мостике офицеров и накрытый в штурманской рубке столик с выставленными бутылками и наполненными стаканами вина, всё оценил и понял.
– Тааак… – протянул он наигранно-серьёзно, хотя уже догадался, в чём причина сбора его ближайших помощников
– А это что?..
– Василич, … – перебил его старпом, – если Вы, товарищ капитан, «зажали» свою награду, то это ещё не значит, что мы забыли про неё. Как говорится, если гора не идёт… ну и далее по тексту. Одним словом, Вячеслав Васильевич, от всей души!..
Далее последовали соответствующие случаю слова тоста. Все дружно выпили и закусили приготовленными вкусными бутербродами. Повторили и ещё раз закусили… На столике уже закипел чайник. Разобрали кружки с чаем и закурили у открытых дверей мостика. И… потекли разговоры, воспоминания… Обо всём!
Окружающая обстановка благоприятствовала. Судно шло «на автомате», т. е. на автопилоте. Рулевого матроса не было. Ещё раньше, в начале перехода рулевые были переведены старшим помощником в команду боцмана на палубу – для приведения судна в порядок. Таких работ на судне всегда хватает: шкрябка ржавчины на надстройках и механизмах, засуричивание очищенных мест и покраска. Расхаживание «барашков» на дверях и иллюминаторах и т. п. Работы на судне всегда хватает, как на барском дворе, одним словом.
Ярко светило солнце. Огромные бирюзовые волны океанской зыби мерно вздымали траулер, рассекавший воды в сторону экватора. На небе ни облачка. Видимость прекрасная.
Вся эта картина живо стояла перед глазами Игоря Кондаурова, через десятилетия вспоминавшего те славные дни. Когда все были живы, здоровы, молоды и счастливы. Нет уже давно славного капитана Мурманского Тралфлота Вячеслава Ажогина. После тяжёлой болезни недавно «ушёл в свой последний рейс» капитан дальнего плавания Миша Демчишин, славный весельчак и некогда второй штурман «Генералова».
Спустя много лет врачи отлучили и капитана Кондаурова от моря, но он всё помнил… Помнил тот счастливый день перехода к транспорту… Помнил те весёлые лица дорогих и близких ему людей. Замечательных, умных и умелых моряков, его друзей, учителей и наставников… Он помнил ВСЁ!
РАБОТА В ПЕРУАНСКИХ ВОДАХ
В следующий раз на «Генералов» Кондауров попал после продолжительного отпуска, спустя полгода. Капитаном был уже другой человек. Ажогин перешёл на береговую работу, его назначили заместителем начальника Мурманского тралового флота. Игоря Кондаурова повысили в должности до второго помощника капитана. Перелетев через Атлантику из Москвы, новый экипаж сменил в порту Кальяо убывающих на отдых моряков. Получив снабжение и продукты, траулер собрался было уже следовать по привычному маршруту в район сороковых широт «гонять ставриду». На промысле, со слов убывающих в Мурманск моряков, обстановка осложнилась. Уловы упали, было такое ощущение, что рыбаки попросту потеряли эту очень подвижную рыбу. По мнению опытных капитанов, она ушла далеко на Запад. И искать её следовало уже чуть ли не в районе острова Пасхи. Да, именно такие разговоры возникали на промсоветах всё чаще и чаще.
Господи, сколько таинственного, волшебного и заманчивого слышалось Игорю в названии «остров Пасхи!». В те далёкие времена гремела по Свету слава известного норвежского учёного-путешественника Тура Хейердала. И молодые люди зачитывались его книгой «Путешествие на Кон-Тики». Имя Хейердала было напрямую связано с этим таинственным островом, потому что, по его предположению, он был заселён народами, приплывшими туда из Южной Америки и блестяще доказал такую возможность своим путешествием на бальсовом плоту. Жажда приключений будоражила молодую кровь. В своём воображении Игорь представлял уже работу в том загадочном районе… Остров Пасхи!!!
Но, жизнь, как всегда, внесла свои коррективы. Неожиданно, перед отходом рейсовое задание «Генералова» было изменено. Капитан получил указание руководства Тралфлота, принять в порту Чимботе двух перуанских инспекторов-наблюдателей и в паре с другим Тралфлотовским БАТом, название которого за давностью лет уже стёрлось из памяти Кондаурова (кажется, это был «Капитан Телов»), поработать в прибрежной зоне Перу. Лицензия на работу в территориальных водах Перу была получена в тот же день, на борт её доставил из Лимы работник советского консульства. По совместной советско-перуанской программе необходимо было оценить рыбные запасы в экономической зоне Перу. Своего океанического промыслового флота страна не имела и поэтому привлекла к исследованиям советские Большие автономные траулеры (БАТы). Как впоследствии, из бесед с инспекторами Игорю стало известно, экспедиция преследовала две цели: оценка рыбных запасов и возможности промыслового флота Советского Союза по их вылову, с тем, чтобы затем продавать лицензии на вылов промысловым судам СССР.
Ночью, подняв якорь, «Алексей Генералов» снялся с рейда и взял курс на Север. На рейде порта Чимботе на борт были приняты два перуанца: чиновник Министерства рыболовства Перу – Альберто де Васкес, и научный сотрудник НИИ рыбного хозяйства Анибал-Игнасио Кабрера. Оба молодых парня, практически ровесники Игоря.
К промыслу «Генералов» приступил уже через 12 часов после того, как они отошли от Чимботе. Наткнулись на такие плотные показания, каких никто из судоводителей в Тихом океане прежде никогда и не видел. Рыба толстым слоем лежала на грунте. Высота показаний была метров 20. Что это была за рыба, никто не знал. Не могли внести ясность и перуанцы, приглашённые капитаном на мостик. Они честно признались, что эти районы им не известны. Глубина моря была 160 метров. «Генералов» средним ходом прошёлся поисково-разведочными курсами по показаниям, определили их протяжённость – 8 миль. Начали готовить трал к постановке. В распоряжении команды траулера были только разноглубинные тралы, не приспособленные к работе на грунте. Характер грунта был тоже неизвестен. Промысловых планшетов, естественно также не было. Но делать нечего, приходилось рисковать. Слава Богу, хоть погода благоприятствовала: яркое Солнце, жара плюс 30, на небе ни облачка, море, вернее океан – как колхозный пруд. Ни ветерка, ни ряби. Видимость очень плохая, не более 3 – 5 миль. Очень большая влажность. Над водой, скрывая линию горизонта, висело какое-то желтоватое марево. С недалёкого берега (не более 20 миль) тянуло болезнетворной гнилостью. Воздух, в буквальном смысле был насыщен, по определению старпома, «ядовитыми миазмами». Одним словом, тропики, во всей своей красе, что называется, «в полный рост». Через два часа трал был готов к постановке и ещё через сорок минут ушёл в воду. Постановка пелагического или разноглубинного (что одно и то же) трала это вообще сложная процедура, а с учётом того, что это был первый трал в этом рейсе, и палубная команда ещё не сработалась, отсюда и вполне естественные заминки при постановке. Ну да ладно, с горем пополам трал всё-таки ушёл в воду. И, о чудо, раскрылся, судя по приборам контроля, полностью, да ещё и с вертикальным раскрытием устья в 70 м…. Слава старшему мастеру добычи (майору – морской сленг)! На мостике столпились все заинтересованные лица, т.е. капитан, все судоводители, начальник радиостанции, перуанцы и даже дед (старший механик – тоже морской сленг). Майор на палубе выполнял распоряжения мостика.
– Дед, а ты чего прискакал?
– Не, ну интересно же
Далее манёврами с тралом командовал капитан. Орудие лова осторожно приблизили к грунту… тревожность момента нарастала…
– Так, … момент, … на лебёдке, внимание, … потравим ещё метров двадцать.
Трал коснулся грунта…
– Начинаем вдавливать в грунт, …травим ещё двадцать метров, …продолжаем… так, стоп.
Трал вдавили в грунт так, что от первоначального вертикального раскрытия в 70 метров осталось только 40. Риск был неимоверный. Район не исследованный. Полагались только на предварительное приборное обследование района. Эхограмма поискового прибора «Сарган» выписывала плавный ход грунта, без резких перепадов. Что и говорить, волновались все, придёт ли целым трал и что наловит… Поэтому, с учётом всего сказанного плюс отличнейшие показания, решили на первый раз тащить не более получаса. Наш же напарник, систершип «Капитан Телов», также с инспекторами из Чимботе на борту, благоразумно дожидался в стороне на расстоянии 4 кабельтовых, ожидая наших результатов. Начали подъём трала… через некоторое время, метрах в 200-х по корме зазеленела вода, и мешок полный рыбы всплыл. Осторожно начали подтягивать его к слипу траулера. «Колбаса», другого сравнения мешка, полного рыбы, Кондауров в данном случае не мог подобрать, извиваясь, плавно приближалась к корме судна. Когда его отчётливо разглядели, все были просто поражены, …улов за 30 минут траления был не меньше 100 тонн! Такого никому из присутствовавших на мостике в Тихом океане до этого видеть не приходилось. Это, во истину, было поразительно.
Ещё минут 40 брали мешок на борт, наконец, он на борту. Начали выливку рыбы в бункера под промысловой палубой. Капитан с мостика заторопился вниз, посмотреть, что же всё-таки наловили, хотя и так было видно, что это была отличнейшая крупная ставрида. Первый успех. Улов отличный, но чрезмерно большой. Больше трети пойманной рыбы пойдёт на муку, в такую жару улов полностью не сохранить. «Генералов» лёг в дрейф, «пережёвывая» свой успешный подъём. А его напарник «Капитан Телов» заторопился повторить подвиг собрата. Правда, учитывая наш опыт, вполне благоразумно решил пройти с тралом 15 минут и поднял в результате вполне удобоваримый улов в 50 тонн.
Со временем экипажи обоих судов наловчились и делали в сутки не более двух тралений. В промежутках, между которыми валялись в дрейфе, перемалывая (смысле перерабатывая) поднятую рыбу. Погода этих широт баловала. На море полный штиль. Жарит тропическое солнце. В большинстве случаев самого солнца не было видно, его скрывала дымка или, правильнее сказать, марево от испарявшейся воды океана. Но это отнюдь не делало его менее жарким и коварным. Уже через пару дней с начала промысла большая часть команды выстроилась в очередь к судовому врачу с обгорелыми спинами, руками и ногами. Наш лекарь хватался за голову…
– Придурки, ну право слово, придурки… Первый раз, что ли в тропиках? Бл@ть.
А через неделю буквально все уже загорели с ног до головы. Но на этом неприятности не закончились… С начала рейса на судне была включена установка кондиционирования воздуха во внутренних помещениях. Из-за перепада температур наружного и внутри судового воздуха команда начала болеть… простыли, с@ка! А на судне ведь как? Заболел один… и понеслось, как по цепочке… механизм понятен… кондишен всасывает для охлаждения воздух внутренних помещений, в том числе и заражённый бациллами простуженных моряков… фильтры, знамо дело, никто отродясь не чистил… и… пошло-поехало, … заражённый воздух пошёл по всем помещениям. …Чтобы пресечь эту беду, капитан приказал вообще вырубить кондиционеры в жилые помещения на несколько дней, пока судовой лекарь не искоренит заразу. Слава Господу, и её изжили. За это время механики, как могли, почистили фильтры установки, по трансляции была прочитана лекция о правилах грамотного пользования судовым кондиционером, подготовленная совместно врачом и старшим механиком. А прочёл её наш комиссар, первый помощник капитана Дука Владимир Фёдорович.
Дни проходили однообразно и, по мнению Игоря, даже скучно. Вахта, подхвата на рыбе в цеху, сон 4 часа или загорание на верхнем мостике. … Скукота, одним словом. … Уже через неделю все были по горло сыты этими самыми тропиками. Сыты этим влажным, вязким воздухом, насыщенным ядовитыми испарениями болот, тянувшихся с берега. Надо отметить, что спустя неделю «Генералов» и «Телов» мигрируя за рыбой на восток, оказались уже в 12 – 15 милях от перуанского берега, чуть севернее Чимботе, примерно на 7 градусе южной широты. Из-за этой дымки и берег не было видно. Вообще, все эти дни видимость составляла не более 5—6 миль. Полёты летучих рыбок, убегающих не понятно от какого хищника, стаи пеликанов (вот такая экзотика), вперемешку с чайками осаждавших траулеры, помечая их своим гуано, всё это первое время как-то развлекало моряков, но со временем стало рутинным, обыденным. Днём можно было наблюдать, как моряки у борта подкармливают рыбёхой прожорливых птиц, нагло бросающихся на угощение, выдирая его, буквально из глоток друг у друга. Одним из развлечений свободных от вахт моряков одно время была ловля пеликанов «на живца». К тонкому линю привязывали самодельный крюк, на который цеплялась в качестве приманки рыба, и самодельное орудие закидывалось через борт. Варварский способ, несомненно. Никакие увещевания на молодых, здоровых оболтусов не действовали. Положил конец ловли птиц случай с одним из молодых моряков, делавшим первый рейс в море. Сколько не говори придуркам – не наматывайте линь на пальцы, когда ловите рыбу, всё равно делают по-своему.
– Видимо, каждый должен сам пройти свой путь ошибок и наступить на свои собственные грабли – сделал философский вывод Кондауров, мрачно наблюдая с крыла мостика, как этот молодой болван, морщась от боли, зажав остатки вырванного из сустава пальца, нёсся к судовому врачу. Жалости, как ни странно, не было. Игорь испытывал почти садистское чувство удовлетворённой мести и был рад, что бедная птица наказала садиста. Жаль было пеликана, заглотившего наживку и вырвавшего линь у матроса. Бедняга, вероятно, был обречён, если не сумеет исторгнуть проглоченного живца из своего желудка. Этот случай и положил конец безобразной охоте за бедными птицами, виноватыми только лишь в том, что они тоже хотят есть и жить.
Дни текли однообразно. Большую часть времени Игорь, как и остальные специалисты, проводил на рыбофабрике, помогая матросам убирать, а другими словами, обрабатывать богатые уловы.
Выполняя программу научных исследований, по настоянию перуанцев траулеры через неделю покинули этот благословенный Господом район, и пошли поиском вначале на север до широты порта Чиклайо. На пятом градусе южной широты, ничего не встретив, направились параллельно берегу на юг. Миновали широты портов Трухильо, Чимботе, Лимы и добрались до широты порта Писко, где на 13 градусе опять наткнулись на показания ставриды. Но уже на глубинах 100 м. «Клондайк» был аналогичен предыдущему богатому району. Опять понеслось… вахта, подхвата, четырёх часовой отдых и далее всё по новой… по кругу.
В этом районе к лежавшему в дрейфе «Генералову» после очередного большого подъёма повадилось в гости семейство морских львов – отец и мать с детёнышем. Они подплывали ближе к корме судна, высовывали из воды свои головы и призывно глядели на моряков своими, почти человеческими глазами, выпрашивая угощение. В их глазах читался укор совести людям, в них, словно в зеркале отражалась мировая скорбь всех животных мира, когда-либо обиженных людьми. Ходячая, вернее плавающая совесть, бл@ть.
Но скоро, и они покинули район промысла «Генералова». А произошло после одного случая. Надо сказать, что этот район в восьми милях от берега был явно облюбован этими замечательными, умными морскими животными. Львы постоянно кружили вокруг советских судов, составляя им конкуренцию, охотясь за вкусной ставридой. Их головы и элегантные обтекаемые тела мелькали то тут, то там. Они дожидались подъёма трала, и когда мешок с уловом всплывал и подтягивался лебёдками к слипам судов, устремлялись к нему, пристраивались и ловко вытаскивали из объячейки рыбу. Иные, наиболее смелые, даже взбирались на него и плыли на траловом мешке прямо до судна. Лишь у самой кормы соскальзывали в воду, оглашая окрестности недовольным рёвом, чем весьма забавили моряков, внося разнообразие в монотонные будни.
В один из дней, когда мешок с уловом был уже на палубе и куток развязан, …когда поток ставриды хлынул в рыбные бункера траулера… о чудо, вместе с рыбой на промысловую палубу, буквально вывалился огромный морской лев. Он недовольно рычал. Гордо подняв голову, предостерегающе издавал громкие, должные напугать людей звуки. Он сам был явно испуган и обалдевал от того что увидел и от того, где он оказался.
Под хохот, свист и улюлюканье моряков, бедное животное испуганно озиралось по сторонам, не зная, куда бежать от этих непонятных вопящих двуногих существ. Двумя брандспойтами, под сильным напором воды, хищник был оттеснён постепенно к слипу траулера и смыт, к большому разочарованию публики, за борт. А как же… ведь бесплатный цирк. Животное не задохнулось под водой в траловом мешке только лишь потому, что траления были непродолжительными, не более 30 минут. А как много раз впоследствии, в других районах промысла и других морях Кондауров наблюдал бедных животных, попавших по неосторожности в трал и задохнувшихся в нём. Этому льву просто повезло.
Так вот, история имела продолжение, потому что, буквально на следующий день у кормы траулера оказалось то самое семейство морских львов. Майор уверял, что отец семейства был тот самый хищник, которого моряки накануне смыли за борт. Он, якобы заприметил у того зверя отчётливый шрам на голове. И действительно, Игорь, наблюдая за этой семейкой, видел на голове крупного самца большой «боевой» шрам, полученный им, видимо в брачных играх. Вероятно, благодарный людям за спасение хищник понял, что этих странных двуногих бояться не надо. А теперь он привёл с собой самку с детёнышем, словно требуя у людей компенсацию за пережитый стресс. Зверей подкармливали с борта. Моряки и львы до того наловчились, что последние принимали вкусную ставриду прямо из рук. Постепенно семейка наглела и уже не просто призывно вглядывалась в глаза моряков, но и в буквальном смысле требовала дармовое угощение, оглашая окрестности недовольным рычанием, когда люди, замешкавшись, вовремя не подавали им рыбу. Изо дня в день, в одно и то же время, часы можно было по ним сверять, львы приплывали к траулеру за данью. Так продолжалось три – четыре дня. Затем, вероятно решив, что самолюбие отца семейства полностью удовлетворено или по какой-либо другой причине, но они внезапно исчезли, чем весьма огорчили моряков, успевших уже привязаться к этим милым животным. А возможно их спугнули, появившиеся в этом районе акулы, острые плавники которых замелькали неподалеку от промысловых судов. Отдельные моряки уверяли, что рассмотрели даже больших белых акул, самых свирепых морских хищников Мирового океана, в чей рацион как раз и попадают морские львы. Так это или нет, а скорее всего именно так, но морские львы исчезли из района промысла, уступив место кровожадным хищникам.
Вслед за львами из района исчезла и ставрида. Расслабившиеся было штурмана обоих траулеров, вновь озаботились поиском скоплений рыбы. Разведочными курсами суда двинулись на запад, северо-запад. Обшаривая поисковыми приборами различные глубины. «Генералов» наткнулся на более или менее приличные, на взгляд судоводителей, показания в ложбине, глубиной 400 м. Показания на этот раз «сидели» не на самом грунте, а отдельными крупными косяками держались в пелагиале, метрах в 50 от дна. С одной стороны, это внесло некоторое психологическое облегчение, и было очень кстати, так как не нужно было сажать дорогостоящее орудие лова на грунт, не зная, поднимешь ли ты его целым или он придёт, разодранный в клочья. Характер показаний разреза дна тоже изменился. На этой глубине поисковик траулера выписывал резкие перепады дна, порой до 20 и более метров, на бумаге прибора вырисовывались острые пики скал и глубокие впадины между ними. Сажать трал на такой грунт было бы чистым безумием. И рыба, как бы чувствуя это, «оторвалась» от дна, что облегчало задачу предстоявшего траления.
Район обследовали. Определили направление и протяжённость показаний, и в конце концов запустили трал. Поведение ставриды также изменилось. Она начала вести себя нервно, непредсказуемо. Очевидно, её пугали излучающие импульсы поисковых приборов. В этом случае применили другую тактику лова. Определив предварительно основные глубины залегания показаний, и выведя трал в нужный горизонт, выключили поисковый прибор. Таким образом, прошли «вслепую», протащив трал в течение двух часов. Выбранная тактика оказалась успешной и принесла свои плоды. Подняли порядка 80 тонн. Вместе с «полезной» рыбой трал неожиданно принёс диковинную рыбу.
Такого чуда никому и никогда ранее видеть не приходилось. Ихтиолог Анибал Кабрера в недоумении пожимал плечами, твердя, что эта «тварь» ему не известна. По его настоянию провели замеры, сфотографировали её во всех ракурсах и по просьбе перуанского учёного поместили в морозильный трюм судна. Он намеривался сохранить её до берега с целью дальнейших исследований.
По прошествии многих лет, когда появился Интернет, Игорь Кондауров, просматривая старые фото, случайно наткнулся в своём архиве на этот снимок. Заинтересовавшись, он перешерстил в поисковиках все возможные варианты, но так и не нашёл приемлемое изображение, увиденной советскими моряками в далёкие 80-е годы рыбы. Правда, один реконструированный рисунок из Сети отдалённо напоминал то «чудо-юдо»:
Но это было невероятно, чтобы быть правдой, ведь на реконструкции было изображение гигантской планктоноядной рыбы Bonnerichthys, жившей на Земле 89 – 66 млн. лет назад. Хотя, … ведь истории известен случай с пресловутой Латимерией, цилокантом или, по-другому – кистеперой рыбы, тоже считавшейся вымершей миллионы лет назад, но благополучно обнаруженной живой и здоровой в 30-е годы 20 века у берегов Мадагаскара. Судьба выловленного экземпляра Кондаурову была не известна. По окончании совместной работы с перуанцами, их высадили в порту Кальяо. Рыбу они забрали с собой. Дальше тишина. По крайней мере, спустя десятилетия, старый моряк, ковыряясь в Сети, так и не обнаружил никаких упоминаний об этом. Тайна так и осталась тайной.
Но вернёмся к промыслу в тропических водах Перу. Потерянную и вновь обнаруженную на широте Лимы ставриду советские траулеры продолжили успешно добывать на глубинах 250 – 300 метров. Режим работы оставался прежним, два – три трала в сутки, остальное время – лежание в дрейфе для экономии топлива. Напарник наш держался рядом, не более чем в 4 – 5 кабельтовых. В один из обычных дней капитан вызвал Кондаурова с подвахты в рыбцехе. На палубе у расчехлённого рабочего катера копошились боцман с палубными матросами и четвёртый механик, проверяющий его движок. Время от времени механик пытался запустить двигатель плав средства. Катер недовольно фыркал, выпуская клубы чёрного дыма, пыхтел и после нескольких неудачных попыток – таки запустился и был готов к работе.
– Василич, – обратился капитан ко второму штурману, – сгоняешь на «Телов», забросишь инспекторов в гости к их коллегам, …отвезёшь и вернёшься за ними чуть позже, заберёшь их обратно. Чего-то им там надо, говорят, посовещаться. А скорее всего, наскучило им тут, вот и хотят расслабиться.
Инспекторов вполне можно было понять. Ведь, если наши моряки были заняты вполне конкретным делом, этим двоим, в общем-то нечем было заняться. Перуанцы добросовестно присутствовали на мостике при каждом подъёме трала, фиксировали уловы, сверяя свои данные с нашим промысловым журналом. Вдвоём спускались на палубу, выборочно потроша ставриду, рассматривали наполняемость желудков и определяли, чем та питается. В общем, делали свою обычную работу. Занимало это у них не более 2 – 3 часов в сутки. Остальное время было у них свободным, и они слонялись по судну, проводя большую часть времени в своей каюте. Одно время, они, было начали выходить на фабрику на 4-х часовую вахту с тем, чтобы хоть чем-то занять себя. Но эта затея продолжения не получила, и они от неё отказались.
Ну, так вот, второй штурман без всяких приключений доставил инспекторов на борт нашего компаньона, вернулся обратно, а поскольку его подвахта уже закончилась, пока он развозил людей, то Игорь ушёл в каюту отдыхать перед вахтой, стремясь урвать хотя бы три часа сна. Вечер… суда продолжали дрейфовать с заглушенными главными двигателями. Наступила вахта второго помощника капитана Кондаурова с 16 часов судового времени. Тропическое Солнце катилось к закату. Рыба на фабрике заканчивалась, необходимо было готовиться к очередной постановке трала. Капитан по УКВ (ультракоротковолновой) радиостанции поторопил коллег с «Телова», чтобы те не задерживали наших инспекторов и дали тем пинка под зад, чтобы они поживее собирались обратно. Вздохнув, Игорь стал собираться на катер. Всё прошло в штатном режиме. Он принял инспекторов на борт катера, отметив про себя, что координация их движений была несколько нарушена. При посадке в катер Альберто де Васкес, спускаясь по штормтрапу, чуть не сорвался, но вовремя был подхвачен в катере матросом «Генералова». От них явно попахивало спиртным, поводив носом, Игорь спросил:
– Что пили? Виски, да?
– Да сэр, «Джек Дениелс».
– Ну, не самый лучший сорт, между нами говоря… – засмеялся Кондауров. – Ладно, поехали…
На подходе к борту своего судна, переносная радиостанция штурмана зашипела, видимо с какого-то из судов пытались связаться с Кондауровым. Разобрать ничего было нельзя из-за громкого тарахтения движка катера. Прокричав по рации, что он ничего не понимает о чём на другом конце «провода» говорят, Игорь взглянул на мостик траулера. На крыле третий помощник капитана размахивал руками и жестами на что-то указывал, стремясь, очевидно привлечь к чему-то внимание Кондаурова. Игорь оглянулся, но ничего необычного не увидел. В досаде на третьего и радиостанцию махнул рукой и уверенно подвёл катер к штормтрапу, спущенному с борта судна. Сверху спустили страховочные пояса на линях для инспекторов. Те с помощью моряков неумело с горем пополам надели их и по очереди поднялись на борт. Второй штурман, матрос и механик закрепили катер на шлюп-тали и споро по штормтрапу также поднялись на борт. Игорь зашагал на мостик, расстёгивая на ходу спас-жилет.
– Чего ты там орал с крыла и ластами своими размахивал… Что за шум и переполох? Ни черта не слышно по радио… движок тарахтит, и всё такое… Чего надо было?
Третий оборвал монолог Кондаурова, и взволновано схватив его за руку, поволок на крыло мостика… – Быстрее, быстрее, сам посмотри…
Вместе они перегнулись через релинги и глянули вниз, на воду. От увиденного Игорь слегка опешил и удивлённо замолчал. Там, внизу прямо под штормтрапом, который моряки ещё не успели поднять на борт, уткнувшись головой в борт, лениво шевеля хвостом, стояла, да именно стояла, как бы бодая траулер огромной головой здоровенная акула-молот. Такового крупного, да что там крупного, просто-таки огромного экземпляра акулы морякам до сих пор видеть не приходилось. На крыле появился капитан и тоже пристально уставился вниз
– Твою же мать… – только и произнёс он…
Акула была явно соизмерима по размерам с их катером и стояла, сука, прямо под трапом, как бы ожидая, что кто-то свалится к ней на обед, вернее ужин, учитывая время суток. Это был монстр среди акул. Её длина была никак не меньше 4 – 5 метров. Она хитро погрузилась так, чтобы её спинного плавника не было видно на поверхности.
– Караулит, бл@ть, ждёт, сука… – бормотал себе под нос Игорь.
Передёрнув плечами, второй штурман подумал, что эта тварь, если бы захотела, вполне могла атаковать катер, и вполне успешно атаковать.
– Вы не представляете, – взволнованно говорил трёшник, – эта херня сопровождала катер от самого борта «Телова». Первыми её заметили на их судне и сообщили мне. Я пытался с тобой связаться и предупредить… но… Она держалась позади катера, примерно в двух метрах, чуть левее кормы. Шла так, чтобы её спинного плавника не было видно на поверхности. Не дай Бог, если бы кто-то из перуанцев оступился. Да и вообще, кто знает, что у неё в голове. Вполне могла напасть и на катер… – произнёс третий. От этой фразы, высказанной штурманом вслух и совпавшей с теми же мыслями Игоря, он ещё раз непроизвольно передёрнул плечами, как бы сбрасывая наваждение.
Тем временем, постояв у борта, ещё несколько минут и не дождавшись «подарка», акула медленно и степенно погрузилась и ушла в глубину в неизвестном направлении.
– Да уж… – только и произнёс Кондауров, – По крайней мере, будет, что вспомнить на берегу…
Далее ничего примечательного в том рейсе не случилось. Суда благополучно проработали так чуть больше месяца, сдали груз на подошедший транспорт. В Кальяо распрощались с инспекторами и далее продолжили рейс в своём привычном районе промысла, на сороковых широтах….
Океан небрежности не прощает
БАТ «Алексей Генералов» прибыл из Кальяо в район промысла в ЮВТО в начале июля 198… года. А за две недели до этого, команда после трёхнедельного «отдыха» в Мурманске вновь оказалась на борту родного судна. Впереди ждал очередной шестимесячный рейс в районе «ревущих сороковых», да ещё в зимний период. В Южном полушарии в это время самый разгар зимы. Настроение у всех было под стать началу длительного рейса. Второго помощника Кондаурова в Кальяо ожидал «маленький» сюрприз. Заказ на продукты с пяти судов промысловой группы: с двух «южан» (то ли керчяне, то ли севастопольцы, сейчас уже не вспомнить), РТМСов – рыболовных траулеров морозильных (супертраулер), типа «Прометей», двух «мурманчан» – Тралфлотовских БАТов и одного дальневосточника, тоже РТМСа. Вот уж, действительно, SURPRISE! Капитан, посмотрев на принесённые заявки агента, только пробормотал что-то еле слышно. Должно быть, выразил свою нечаянную «радость» известными флотскими выражениями. Но делать нечего, надо исполнять заявки товарищей с промысла. Потому что в следующий раз на их месте можешь оказаться и ты. Заказ продуктов на отходящий из порта на промысел траулер было уже давней и устоявшейся традицией. Выполнение этих заявок заняло ещё двое суток у моряков «Генералова».
К данному процессу второй штурман должен подходить творчески и заказывать для других, точно также, как если бы он заказывал для себя. Во-первых, сам процесс заказа, для начала состоял в грамотном выборе шипчандлера (поставщика продуктов на суда). В то время в Кальяо было куча шипчандлерских фирм. Из десятка фирм, предлагавших свои услуги и рекомендованных «Берегом», надо было выбрать одну или две. Здесь штурман и капитан руководствовались только одним принципом – «цена-качество». По цене понятно. Смотришь, сравниваешь прайс-листы и делаешь выводы. А вот по качеству, – тот ещё вопрос. Тут, как угадаешь. Не исключено, что можешь нарваться на неприятности. Ведь продукты ты увидишь только тогда, когда их привезут. А привозят их, как правило, прямо на рейд большими плашкоутами, называемыми в тех краях «барками». Если уж совсем плохого качества окажутся, скажем, овощи или фрукты, то, в принципе можно и поругаться, заставить заменить. Но такое происходило редко. Ну, потому что, уж совсем гнилые овощи они не привозили, а кроме того, через своих информаторов в Капитании порта (морская администрация) они точно знали день и время отхода судна, а потому выполняли заказ за пару часов до отхода, надеясь на то, что связанные временем, моряки особо сопротивляться не будут и примут то, что им привезли. Во-вторых, большое значение играл опыт капитана и второго штурмана. Насколько хорошо они знали лично того или иного шипчандлера.
Была в заказах и ещё одна тонкость и хитрость, известная всем вторым штурманам, работавшим в ЮВТО. Поясню. В то далёкое советское время по каким-то неведомым законам и инструкциям на советские суда было запрещено закупать в качестве «скорпорта» (скоропортящихся продуктов) мясные и колбасные изделия. Овощи, фрукты, даже птицу, пожалуйста. А вот, мясо и колбасы – нельзя. Нет, какой-то мизер дозволялось, ну а вот так, как говорится, от души – не моги. Почему?! Не понятно. Какими соображениями руководствовались составители инструкций, одному господу известно. Кстати, до сих пор, старый капитан Кондауров, так этого и не понял. Ну, да ладно. Дело прошлое.
Так вот, чтобы обойти эти инструкции, в РДО (радиограммах) с промысла, подписанных капитанами подавались условные, можно даже сказать, кодированные слова. Скажем, с судна шла заявка на картофель – четыре тонны! Подчёркиваю, четыре тонны! Такое количество картошки ни один нормальный экипаж в принципе, сожрать не сможет. А означало это только то, что судно заказывает мясо и дальнейший расчёт довольно прост. Штурман, выполняющий заявку включает всё своё воображение. Он заказывает поставщику, скажем, килограммов 200 картошки, а дальше на сумму, полагающуюся на четыре тонны полезного овоща заказывает по своему усмотрению (как, если бы для себя) говядину, свинину и колбасы, стараясь пропорционально уложиться в сумму. Накладные же, на привезённый товар оформлялись «чин по чину», как и было указано в заявках, – картошкой! Об этой особенности знали и во всех бухгалтериях флотов Союза. Знали и закрывали глаза на явные нарушения экипажами положения, потому что понимали, что без мяса морякам ну, никак. Какая «мудрая голова» придумала такой порядок и, повторяю, чем она при этом руководствовалась, не известно. По крайней мере, здравому смыслу это не поддавалось.
Кроме того, в Кальяо, впрочем, как и во многих портах мира, практиковался 5% «презент» от шипчандлера на сумму заказа. То есть, на 5% от суммы заказа «шип» (шипчандлер) привозил спиртное. В Кальяо это была, как правило, низкосортная местная водка. До сих пор Кондауров с содроганием вспоминал местную «Санта Марту», на бутылочных этикетках которой был изображён чёрный Мальтийский крест. Это была всем водкам водка, по-другому, у моряков она называлась – «смерть ближнему». Потому что, после употребления, человек в буквальном смысле становился «дурным», а похмелье, так, то вообще, лучше не вспоминать, … голова просто раскалывалась.
По промыслу среди штурманов гуляла «байка», что некий второй штурман буквально воспринял заказы судов и привёз из Кальяо на промысел то, что просили. Написано в РДО 6 тонн картошки, так вот и привёз шесть тонн. Но, скорее всего, это действительно просто «байка». Потому что такого придурка в принципе быть не могло. Так как старшие товарищи (капитан, старпом) всегда бы вовремя подсказали.
Шипчандлеры (ship chandler) выбраны. Товар доставлен первой баркой в день отхода, одним словом, – ну всё как полагается, никаких неожиданностей! Барка с наваленными горой на её палубу продуктами подошла к борту траулера в полдень. Заказы на все суда были свалены в одну большую кучу. О том, чтобы при перегрузке на борт судна был соблюдён порядок, и заказы сразу бы сепарировались, не могло быть и речи. Тем более, перуанцы торопили – Давай – давай! … Ещё две барки должны подойти…
Кондауров с тоской взглянул на весь этот бардак, созданный поставщиками специально, тяжело вздохнул – Ладно, грузим всё во второй трюм, потом разберёмся.
С полудня до вечера палубная команда перегружала с подходивших плашкоутов продукты прямо во второй трюм траулера. С палубы через открытую горловину трюма второй штурман с грустью наблюдал как куча неразобранных мешков, ящиков и коробок громоздилась горой на пайолах, и с каждым новым плашкоутом гора становилась всё больше и больше. И по мере её роста настроение Кондаурова падало всё ниже и ниже.
На следующее утро, уже в открытом море, старпом выделил под команду второго штурмана шестерых матросов для работы в трюме по сепарации заказов. Нужно было всю эту большую свалку разгрести на отдельные партии, предназначенные для промысловых судов, согласно их заявок. Над решением этой проблемы трудились четверо суток. Наконец, всё было закончено. Продукты в трюме рассортированы и аккуратно уложены. Дело оставалось за малым – раздать их.
Между тем, большой автономный траулер полным ходом следовал в район промысла, до которого из Кальяо было около 7- 8 дней хода в обход «Чилийских яиц». Чтобы наверстать упущенные двое суток, потраченные на погрузку продуктов, капитан пошёл на риск и решил срезать участок пути.
Дело в том, что, учитывая сложные отношения СССР и Чилийского государства, в котором продолжал свирепствовать режим диктатуры генерала Пиночета, советским судам, во избежание возможных провокаций, категорически запрещалось заходить в 200-мильную зону, являвшуюся одновременно, с одной стороны экономической, а с другой – территориальными водами Чили (страны Латинской Америки, забабахали себе, ни много ни мало, вот такие вот тер. воды). Если неукоснительно следовать этим предписаниям, и идти по кромке тер. вод Чили, то путь удлинялся из-за архипелага Ислас – Десвентурадас, куда входят острова Сан-Амбросио, и Сан-Феликс и архипелага Хуан Фернандес, принадлежавших Чили. Вокруг них тоже была установлена 200-мильная зона тер. вод.
«Морской народ» прозвал их «Чилийскими яйцами», меткое определение, отражающее их местоположение на морских картах, – два полукружья, нарисованные красным цветом. Капитан, наплевав на инструкции, проложил курс так, что судно напрямую пересекало зону «Чилийских яиц», проходя в 110 милях от архипелага. Опуская все подробности перехода, сразу скажем, что в результате рискованных, но, по мнению штурманов, оправданных действий «Генералов» выиграл около двух суток пути.
С названием судна «Алексей Генералов» связана одна комичная, казусная история, участниками которой на берегу стали жена и маленькая дочь Кондаурова. Приводя и забирая дочь из детсада, жена стала замечать особое отношение к себе со стороны персонала учреждения. Она отметила пристальное внимание воспитательниц и нянь. При её появлении женщины как-то особенно смотрели на неё оценивающими взглядами, шушукались, и всё такое. Это напрягало и раздражало. Наконец, она прямо задала вопрос заведующей, чем вызвано такое внимание к её скромной персоне. Смущаясь, женщина в свою очередь, задала ей вопрос
– Извините, пожалуйста, а правда, что Ваш муж – генерал?
– с чего это Вы так решили? Неужели я похожа на генеральшу? – рассмеялась жена.
– Вот и я говорю этим дурам, что здесь что-то не то… А они, нет-нет, так её дочь говорит, …такая молодая, и уже генеральша, надо же, повезло как!
В результате стремительно проведённого тут же, на месте оперативного расследования, недоразумение было выяснено и устранено. Оказалось, что на вопрос нянечки:
– Юлечка, а где твой папа? Почему тебя всё время приводит и забирает мама?
Девочка ответила – Мой папа – генерал!
Всё объяснялось, на самом деле, просто. Когда с моря приходили письма от мужа, жена штурмана показывала их ребёнку и говорила – Вот, Юлечка, папа написал нам с «ГЕНЕРАЛОВА». Воспринимая искажённо информацию, ум ребёнка трансформировал словосочетание «папа с Генералова», в «папу – генерала». Вот и всё. Бывает же!
Прибыли на промысел и в первую очередь занялись раздачей продуктов адресатам. Положа руку на сердце, дело в тех широтах Тихого океана, с учётом, погоды, не простое. Заблаговременно известив получателей груза радиограммами о своём подходе в промысловый район, моряки попросили, как можно быстрее получить свои продукты, так как овощи и фрукты уже начали подавать признаки порчи, несмотря на заботу о них моряков «Генералова».
С подходом к месту, мурманчан уже ожидали четыре траулера. Выбрав благоприятный просвет в погоде, продукты оперативно были выданы морякам. Оставалось одно судно – РТМС с Дальнего Востока. Названия, которого Кондауров за давностью лет, уже не помнит. Пусть это будет «Н……». Так вот, очень долго траулер дальневосточников не выходил на связь. Наконец, он отозвался, и оказалось, что он в 120 милях (район промысла в ЮВТО – очень обширный) от «Генералова». Очень неохотно дальневосточный капитан провёл радиопереговоры с мурманчанами и «так и быть» (сделал одолжение, сука), согласился на рандеву в условной точке. И ту, он обозначил как раз посередине отрезка пути между ним и «Генераловым». Ну, вот такой, чудак – капитан попался! Делать было нечего. Спорить с дураком не хотелось (он ведь сам, в первую очередь, должен быть заинтересован в получении продуктов). Капитан «Генералова» рассуждал примерно так:
– Морякам нужны были продукты, в конце концов, значит, надо было им их дать. Они-то не виноваты, что у них такой капитан.
Спустя сутки оба судна находились рядом. Они легли в дрейф в двух кабельтовых (примерно, 370 метров) друг от друга и моряки «Генералова» стали ждать катер с «Н……». Через сорок минут ожидания, когда мурманчане уже начали терять терпение, дальневосточники, вдруг, сообщили, что их катер не на ходу. Нет, они не извинились, а просто поставили в известность. Кулаки капитана «Генералова» только сжались, а скулы на лице заходили желваками. Глаза от гнева потемнели. Но, Кондауров, поразился его сдержанности. Ни единым жестом кэп не выдал своего возмущения.
На «Н……» моряки даже не пытались что-либо сделать со своим рабочим катером или спасательными шлюпками. Никаких признаков оживления или какого-либо движения на палубе дальневосточников не наблюдалось. Вот не было, и всё, как ни высматривали штурмана в бинокли, пытаясь обнаружить признаки жизни на судне.
– Да, что там, чёрт побери, происходит!? – не выдержал уже старпом.
– Ладно, – констатировал спокойным голосом капитан – Игорь, давай собирайся, повезёшь им харчи. В конце концов, это твоё заведование, тебе и накладные с них получать, … так что это «твой ваер», как говориться. Чиф, готовим рабочий катер! Чуть, задумавшись, добавил – в катере механиком пойдёт третий, так будет лучше.
Процедура подготовки рабочего катера была отработана, казалось, до мелочей. Но и здесь случилась накладка. Куда-то запропастился контейнер со шлюпочной пиротехникой. Искать не было времени. А шлюпочный компас, чтобы не путался под ногами в катере, Кондауров сам отодвинул в сторону. С учётом хорошей погоды, лимита времени и спокойной обстановки вокруг лежащих в дрейфе судов, второй штурман небрежно махнув рукой, решив – Ладно, обойдётся. Давай, спускаем на воду.
Ещё через полчаса рабочий катер, прикрытый высоким бортом «Генералова», мирно покачивался на воде.
– Хоть с погодой повезло – отметил вслух старший помощник, руководивший погрузкой продуктов. Кондауров, третий механик и палубный матрос в это время в катере принимали мешки и коробки.
С погодой действительно повезло. Океан был тих и спокоен, что было очень большой редкостью в тех широтах. Что ни говори – всё-таки, «ревущие сороковые»! И на тебе, такая удача! Только мелкий моросящий дождик изредка накрывал район хозяйственных работ (в ежесуточных сводках на берег о временных затратах судна данное мероприятие, которым экипаж занимался сейчас так и именовалось – «хоз. дела»). Моряки «Генералова» старались как можно быстрее скинуть с себя бремя последней отгрузки заказа и приступить скорее уже к их непосредственной работе – лову ставриды.
Нагруженный катер приткнулся к борту дальневосточника. Наверху, на палубе никого не было. Никто не подавал бросательные концы. Реверсируя ходами, Кондауров пытался удержать катер у борта.
– Ээ-эй, на борту! – пытаясь голосом перебить звук катерного движка, прокричал второй штурман. – Никого. Тишина – На шху-уне! Эээ-ге-гей! – повторил свой призыв штурман.
Наконец, наверху, поверх фальшборта показалась голова моряка.
– Чего надо? Чего кричишь?
– Нет, ну нечего себе, …бросательный конец будете подавать? Или как? Продукты ваши привезли. Давай, шевелитесь там! Ещё пару ходок надо сделать, это ещё не все продукты.
Ещё через пять минут на борту супертраулера наметилось какое-то оживление и на катер подали бросательный конец. Катер у борта закрепили фалинями, и работа по приёму продуктов началась. Сверху подавали конец (любая верёвка на флоте называется «конец», «кончик»), моряки на катере обвязывали им мешки с овощами, и по очереди отправляли на борт дальневосточника.
Катер, управляемый вторым штурманом ещё дважды поработал челноком между лежащими в дрейфе судами и, наконец, на третьей ходке подошёл к борту «Н…» с последней партией продуктов. Когда перегрузка закончилась, сверху спустили штормтрап, и Кондауров с документами вскарабкался на борт дальневосточника.
Только здесь, на палубе он разглядел поближе матросов. С первого взгляда, обычные моряки, но вот экипировка, внешний вид рыбаков, резали взгляд. Одетые в какую-то несуразную робу и замызганные фуфайки моряки были хмуры и неприветливы.
– Эй, штурман, а презент привёз, в смысле, водку из Кальяо?
– Привёз, привёз. Но перегружать буду только в присутствии второго штурмана или старпома. Где они? Зовите сюда…
– Через пять минут у места высадки Кондаурова «нарисовался» здоровенный бугай, лет сорока пяти. Это, воистину, был великан. Ростом, не менее двух метров, широкоплечий, могучий моряк. Протянул Игорю руку для рукопожатия и ладонь Кондаурова «утонула» в могучей длани.
– Второй штурман – пробасил он.
– Голос под стать внешности, – отметил про себя Игорь – вот же природа-мать, наделяет же людей такими данными – искренне восхитился он.
Под наблюдением штурмана матросы перегрузили из катера три коробки «Санта Марты».
– Ко мне в каюту – коротко скомандовал своим матросам великан – и смотрите у меня, там! … Если хоть одна бутылка пропадёт… ну, … вы меня знаете… – и для убедительности продемонстрировал морякам здоровенный кулак.
Моряки познакомились. – Ну, Игорёша, ты меня удивил, ей-богу, удивил. … Мне ещё никто презент коробками не передавал… Правда, продукты привозили свои, в смысле суда нашего флота… Вот, суки, … две-три бутылки, и всё… А ты, молодец, целых три ящика. Спасибо!
Говорили они на ходу, по пути к каюте штурмана, куда направлялись для подписания накладных. По ходу Кондауров рассматривал судно. Внутри оно было не лучше, чем снаружи. Уж простите автора, друзья-моряки дальневосточники, но из песни, как говорится, слов не выкинешь. Общее впечатление – грязь и запустение. Похоже, последняя большая приборка на судне была не менее месяца назад, а то и более.
– Это надо ещё постараться, довести судно до такого состояния. – думал Игорь, следуя за великаном.
В своей каюте, дальневосточник подписал, не проверяя накладные и проштамповал их судовой печатью.
– Не проверяю по количеству. Верю. Раз «презент» доставил как надо, то и с продуктами не обманул (там, конечно же, было другое неблагозвучное слово, вместо «не обманул», но оно бы наверняка, покорёжило бы слух уважаемого читателя).
Ящики с водкой принесённые моряками с палубы, стояли тут же, рядом. Великан достал одну. Распечатал и предложил Игорю
– Будешь?
– Спасибо, но мне ещё обратно.
– Ну, как знаешь, – и прямо из горлышка он сделал солидный глоток. Игорь аж передёрнул плечами, наблюдая за действиями моряка.
– Чего так долго не принимали катер?
Игнорируя вопрос, штурман просто небрежно махнул рукой.
Тогда молодой Кондауров вслед первому, бестактно задал второй вопрос – Стесняюсь спросить, коллега, а чего это Вы вторым здесь? По возрасту, вроде как, уже чифом или кэпом пора бы быть. Уж извините.
– а я и есть чиф, – улыбнулся великан – … в прошлом, правда. …Меня из чифов во вторые «смайнали» … Вот и отбываю наказание на галерах. Такие вот дела, брат. Ладно, раз не будешь, пойдём, провожу до катера. – и сделал ещё один солидный глоток из бутылки. После которого, как отметил Игорь, бутылка опустела наполовину. Стало понятно, за что его понизили в должности, в том числе и за «это».
Когда Кондауров спустился в катер к ожидавшим его морякам «Генералова» погода начала портиться. Над океаном появился туман и ветерок, вроде как, начал свежеть. Своего судна он не видел, потому как оно находилось с другой стороны дальневосточника. По переносной рации Игорь передал, что все дела он закончил, и они отходят в сторону «Генералова». Третий механик запустил движок. Моряки отдали фалини, и второй штурман направил катер в обход кормы дальневосточника, в сторону «Генералова». Когда он обогнул по корме «Н ……», то не увидел своего судна там, где ожидал. А туман уже сгустился внезапно настолько, что только что бывшая, казалось, рядом корма дальневосточника, пропала из виду. А ведь до него было не более 70 – 100 метров. Туман клубился и сгущался, он стал ещё плотнее. Лёгкое неприятное чувство беспокойства охватило штурмана. По рации он вызвал «Генералов».
– Мостик – катеру. Ванька (была вахта 3-го штурмана) вы где? Туман, я вас не вижу.…
– Катер – мостику. Мы дали ход. Обходим «Н…» по носу, пока он в дрейфе, чтобы поближе к вам подойти.
Выматерившись на несогласованные действия, Кондауров развернул катер, намереваясь вернуться обратно. А куда обратно? Бл@ть, они даже шлюпочный компас с собой не взяли, так торопились. Рукояткой реверса он уменьшил ход до малого, а затем и совсем заглушил движок. В самом деле, куда плыть-то? По рации он сообщил на «Генералов» о своих действиях и попросил по локатору определит, где они наблюдают катер и самим идти к нему.
Через пять минут третий штурман сообщил, что из-за сплошных помех они не наблюдают катер Кондаурова. Дальше трубку радиотелефона взял капитан.
– Так, Игорёша, не суетись. Мы застопорили ход. Погасили инерцию. Сейчас мы дадим гудок. Вот и ориентируйся на него.
Действительно, из тумана раздался мощный продолжительный рёв туманного гудка «Генералова». Направление, откуда он прозвучал, было понятно. Игорь с облегчением перевёл дыхание.
– Давай, запускай – скомандовал он третьему механику.
«Чихнув» пару раз и испустив шлейф чёрного дыма, движок весело завёлся и, чихнув ещё раз, …неожиданно замолчал.
– Что? Что такое? – механик, не отвечая на вопрос штурмана, поднял кожух двигателя и зарылся с головой в его внутренностях. Копошился он там несколько минут, потом повернул голову к Игорю, растерянно произнёс:
– Игорь, сам не понимаю, …ща будем смотреть пристальней.
Подавив готовые вырваться матерные слова, Кондауров, беря пример с капитана, тоже, поначалу спокойным голосом произнёс
– Миша, успокойся, … не суетись под клиентом, как говорила тётя Циля из Одессы. Давай спокойно, без суеты – но тут его терпение закончилось – …запускай, бл@ть! Заводи эту… чёртову гравицапу (фильм «Кин-дза-дза» был одним из любимых фильмов моряков «Генералова»).
О случившемся он сообщил на судно
– Хорошо, – раздался голос капитана, – давай по-другому. Туман висит низко над водой. Поэтому, дай красную ракету, мы её увидим и подойдём к вам сами.
– Чуть помедлив, Игорь смущённо передал на судно – Дмитрий Борисович, блин, нечем ракету дать. … Нету у нас пиротехники, … не взяли, сука. Торопились так.
В эфире повисло тягостное молчание. Кондауров ясно представлял себе, что сейчас говорит на мостике капитан, какими эпитетами награждает второго и старпома, если тот рядом с ним, не дай бог, на мостике.
– Так, ладно, – раздался через минуту всё также спокойный голос капитана. – вы там не суетитесь, спокойней. Главное, не пугайтесь. Пытайтесь разобраться и запуститься. Если получится, мы опять погудим. Мы тоже легли в дрейф.
Катер мерно качался на воде Тихого океана. Туман словно вата обложил моряков со всех сторон. Он был настолько плотным, что в пяти метрах ничего не было видно. Свежий ветерок, который они почувствовали было у борта дальневосточника при отходе, окончательно стих. Силуэт матроса на носу катера (весь катер 4,5 метра в длину) выглядел размытым. Механик молча продолжал ковыряться в двигателе, пытаясь выяснить причину неисправности.
– Дааа, Василич, зря мы им всю водку отдали. Ща по глотку бы не помешало, … для успокоения нервов. Надо было одну заныкать. Ведь была же в голове такая мысль. – Прокомментировал ситуацию матрос.
А положение моряков было по настоящему тревожным. Туманы в этих широтах тоже были не редкость. Порой, они могли висеть над водой днями, а то и неделями.
Три часа продолжалось вынужденное безделье Кондаурова и матроса. Один механик, бормоча себе что-то под нос, ковырялся в движке катера. Моряки изрядно продрогли на сыром морском воздухе, за исключением механика, занятого работой. Это при полном безветрии над океаном. Одежда стала противно влажной, волглой и никак не спасала от холода. Как ни кутались, не обжимали они сами себя руками, это не помогало. Всё равно было холодно. Изредка Кондауров обменивался информацией с мостиком «Генералова». Он поинтересовался, что с «Н ……». С моста ответили, что тот продолжает лежать в дрейфе неподалёку от них. На связь не выходит.
– Похоже, Игорь, ты вывел их из строя своим «презентом» – прокомментировал с мостика ситуацию третий штурман.
Была ещё одна опасность, что находящиеся в дрейфе судно и катер разнесёт далеко в стороны ветер и течение. И хотя видимого ветра не было, но всё же большая парусность бортов и надстроек траулера всё равно способствовала, хоть и не большому, но дрейфу. И только Игорь подумал об этом, как почувствовал на лице дуновение ветра.
– Вот – вот, я как раз об этом, – промолвил он себе под нос. Но в этом был и положительный момент. Ветер мог развеять туман. Вопрос только в том, развеет ли он туман раньше, чем их разнесёт с «Генераловым» далеко друг от друга.
– Ну, что, Василич, пробуем ещё раз…. Если и сейчас не получится, тогда я не знаю – сказал третий механик, вытирая влажной ветошью руки.
Чихнув несколько раз и выпустив клубы чёрного дыма, двигатель заработал на холостом ходу.
– Тааак, – радостно комментировал третий мех – давай, родной, давай. Василич, только подожди, не давай ход сразу. Пусть на холостом поработает.
Игорь не спешил докладывать на судно радостную весть, боясь спугнуть удачу. Наконец, третий механик разрешил.
– Давай, пробуем. Кондауров включил в схему муфту и катер на малом ходу заскользил по воде. Тотчас, связавшись с судном, он бодрым голосом отрапортовал о готовности и устранении неисправности и попросил «Генералова» обозначить себя гудком.
Из тумана раздался грозный протяжный «голос» судна. Направление на сигнал моряки определили. На него второй штурман и направил катер. Судно периодически обозначало себя гудками, и уже через десять минут Игорь увидел прямо по курсу большое тёмное пятно. Это был их родной «Генералов». Ещё через двадцать минут моряки были на борту судна. Никогда ещё Кондауров не был так рад увидеть знакомые лица коллег.
– Господи, ребята, если бы вы знали, как я рад вас видеть! – В сердцах воскликнул он, поднявшись на борт по штормтрапу.
Объяснения с капитаном, дорогой читатель, оставим в стороне. Можно сказать, только, что «встреча в верхах протекала в тёплой и дружеской атмосфере». Второй штурман выслушал всё, что о нём думает капитан. Старпом, при этом, благоразумно «слинял» с мостика заранее. Но он ещё раньше получил свою порцию малоприятных определений.
Для себя Кондауров сделал соответствующий выводы. На всю оставшуюся жизнь он буквально зарубил у себя в голове – собираясь в открытом море на катере даже на короткое время, даже при самой солнечной погоде и штилевом море, никогда не пренебрегай безопасностью. Впоследствии, став старпомом, и отправляя моряков на катере, он всегда сам проверял наличие пиротехники и шлюпочного компаса. А капитан Кондауров неизменно требовал соблюдения этого правила от своих старших помощников. С морем шутить не надо, господа. Оно ошибок не прощает! Для Игоря Кондаурова оно сделало исключение, вероятно, только лишь для того, чтобы эту истину он усвоил сам и донёс её до других моряков.