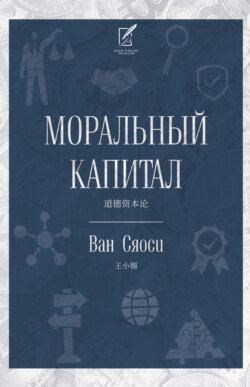Читать книгу Моральный капитал - - Страница 10
Глава 2. Экономика неотделима от морали
1. Нравственность как экономическая категория[38]
1. Основные идеи в истории китайской и западной научной мысли
ОглавлениеВо-первых, экономическая добродетель выражается в умеренности и разумности. Еще в исторический период Вёсен и осеней в Китае Янь Ин из царства Ци говорил, что «долг есть корень пользы»[39]. На его взгляд, в основе пользы и выгоды, которые стоят в центре экономики как хозяйствования, лежит именно нравственность, или же «естественно должное». Что нужно сделать, чтобы стать нравственным? Янь Ин дает на это ответ: «Мужи и простолюдины если сильны, имеют выгоду, ее нужно правильно ограничить, не обижая при этом. Назовем это сдерживанием прибыли. Чрезмерная прибыль все разрушит»[40]. Он также добавляет, что «умение уступить – большое достоинство, его можно назвать высшей добродетелью». Таким образом, Янь Ин считает естественный, нравственный смысл в экономике соразмерной степенью извлечения выгоды. Нельзя стараться поглотить все без ограничений, необходимо понимать, в чем уступить и сколько.
Чжу Си, чья доктрина нашла отражение в философии эпох Сун и Мин, придавал чрезвычайно высокую значимость содержанию дихотомии «справедливость – выгода». Он отмечал, что «если говорить о справедливости и выгоде, то для конфуцианца на первом месте справедливость»[41]; «справедливость соответствует природным основам, а выгода – то, чего хотелось бы людям»[42]. Следовательно, «когда в обычных делах нет изначального устремления к пользе и говорится только о выгоде, то это всегда в ущерб справедливости. Мудрый человек направляет действия только в сторону справедливости»[43]. Чжу Си считал, что «человечность и справедливость – это сердце, человечность есть коренная основа естественных начал, погубить человечность – значит разрушить главные законы людей и природы, это то же, что убить или унизить человека; но, если рана невелика, восполнить вред еще возможно». Продолжив ход мыслей Чжу Си, мы получим представление о нравственности экономики как экономической справедливости, являющейся продолжением основных естественных начал.
Конфуций превозносил «чжунъюн» – разумную достаточность, Аристотель в Древней Греции предлагал придерживаться «золотой середины», что применительно к экономике означает меру и соответствие. «Уверен, что за разумную достаточность “чжунъюн” нужно крепко держаться обеими руками, хранить ее в сердце и ни в коем случае не терять!», то есть, став на путь «разумной достаточности», характер и чувства следует поместить в границы «равновесной гармонии» и так придерживаться пути добра, не теряя его[44].
Для развития экономики достижение равновесной гармонии является высшей стратегией. По мнению Аристотеля, проблема выбора состоит не в выборе цели, она формируется сама как понятие; выбор должен быть обдуманным в отношении способа действий, направленности процесса и его рациональности, а соответствующие рациональные действия уже и есть цель. Люди стремятся поступать правильно согласно своим представлениям, а не ради каких-либо других целей[45]. Например, разделение с другими своих богатств может быть целью. Однако ее нужно должным образом реализовать: помочь тем, кому следует, в соответствующем количестве, в подходящее время – лишь тогда это будет добрым и достойным поступком. Даже раздавать богатство следует правильно[46], и только в этом случае такие действия станут воплощением нравственности.
Во-вторых, экономическая добродетель относится к нравственности экономики и к экономике, которая соответствует нравственности. Некоторые западные мыслители считают, что экономическая нравственность – это хорошее или плохое поведение в экономике. Английский экономист, исследователь этики Бернард Мандевиль хотя и считал, что «нравственность и добродетель – это только политический продукт, чтобы тешить тщеславие»[47], однако предлагал накапливать добродетели и творить добро, таким образом способствуя развитию и процветанию общества. Впрочем, как он сам говорит в «Басне о пчелах»: «От начала до конца книга объясняет: если мы хотим, чтобы наша торговля и ремесла процветали и развивались, ни в чем из множества разнообразных желаний и страстей не должно быть недостатка; ведь никто не может отрицать: эти желания и страсти суть не что иное, как наши дурные и низменные черты, или, по крайней мере, суть порождения этих пороков»[48].
По его мнению, источником стремления людей к наживе являются не какие-либо общественные блага, а многочисленные желания. Бернард Мандевиль вовсе не предлагает людям погрузиться в пороки, но признает, что экономическое и социальное развитие не может быть без дурного. Его экономическая добродетель относится к добру и злу как к стимулам, которые способствуют экономическому развитию. В этом заключается суть парадокса Мандевиля.
В доциньском конфуцианстве и моизме обоснование проблемы экономической морали другое, но взгляды на взаимосвязь между экономикой и моралью схожие. Конфуций говорил: «В государстве, где царит Дао, постыдно быть бедным и незнатным; когда в государстве нет Дао, постыдно быть в нем богатым и знатным»[49]. Экономическое развитие, богатство и достаток должны основываться на справедливости. Если она есть, то развивается экономика, улучшается благосостояние, и позор, если это не так. Здесь добродетели экономики – выгода и добрая воля – дополняют друг друга, выступая в единстве.
Утилитаризм моизма и изложенные выше представления о нравственности Конфуция как основателя конфуцианства «совпадают во многом, различаясь в малом», приводят в понимании и определении экономической нравственности к одной и той же цели, но разными путями. Например, Мо-цзы, как классический представитель школы моистов, в своей концепции утилитарности полагал, что экономическая добродетель – справедливое получение выгоды. Справедливость и выгода едины, то есть справедливость – это польза[50].
Как видно, Мо-цзы определяет справедливость или несправедливость наличием или отсутствием пользы: если есть польза, то это справедливо, в противном случае справедливости нет. Здесь экономическая добродетель определяется или обусловлена интересами. Мо-цзы использует другой путь к обоснованию экономической добродетели и истолковывает ее приравниванием выгоды к справедливости, лаконично поясняя, что экономическая добродетель – справедливое получение выгоды.
Во времена династии Мин Ван Шужэня спросили, можно ли добродетельному человеку обойтись без музыки, женщин, торговли и выгоды? На что он ответил: «Конечно, нельзя. Но если вы учитесь усердно, то нужно убрать лишнее, мусор, чтобы он не грудился и не мешал на пути к цели, тогда достичь ее будет легко и просто. Добродетельному человеку нужно лишь правильно и умело относиться к чувственным удовольствиям и выгоде, тогда ему будет все ясно и не скроется от понимания, что чувственные удовольствия и торговля, так же как все прочее, следуют законам неба». Иными словами, добродетель не исключает чувственные блага и выгоду, но они не обязательно согласуются с ней, а ключевым является именно достижение добродетели[51]. Чувственные удовольствия и материальная выгода пребывают в согласии с естественными правилами лишь тогда, когда соответствуют добродетели, в противном случае они ей препятствуют.
В-третьих, экономическая добродетель – это человеческая, социальная добродетель. Мыслитель Дун Чжуншу периода династии Хань придерживался натуралистической этики и считал, что единство выгоды и справедливости является предпосылкой для единства тела и души, без единства справедливости и выгоды нет телесного и духовного единства. «Небо сотворило человека, чтобы он создал праведность и пользу. Польза питает тело, а праведность питает сердце; сердце не может быть счастливым без праведности, и тело не может быть в покое без пользы», – говорил мыслитель. Распространив эту логику на экономику, получим, что выгода, польза и нравственность сосуществуют. Они органично объединены в экономической добродетели, представляют значимую сферу человеческой жизни и являются важнейшей потребностью общества. Поскольку добродетель в экономике – это добродетель человека, общества, то экономика обязательно должна быть добродетельной экономикой гармонии между людьми.
Французский экономист Фредерик Бастиа в своей книге «Экономические гармонии» писал: «На мой взгляд, человек, созданный в соответствии с волей Бога, может не только обобщать прошлое, но и предвидеть будущее. Конечно, не следует отрицать, что человек любит самого себя. Поскольку, с одной стороны, люди сочувствуют и заботятся друг о друге, а с другой стороны – у всех одни и те же эмоции в рамках человеческой деятельности, то любовь человека к себе самому, несомненно, в определенной степени подвергается ограничению и становится менее сильной и выраженной. Если эти особенности в человеке могут беспрепятственно сочетаться и проявлять себя, то какой общественный порядок возникнет в итоге? Если мы обнаруживаем, что результатом является не что иное, как последовательное движение к счастью, совершенству и равенству и все классы движутся к единому, все более высокому уровню материального, интеллектуального и нравственного развития, то это доказывает, что указанный Богом путь абсолютно правильный, и мы с радостью понимаем, что мир создан Богом безупречно, общественный порядок, так же как и другие законы природы, предполагает и доказывает возможность гармоничного существования»[52]. Экономическое развитие общества нуждается во взаимопонимании, сочувствии и гармонии в отношениях между людьми.
В-четвертых, экономическая добродетель – это экономическая свобода. Китайский философ Нового времени Янь Фу причиной отсталости китайского общества и неразвитости экономики считал отсутствие у народа права на самоуправление. Он отмечал, что только посредством свободы и невмешательства можно развивать социальную экономику и способствовать подъему и процветанию страны[53]. В истории западной мысли многие ученые утверждали, что экономическая добродетель заключается в экономической свободе и лишь при ее наличии инициатива субъектов может проявиться в полной мере и экономические отношения могут быть справедливыми и максимально эффективными.
Типичной в этом отношении является точка зрения Адама Смита, который известен как основоположник концепции свободного рынка. Его экономический либерализм долгое время влиял на развитие господствующей западной экономической теории. Центральной идеей экономической теории Адама Смита было невмешательство. Он считал, что каждый пытается реализовать собственные интересы (прибыль), не принимая во внимание интересы общественные. Люди не могут отказаться от личных интересов ради общественного блага, «находятся под руководством невидимой руки и изо всех сил стараются достичь цели, которую они не собирались достигать. И это не означает, что результат, который не был предусмотрен, будет вредным для общества. Их погоня за собственным интересом зачастую позволяет продвигать пользу для общества более эффективно, чем в ситуации, когда эта польза действительно происходила бы из их собственного намерения»[54]. По мнению Адама Смита, человеческая природа направлена на собственную выгоду, стремится к частному интересу, но корыстное поведение объективно может быть полезным для общества. В то же время он говорил, что «если какое-то дело приносит пользу обществу, его следует оставить свободным и открытым для конкуренции». Причиной стремления людей к богатству Адам Смит называл «тщеславие, а не комфорт или счастье», поскольку «именно такое стремление к славе пробуждает человеческое усердие и побуждает людей творить чудеса материальной и духовной цивилизации»[55].
Несложно понять, что это теория Смита о «невидимой руке», которая действует «субъективно для себя и объективно для других». Согласно ей, любое ограничение не способствует стремлению людей к личным выгодам, не содействует увеличению общественного богатства и принципу равенства в его распределении. Лучшая экономическая политика – это предоставление полной свободы частной экономической деятельности, в том числе свободы найма рабочих, свободы конкуренции, торговли, обмена, сделок, чтобы они развивались без искусственного вмешательства[56].
Китайские и зарубежные мыслители по-разному говорят об экономической нравственности: одни акцентируют внимание на моральности экономических действий, другие – на их полезности, третьи – на целесообразности, четвертые – на формах экономических действий, их эффективности и т. д. Каждый из них подходит к теории и практике этого вопроса со своей точки зрения.
39
Цзо чжуань. 10-й год правления Чжао-гуна.
40
Цзо чжуань. 28-й год правления Сян-гуна.
41
Собрание работ Чжу Си. – Гл. 24.
42
Комментарии к Лунь юй. – Гл. IV (Ли Жэнь).
43
Беседы Чжу Си. – Гл. 51.
44
История китайской традиционной этической мысли / Под ред. Чжу Итин. – Шанхай: Хуадун шифань дасюэ чубаньшэ, 2009. – С. 130.
45
Сун Сижэнь. История западной этической мысли. – Чанша: Хунань цзяоюй чубаньшэ, 2006. – С. 104.
46
Сун Сижэнь. История западной этической мысли. – Чанша: Хунань цзяоюй чубаньшэ, 2006. – С. 107–108.
47
Мандевиль, Б. Басня о пчелах / Б. Мандевиль; пер. Сяо Юй. – Пекин: Чжунго шэхуэй кэсюэ чубаньшэ, 2002. – С. 37.
48
Мандевиль, Б. Басня о пчелах / Б. Мандевиль; пер. Сяо Юй. – Пекин: Чжунго шэхуэй кэсюэ чубаньшэ, 2002. – С. 215.
49
Лунь Юй. – Гл. 8 (Таи Бо).
50
Мо-цзы. Основы. – Ч. 1.
51
Общая история экономической мысли Китая: история экономической мысли Нового Китая / Под ред. Чжао Цзин. – Пекин: Бэйцзин дасюэ чубаньшэ, 2004. – С. 344.
52
Бастиа, Ф. О гармоничной экономике / Ф. Бастиа; пер. Сюй Минлун [и др.]. – Пекин: Чжунго шэхуэй кэсюэ чубаньшэ, 1995. – С. 67–68.
53
Общая история экономической мысли Китая / Под ред. Чжао Цзин. – Пекин: Бэйцзин дасюэ чубаньшэ, 2002. – Т. 4. – С. 1740.
54
Чжан Хайшань. Теория экономической этики. – Гуанчжоу: Чжуншань дасюэ чубаньшэ, 2001. – С. 7–8.
55
Чжан Сюйкунь. 18 лекций по истории западной экономической мысли. – Шанхай: Шанхай жэньминь чубаньшэ, 2007. – С. 112–123.
56
Гу Су. Основы теории либерализма. – Пекин: Чжунъян бяньи чубаньшэ, 2005. – С. 243.