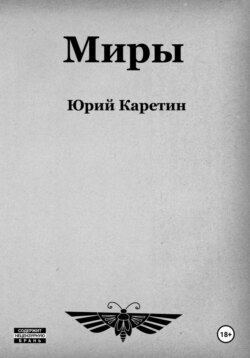Читать книгу Миры - - Страница 6
Запах
ОглавлениеКогда-то в детстве у меня было две кассеты с альбомами группы «Мираж». Я переписал их с кассет моего троюродного брата и слушал целыми днями напролёт. Я сидел за столом в своей комнате, формально делал уроки, но на самом деле ничего не делал, просто сидел и думал, или занимался «ничем», или делал уроки очень медленно, отвлекаясь каждые несколько секунд. И так годами. И всё это – под песни группы «Мираж». Магнитофон еще не мог сам менять сторону кассеты, и каждые 30 минут его приходилось выключать и кассету переворачивать на другую сторону вручную. Причём магнитофон даже не выключался сам, продолжая с тихим поскрипыванием моторчиков тянуть закончившуюся плёнку. Однажды плёнки кассет начали сами скрипеть. Видимо состарились, затёрлись, не знаю почему, если дать плёнке отдохнуть и проиграть один раз, она ещё не успеет начать скрипеть, но если проигрывать снова, начинал периодически появляться ужасный скрип, постепенно становившийся беспрерывным, так что слушать становилось совершенно невозможно. И я стал «Мираж» экономить. Как от скрипа плёнки, так и от собственного заслушивания. Я решил слушать «Мираж» раз в год, только на свой день рождения, чтоб сохранить.
Через много лет я занялся созданием картин из веточек засушенных растений. Веточка приклеивается к текстурному бумажному фону и вставляется под стекло в красивую рамку с двойным паспарту. Двойное паспарту сделает произведение искусства из чего угодно, из любой сухой веточки. Но особенно красиво получаются пышные веточки, типа можжевельниковых. Они в высушенном состоянии очень хрупкие, к ним лучше вообще не прикасаться, но и сушёные они сохраняют свой аромат. Для того чтоб бумага, к которой приклеена веточка, не коробилась от перепадов влажности, лучше все щели с обратной стороны картины залепить бумажной клейкой лентой, да и меньше грибов и паразитов туда проникнет. Много я таких картин понаделал в подарок, одна красивее другой, они разъехались по миру со знакомыми, друзьями, родственниками, коллегами, они висели на стенах и лежали в подвалах и на чердаках, были спрятаны в шкафах и стояли на столах, ждущие, когда же дойдут руки их повесить, они висели на бетонных стенах многоквартирных домов и деревянных стенах летних домиков…
Мы не осознаём хрупкость наших жилищ. Зная, что дом – это всего лишь дом, а не крепость из абсолютно непроницаемого материала, мы на самом деле не чувствуем этого, интуитивно мы представляем его себе как что-то нерушимое, как абсолютную защиту от внешнего мира. Ну, может быть не так у тех, на кого дом обрушался. Когда ночью меня разбудил вой сирен, тут же сменившийся оглушительными взрывами и лязгом разбившегося окна, когда меня обдало холодом зимней улицы, и я увидел свою постель, засыпанную осколками стекла, первое что я почувствовал – страшный неуют. Подсознание первое сгенерировало абстрактно-эмоциональную идею неблагополучия, когда мозг ещё только просыпался и не имел никаких мыслей по поводу происходящего. Неуют от этих оглушительных ужасных звуков, рвущих сон на куски, но не торопящих пробуждение сонного сознания, от холода и стекла, говоривших ещё не осознанным ощущениям – что дело плохо и, по-видимому, очень плохо, так плохо, что когда разум проснётся нужно быть готовым, что это всё быстро не исправится. И главное – пути назад не было. Когда я просыпался и обнаруживал, что проспал туда, куда просыпать было нельзя, я в досаде падал головой на подушку и спокойно лежал ещё хотя бы несколько секунд. Здесь опустить голову уже было нельзя. Холод и стекло. Стекло даже в волосах. Но осознать происходящее разуму было не дано, это меня спасло. Гигантская обжигающая волна возникла за окном и ударила, в этот раз разбилось не окно, разбился сам дом, всё сдвинулось и начало падать, в последний момент тело почувствовало, что так же, как дом, разрушается. Без боли, без страха, без понимания причин и последствий, просто факт. К счастью, обрушение на меня дома сознание уже не застало. Я умер.
Не всем повезло так, как мне, не все оказались в эпицентре. Но и теперь у них есть свои маленькие радости. По крайней мере, теперь они снова могут спокойно опустить голову на подушку и полежать несколько секунд. Всё живое, кроме человека, исчезло. Всё сгорело, а потом пепелище покрыла толща снега смешанная с пеплом. Но человека не так просто истребить, в момент катастрофы кто-то из людей оказался на полюсах, глубоко под землёй, на дне океана, даже в космосе, впрочем, последние не вернулись. Просыпаясь в руинах, засыпая в руинах, не встречая на своём пути ни одного человека, скрываясь от холода под толстым слоем тряпья, посвящая все свои дни поиску консервированной еды многолетней давности, приучая себя не думать о голоде, пытаясь фильтровать и обезвреживать растопленный снег, который даже прокипяченный и отфильтрованный отнимал здоровье и приближал ещё быстрее к смерти, он жил только своей памятью. Никакой морали или урока он извлечь из теперешнего своего опыта не мог, ему не хотелось здесь существовать, он максимально дистанцировался от этого мира, ушёл в себя. Хотя он мог выйти в любой момент на поверхность и пойти в любом направлении по заснеженной пустыне туда, куда захотел бы, он был словно в тюрьме, как заключённый годами в пустую камеру, он восстанавливал свою жизнь до катастрофы буквально минуту за минутой. Он научился погружаться в неё, чётко и последовательно вспоминая весь непрерывный ход жизни с любого произвольно взятого дня, будто под гипнозом его память восстановилась и вышла на поверхность сознания в буквальном своём объёме. Он уходил в прошлое, жил в нём, не вспоминая отрывочные события, а действительно живя там «в реальном времени». Он чувствовал воздух, до малейших колебаний летнего ветерка, до почти неуловимого ощущения повышения влажности при приближении к озеру, которое откроется только через мгновение между ветвями деревьев, он чувствовал запах дождя, которым наполняется августовский воздух за мгновение до того, как упадут первые капли. Он чувствовал землю, как меняется мягкость и текстура её, даже через подошвы сандалий, когда с асфальта ступаешь на траву, а с неё на вытоптанную в траве тропинку. Он проживал ещё раз все встречи, расставания, секунды, часы, дни и годы общения со всеми людьми, которые были в его жизни, но теперь его мысли не склонялись к фантазиям: надо было сделать так-то и сказать то-то, как то происходило постоянно до катастрофы, теперь всё, что было в его жизни «до» имело безусловную самоценность само по себе, в таком виде, как оно случалось в реальности, и даже именно в таком виде. Он как будто видел красоту каждого мгновения того, ушедшего навсегда, мира. Он смаковал каждую минуту той жизни. Он постфактум научился быть счастливым в той жизни, будто это счастье жизни было с ним всегда, но он о нём не знал, а вот теперь нашёл и пересмотрел всю свою жизнь, видя его постоянное присутствие. Это счастье было достаточно всеобъемлющим и надмирным, чтоб пронизывать каждое явление и событие его жизни, вне зависимости от того, было ли оно для него тогда объективно позитивным или негативным, благоприятным или разрушительным. Только на мир после катастрофы это уже не распространялось, то была работа с тем миром, а это уже – совсем другой мир.
Он создал себе уют, отгородившись от подземного холодного непроглядно чёрного пространства в маленькой комнатке, такой маленькой, что в ней был лишь небольшой пятачок свободного пола, такой маленькой, что она полностью освещалась масляной лампадой. Он специально завалил её, чтоб возникло ощущение наполненности, переходящее в ощущение уюта. Стол был завален книгами, старыми газетами и бумагами, кровать была завалена старыми одеялами, остатками старой одежды, которые уже можно было назвать тряпьём. На полках лежали нужные вещи, импровизированная кухня с запасами банок, водой, маслом, фитилями и умывальник довершали интерьер.
Ничто в этом новом мире не напоминало о мире другом, прежнем. Все вещи были происхождением оттуда, но они так обветшали, так пропахли этим миром, что стали его частью. Все, кроме одной. У него не было электричества, чтоб слушать музыку или смотреть видео. Книг, которые имели для него когда-то значение, сейчас у него не было тоже, была лишь та макулатура, которую удалось насобирать по подвалам и складам, обшариваемым в поисках консервов. Фотографии тоже остались где-то в пепелище. Всё, что у него сохранилось от того мира – это картина. Засушенная много лет назад веточка какого-то хвойного дерева, красиво обрамлённая в рамку с паспарту. Паспарту пожелтел, сама веточка давно стала неопределённого темно-серого цвета, но самое удивительное – она пахла! Он решил доставать и открывать её лишь два раза в год, на новый год и на свой день рождения. Хорошо, что день рождения был поздней весной, и между двумя праздничными событиями, сопровождавшимися открыванием картины, было почти полгода.
Вы задумывались, в чём смысл наряжания новогодней ёлки и украшения комнаты в праздничное убранство? Кроме того, что это красиво, а человеку свойственно тянутся ко всему красивому и яркому. Вот вокруг него не осталось ничего красивого и яркого, а он всё равно сооружал искусственную индустриальную ёлку и наряжал комнату, подвешивая на верёвочки гирлянды винтиков, гаечек, каких-то мелких запчастей, округлых камушков и бумажных бантиков, обрамлённых ниточками. Человеку необходимо обновление, ему нужно что-то выходящее за пределы обыденности, ему нужно «что-то другое». Поэтому он очень любил праздники, он начинал готовиться к Новому году недели за три, обыденность давила на него, и он с упоением совершал ритуал праздничного украшения комнаты.
Возможно, посторонний глаз, взглянувший на уже украшенную комнату, и не заметил бы в его трудах ничего выдающегося, поскольку сами украшения были несколько специфичны, но для того чтоб понять всю серьёзность подготовки, нужно было видеть её в процессе. Украшения развешивались в сложно-симметричном порядке, петли чередовались с полосками, короткие с длинными, если идея первоначальной композиции оказывалось не очень интересной, он всё аккуратно снимал и перевешивал, гирлянды гаечек напоминали капли росы на утренней паутине, ёлка казалась хрупким воздушным слегка заржавевшим роботом, составленным из сотен деталей, соединённых проводками. Время от времени он, экспериментируя, зарисовывал приходившие ему на ум идеи группировки украшений, чтоб реализовать их к следующему празднику.
И вот приходила праздничная ночь, освещённая необычно большим числом фитилей, приходила в убранной и украшенной комнате, память наполняла её музыкой и голосами празднующих друзей. И тогда он доставал из-под толстой пачки тяжёлых бумаг картину. Держал её в руках, долго смотрел на неё, протёр ещё раз стекло. Он всё делал теперь долго, спешить не было смысла, как и в тюрьме, чем больше времени занимает какое-то дело, тем лучше. Потом перевернул. С обратной стороны картина была заклеена по краям специальной клейкой лентой, изолирующей её от влияний внешнего мира. От многократных отклеиваний и от времени клейкая лента теперь совсем не держалась, но если её плотно прижать, всё же, как будто приклеивалась. Поэтому он не вешал картину, а держал её прижатой бумагами – бумаги должны были герметизировать веточку в картине, прижимать состарившуюся клейкую ленту. Ему, скорее всего, осталось прожить всего несколько лет, а на этот срок картины хватит. За пустым, чистым праздничным столом он аккуратно отклеил кусочки клейкой ленты со всех четырех сторон картины, положил их рядом клейкой стороной вверх. Перевернул картину, положил на стол и осторожно поднял рамку со стеклом. Веточка с картонной задней стенкой картины осталась лежать на столе. Он каждый раз немного боялся, что запах исчезнет, но чудо сохранялось, веточка каждый раз источала настоящий можжевеловый запах, запах живого ушедшего мира. Пока что запаха хватало на несколько вдохов, где-то на минуту или на две, если вдыхать не спеша, поднося веточку всё ближе к носу. Пожалуй, это было единственное, что осталось от того мира и принадлежало при этом к объективной реальности. Лишь маленький элемент в огромном мире прошлого, восстановленный им. Он отложил стекло подальше в сторону, взял в руки картонку с веточкой, поднёс к лицу и, закрыв глаза, медленно вдохнул.