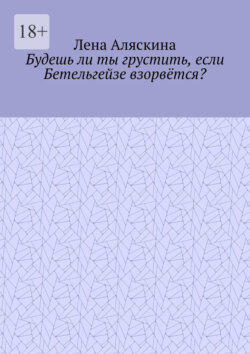Читать книгу Будешь ли ты грустить, если Бетельгейзе взорвётся? - - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ii. воспоминание о конце света
ОглавлениеПоджигать листы из медкнижки, прокалывать по переплёту, длинновязкие слова перечёркивать перманентным маркером, рвать на кусочки рентгеновские снимки; отбивая потресканный холодом экран пальцами, она старалась высчитать, сколько их минуло, этих автономно-непрожитых месяцев, канканы зыбучих песков-минут, растаскавших по клочочкам её память, её мозг, весь её разум, ледяными поцелуями вдохнувших в неё излучение, которое теперь не вытащить из слизистой до конечного миллиметра калильного барометра – и скольким ещё предстояло уйти в небытие и исчезнуть бесследно во врагах-рассветах из крови, которые никогда для неё не наступят. Жизнь двигалась дальше, а она всё стояла в больничном коридоре с отметиной чужих жалостливых глаз вмятинами на лице, ожидая проснуться среди ночи с осознанием того, что ничего не случилось, даже если собственное сердце по клеточкам сжирало её мышцы и кости, даже если это ощущение наконец обрело своё имя.
– Вам осталось немного.
Где-то по комнате витал обрывистый голос – канадская манера чётко выговаривать согласные.
– Не волнуйтесь так сильно, речь идёт о месяцах, а не о днях. В этом плане проведение операции играет если не решающую, то важную роль. Подумайте об этом. Она дорогая, но очень эффективная. И поговорите с семьёй, пожалуйста.
Где-то по комнате витал обрывистый голос – и мешался с нотами другого, поднебесно-чистого, мягкого, в отчаянии нежного, разодранного, крыльев трепетанием порхающего в ушах круглыми сутками вперемешку с сигаретной драпировкою в лёгких, а Вояджер-1 вылетал в желудок межзвёздного пространства; и другой голос произносил спокойно, не очень собранно, но уже как будто бы на всё давно решившись, когда они шли по той паутинными тенями, артериальным потоком заката по диагонали облепленной пыльной аллее:
– Я хочу стать кем-то значительным.
Миша тогда остановился, словно только что осознал величайшую тайну вселенной, которой оказалась не постройка корабля до Марса с цветущими яблонями и не формула вечного двигателя, – просто он хотел быть кем-то, мечтал о чём-то, надеясь на электрически-светлое будущее, был готов беспрестанно двигаться вперёд вместе с ней, со всеми ними – плечо о плечи, – под раскидистыми глазницами церападуса, так, словно в запасе у них было всё время мироздания, но правда в том, что времени больше не было: оно рассыпалось, как песчаный замок, вот и всё.
– Раньше я хотел стать знаменитым, Уэйн, – он точно в полусне повторял, обрывая в бледно-розовой улыбке массив рассеянного смеха, ту простую священную истину, глядел на неё под вязью умирающих крон – незнакомо, с тем же остаточным сквозь холода человеческим теплом, с каким глядел на верхушке холма. – Даже не так. Я хотел… стать кем-то большим, чем человек. Понимаешь, да?
Уэйн улыбалась воспоминаниям, погружаясь в бездну: сильнее, чем она, этого никто не хотел.
Дожидаясь очередного приёма в коридоре, она по памяти рисовала его портрет: созвёздные осколочные камушки вместо глаз, стёклышки ресниц, вьющиеся от жары, усеянные овсяницей и обрывками надломленного светатремора, блеск на губах взрывался, – её скетчбук не был полон милейшего волшебства настолько, насколько мишин, но он всё равно называл потрёпанный, время от времени забывающийся блокнот воплощением магии. Магия, перепелиные чудеса-скрижали, детонация стеклоглазых призраков в яркокукурузных свитерах-пейзажах, арбузовые и банановые чупа-чупсы, картинки с психопомпами, мыльными пузырями присылаемые Тео в общие чаты, были его пищей, как маленького божества; а потом поросшая лозою дверь распахнулась, и за вышедшим пациентом выполощённое в карандаше сознание отрезвил голос-транквилизатор врача.
Она не нашлась, что сказать Мише, когда тот встретил её после, закрыв собой коридорную лампочку (рассыпалось ржавым нимбом, осело на костлявых предплечьях), – и не знала, как спросить о той неожиданной ночной нежности, после которой они стали делать вид, будто ничего не произошло между ними; у Миши всё ещё была Люси, они в четыре руки перетаскивали её вещи из общежития. А когда он рассказывал, что где-то в Израиле умные учёные в сложноустроенных лабораториях пытались симулировать излучение Хокинга, у него аварийно горели медальоны-глаза. В околобольничном саду едва освещённая кладка упиралась в припудренный миражами и крохотный сквер свеже-зеленистой зоны.
«В любом случае картина станет более детальной после проведения анализов. Эхокардиография, рентгенография, УЗИ… для точных результатов и с нашими очередями это займёт как минимум пару недель, я думаю».
В доме Джеймсов всё всегда было одинаково, каждую вечеринку начинали с пластинки The Beatles, укрытая толстовкой с «Твин Пикс» Ева каждый раз с порога интересовалась, какую начинку в пицце стоит попробовать, братья Лилит с верхних этажей перед стендом с фотографиями улыбались одинаково безучастно. Ночник в виде летающей тарелки – зеленоватый конус свечения тянул вверх корову на подставке, а фенечки в ящиках, резинки, серьгижелезные-полумесяцы, диски Нирваны, резинки со звёздочками, картхолдеры и гигиенические маски со Скуби-Ду всегда тяготились в плену спутанных проводами наушников; были навигационные звёзды, был дом из путей в преисподнюю, нисходящих во внутренние жилища того, о чём нельзя было разговаривать. Уэйн погружалась в бездну, она думала о том, что когда-нибудь – примерно через сорок тысяч лет – робот по кромешной тьме промчится мимо Глизе 445 недалеко от Полярной звезды, и ему останется бесконечно балансировать по Млечной железной дороге, так же, как балансировал Миша у неё на кровати, сваливаясь на хлипкий неустойчивый над металлическим каркасом матрас.
Она подписала отказ от госпитализации и не стала вставать ни в какие очереди, и день начал литься за днём неконтролируемым водопадом гелевой пасты, улицы Анкориджа наполнялись оранжевым шумом, шумом шелестело на страницах скетчбука, в потресканных глазах сестры с соляными шахтами, в залитых напряжением морщинках на её лице. Сердечная недостаточность пахла паслёном. Кедры на заднем дворе больницы оглядывали высоту в десятки метров, в парка вглядывались вход. Она не нашлась, как сказать об этом Мише, когда после пар сквозь режущую сетями прохладу возвращались по домам, с троп, которые рассосались вокруг CVS, на них особенно чесночно сияли горки листьев, он указывал рукою на белоснежно-тусклую мерцающую вдали Полярную звезду, от неё траектория отточенно велась к ковшу, и Большая Медведица светила на них, как зал под свечами-софитами, затем – вниз – по колонне звёзд и обрыв, точно аттракционный трос, над влажно-рыжеватым экватором кампусного квартала.
«Вы не хотите ложиться в стационар? Разве ваше здоровье не важнее учёбы, да и всех остальных вещей?»
Последний день сентября, обёрнутое лязгом занавесочных колец по карнизам раннее утро, она запомнила этот момент расчленённо и фрагментарно: над облаками-наслойками свистели ласточки, скребя горизонт, горел яичный, не выключенный с ночи фонарь, припекающий калением их макушки. Миша словно по канату шагал вдоль стального бордюра, по окольцованным лимонностью и снегами вымершим тротуарам, сбивался на выступах, хватая Уэйн за плечо в порыве, потом улыбнулся, спросил:
– А ты будешь грустить, если Бетельгейзе взорвётся?
Кривая лягушка с вытянутыми глазницами на его футболке вопрошала без знака вопроса: «Hi, How Are You», и над ним было только небо, потому что над ним всегда было только небо. Над кроватью Уэйн в её комнате висел постер «клуба 27».
В том безвоздушном обрывистом он остался для неё сплошною невероятностью: дождём оплаканный асфальт, олдскульный рок, ажур кружевных теней под смородиной солнца, Конан Грей, компасно звучавший вслух в стенах-параллелограмах приземистых бетонно-жилых катакомб, сборник задач по физике за первые курсы, радиоизотопные источники энергии зондов, бесконечность сигаретной юности и невозвратной северо-беспросветной весны.
Он был тем же, кем был на душащем чувствами верху холма под Альдебараном – он всегда был таким. Сильнодействующим и безобидным, как экспериментальная модель водородной бомбы. Неприступным, словно небоскрёбы в коричной посыпке, растущие у него из лопаток. Иногда всем, что их разделяло, оставалась тончайшая прозрачная кабинка в душевой спортцентра, но это расстояние чудилось таким же ненормированно-огромным, как бассейн Тихого океана.
«Тогда давайте как можно скорее подберём медикаменты и назначим лечение, тогда у вас будет год или два. Нужно регулярно проходить осмотры, чтобы сдерживать дальнейшее развитие болезни. А без лечения останется… около шести или семи месяцев. Хроническая форма может перерасти в острую. Я дам вам брошюрку, но поверьте мне на слово, это всегда неожиданно. И вы не сможете прожить эти полгода обычной жизнью: может развиться инфаркт миокарда, лёгочная гипертензия, могут начаться проблемы с желудком, почками и кишечником. Если сердце перестанет справляться со своей работой, возникнут проблемы с памятью и другими когнитивными функциями. Любое переутомление может быть чрезвычайно опасным».
– Опасным?
– Да.
Врач глядел на неё по-птичьи, слюдянистыми под солнцем глазами, росчерк зрачка, ослепляющий болью, обречённостью до дрожи пробиравший вдоль позвоночника, таял над склоном линзы, тонко и хищно виснул где-то вверху, в размагниченном лампочном свете; и Уэйн вообразить себе не могла взгляда страшнее этого.
– Так я умру? – спросила она и затаила дыхание, ни капельки не вникая, куда собиралась завести разговор. Подсознательно она продолжала шагать сквозь призраков в белоснежных халатах с замиранием где-то внутри бронх, глубже кровянистых сгустков, ожидая невесть чего, будто эта – мглистая, розоватая бездельная вечность, – могла бы навсегда сохранить её безоговорочно юной.
И доктор спокойно впился льдинами-анальгетиками в глубину кабинета:
– Вы умрёте.
Время вальсировало с мерзкою антикосмической скоростью, крестиками вычёркиваясь из настенных календарей и утопая в газовых котлах ночников, желтящих снеговое рассыпчатое, где лунные плеядные лучи словесным сыпались меж кроссовок. Миша, когда не хотел идти домой, лежал у неё на коленях в огромной гостевой зале, затягиваясь, рассказывал о нескончаемых рисовых полях, грушевых деревянных стволах, с которых падать было приятнобольно, притягивая с коленных синяков зуд к собственному сердцу, о трёхкилометровых прогулках до каменистого песчаного пляжа возле порта. Потом находил в Apple Music лайвы Джулиен Бэйкер и запускал их на большом экране телевизора. Всматривался в Уэйн, как в образ: всё ещё – незнакомо. Чтото большее, чем человек. По его чернильному, напрочь лишённому звёздной сыпи-россыпи шопперу древесно-цветочной кляксой расплывался пацифик.
В его общажной каморке цвело много ядовито-белого и много смежного с нею: обои, белый потолок с рыбой-солнцем по центру, четверть пустоши занимал большой икеевский письменный стол, на полу ковёр, ласкавший вечно босые ступни пушистым светло-серым ворсом, над кроватью блестел и шуршал огромный плакат звёздного битого калейдоскопа, потрёпанный от того, что кочевал с ним из комнаты в комнату, на полках – красочные корешки научной фантастики и атласов-энциклопедий, и прочный канат их связи-похожести в этой белизне абордажных крюков точился и истончался, но Уэйн долго под шеренгою пятен льющейся с человеческого улья желтизны гипнотизировала взглядом его по-рыбьи пустые глазницы, радужки, в кромешной тьме акульеброские хребты зрачков; у неё маниакально перехватывало дыхание в эти мгновения, раскачивание без стабилизации между хронической лёгкостью в каждой ткани и компульсивно-смутным осознанием близости, при малейшем колебании которой голова шла кругом. Она была слишком погружена в эти вспышки образов напротив, чтобы успевать за изменениями в медкарте, – надеялась лишь, что сможет бежать так же быстро, как вокруг оси вращалась Земля.
Анкоридж к похолоданиям был уже целиком изрезан замерзающими кварталами и перекрёстками, порезы выступов его панельных муравейников, отличающиеся друг от друга только узором арматурных подтёков, мимо полотенец распустившихся на дымчатом кирпиче, кровоточили, как через толстый слой бинтов. Эти парковые районы, из которых по крупицам начал ускользать зелёный лакричный шум, которые насквозь пропахли фуд-кортами и лососем, которые осеннились разводами – обезжиренный бледно-персиковый – и походили на костлявый рыбий скелет, преходящие одуванчики, мать-и-мачеху, эти разбросанные по ярусам автомобильные магистрали, меридианами делящие клетку изъеденных тонкими коттеджами улиц на по-луговому фисташковые матовые газоны и пчелиные сети бумажных особняков, всё слишком сильно здесь ей въелось под кожу вместе с вечною мерзлотой.
Половина топлёного года – яркий, но тускнеющий от боли взрыв бессюжетности – представлялась Уэйн наркозной пропастью, заполнить пустоту которой оставалось попросту нечем. Густой мох иссиння-кварцевых облаков, бирюзовая морось снега. Тусклое предспячное солнце раскинуло лапы, сея богозданный свет. Эти сантиметры, которые нужно было перешагнуть до окончания всего, обещали быть ничем, кроме медленного разрушения.
«Когда пойдёт дождь, все листья в Эртквейке опадут», – чьи-то голоса – тени голосов – сквозь глинистую прослойку божьекоровьего ушного шума долетали до неё из толпы. Во всём сверху, в звёздах, терялся запах машинных выхлопов, горячих куриных бульонов и белеющей под ватой сирени, облетевшей многоцветием, дорожки неизвестно куда. «Осень такая короткая». «Верно». «Поскорее бы зима прошла, чтобы снова стало тепло. Не хочу носить столько одежды!»
Смартфон слишком резко подал вибрацию о входящем, и пока Уэйн тащила его из кармана, клёпки на молнии ветровки трещали металлоломом. Сообщение от «любимого» с пурпурным сердцем из пикселей мерцало с экрана, и она испугалась лишь на секунду, но зрачки её всё равно расширились, как у готовящегося к прыжку животного.
: ты уже всё сдала? прости, что не успел встретить. увидимся через час в нашем месте?
И никаких смайликов, улыбочек, двух угловатых стрелочек в виде зажмуренных глаз. Место, в которое любимый звал её, не обладало никакой кусачими звёздами и цветами пропитанной романтикой, – самый простой и скудный Сабвей на северной части Тауэр-роуд, там всегда было полно людей, панорамные окна засвечивали все в крошках кунжута столы. Она напечатала, как печатала всегда: «хорошо», достала сигарету, затянулась почти мгновенно, поглядела на солнце, застрявшее по ту сторону здания музея авиации. И забыла, как оказалась за этим окровавленным снежинковым хлебом морем пластмассового стола, под словно петлёю над макушкой висячей лампочкой, создающей круг лужи между ним и нею.
С пальцами в незнакомых блёстках, с рифлёно-матовым чехлом на телефоне с принтом NASA под бликующими малиновыми царапинами – он тогда нескладно склонил к плечу голову, получилось по-детски судорожное движение, волосы остриженные опали в ямку основания шеи, а впереди – за его спиною – гудела темнота.
– Кто-то из нас должен сказать это. Давай расстанемся.
Оправил локон чуть поверх уха, но жест всё равно потонул в общей пищевой болтовне, в промозглости инертных, колющих тьмою стен в чалмах, в жалюзийной решётчатой серости, в гуле автомобилей, который прорывался с широкой улицы в паре десятков метров. Уэйн не вздрогнула, – не сразу поняла ни цепочку этих слов, ни каждое по отдельности. «Расстанемся»? С тянущейся фруктовою жвачкой приторной полуулыбкой на кончике слога.
– Я сделала что-то не так? – голос её подёрнулся прелью, сорвался и соскользнул в хриплость, немного севший, вытек под рёбра-веточки, она и сама его не узнала.
Его лицо потемнело, будто ужаленное иглою. Кончики чёлки закаменели, как воском, жаркими частичками кондиционера с шиммером, когда он вскинул голову. Этот снежный ледник формы Тихоокеанского университета, во весь рост написанный среди блистательной кафетерийной глыбы-полости, в начинающем припекать солнце медленно – тощий, но не настолько, насколько собственный, пластичный, ахроматическое омбре, нижние складки отражением влаги – весь раскалывался резонирующими отблесками, одна и та же аналемма просвечивала рукава его не шевелившейся блузки, руки были опущены вниз.
– Нет, не бери в голову, – отозвалась Уэйн на немой вопрос, придя в себя. – Знаешь, это… это было достаточно долго… Да. Долго. И почему ты вдруг принял такое решение? И почему сейчас?
Он зачем-то поджал губу, как если бы действительно чувствовал себя виноватым, и словно против воли, замявшись на паузу, его истончившийся голос выдал с неуместной серьёзностью в склеенные хищнической лапой ветчины слотки хлеба: у меня есть другая. Ресницы заволокло светом под блеском электричества и непонятной эмоцией – нечитаемой настолько, что Уэйн почти поверила, что это очередной анестезийный сон; она слишком много раз видела это у себя в голове – то, как быстро и стремительно всё исчезает, рассыпается, ускользает, тускнеет. За пределами естественного освещения эти ресницы превращались в смольные лучи, тянущие за собою в небытие. У меня есть другая. Уже некоторое время. И я хочу сделать ей предложение. Я не могу больше лгать ни тебе, ни ей. Я хотел рассказать тебе раньше, прекратить всё, но… все эти медосмотры, потом твой день рождения, и…
…и что-то там ещё, Уэйн уже не слушала, Уэйн не слышала, Уэйн оглушили и в ушах так и стояло: предложение… предложение… фразы – спаянные вместе помехи плёнки космоса под россыпью звёзд… предложение… и она сидела, не существуя в этой невымытой, прогретой кофемашинами забегаловке, которая была словно болотная чёрная топь весенним половодьем с тех самых пор, как они сошлись более семи месяцев назад и как меньше, чем через три недели после того её впервые положили на стерильную койку: он сдавал анализы для абонента в тренажёрный зал, она проходила ежегодное обследование, запустившее серию лунок до самого ада, и половину которой не смогла бы покрыть медицинская страховка – до сквозного серпантина в сердечной мышце.
«С тобой было классно. Ты очень хорошая, но я всё-таки тебя не люблю. Я верю, что ты адекватно это воспримешь, сейчас это нормально… Люди влюбляются, разочаровываются, расходятся, сходятся. И так далее. И мы влюбляемся не единожды. Уверен, ты ещё найдёшь кого-нибудь себе, и вы создадите прекрасную семью».
Закончив, он с облегчением взметнул брови, выдохнул и взглянул на неё прямо сквозь разморённо-медовое, мрачное красное горение кипарисовокирпичных лесопарков отсветами по столу перед собою, и его коротенькая, тающая, как мороженое, улыбка мазнула Уэйн коррозией. Порыв смеха вклинился меж рёбер – его пришлось затоптать в бронхах. Она развязно пожала плечами, хмыкнула:
– Да, – стараясь в сумрачном блеске разглядеть его лицо. – Я бы тоже хотела найти кого-нибудь. Но, видимо, уже не в этой Вселенной, потому что…
– Почему? – поинтересовался он, мгновенно, но не так, будто ему правда было важно узнать, но это даже не жгло.
– Потому что я умру через полгода.
Они смотрели друг на друга – вцепились хвостами взглядов. В позеленевшей раковине с кухни слышалось, как капало с крана, как стучало о керамические створки, на которых играл бледновитражный сентябрьский луч. Оголёнными проводками тревоги в проступившей, орлино-жгучей тишине вскипел звон колокольчика, когда очередной посетитель внёс внутрь волну песчаного ветра.
– Чёрт, – она с трудом задушила в себе скачок хохота; смеяться, отчего-то, хотелось очень сильно. – Я не рассчитывала, что ты окажешься первым, кто услышит эту новость. С другой стороны я рада, что всё закончилось тем, что это ты предложил расстаться, – она улыбнулась, неосязаемо и щекочуще касаясь груди, будто под нею ничего не пилилось в обрезки. – Наверное, так и правда будет лучше.
Он, видимо, оправился от секундного смущения и, ударив сухожилиями по столу, воскликнул:
– Подожди, ты серьёзно? Ты больна? Всё так плохо? Полгода?
Она осмелилась – задрать на него глубоко раненый взгляд: красная сеточка лопнувших капилляров.
– А что, по-твоему, я шучу? – и почувствовала, как приглушённый смех в холодном синтетическом луче сменился на желание разрыдаться. – Спасибо, что сказал это за меня. Живите со своей невестой долго и счастливо. Будет проще, если ты вернёшься к тому времени, когда не знал меня, и я так же, да? Так всем будет проще.
В подавленном желании тихонько и ласково, осмотрительно, разливалась стекловидным валами на стороны вода, убегала грядами широкими, снежными назад к океанам.
Это было чересчур резко. Это всё было слишком быстро, горько, терпко, неправильно, муторно, нервно. Уэйн поспешила уйти, унести это до боли в черепе, излома позвоночника и сорванного горла «я всё-таки тебя не люблю» на себе свинцом, испариться из этого места под фальцетом невзрачного козырька, чтобы хотя бы не впасть в истерику при нём и при всех, вспыхнув нейтронными тромбами. Любили ли они друг друга на самом деле хоть когда-то? Она не знала. Она любила кого-нибудь? Люди влюбляются и разочаровываются. Она не была такой: яркой, как солнце рассвета, тяжело встающее полукругом, полной надежд и ожиданий, с дорогим маникюром, гладкими локонами. С блестящей биркою бейджа частного института поперёк крохотного сердца. Он со своим вихрем мчащейся в никуда жизни напоминал ей дерзкого, подавляющего зверявыходца Таймс-сквер. Всех тех районов, в которые перебивчиво, упрямо, нечестно тянуло Мишу.
Воздух застыл измученно-свежим, наполненным чем-то, что напоминало о прощальной улыбке мамы в то утро, которое пульсировало гравитацией в тяжёлых облаках и трясинной тьмою слизывало ниточки электропередач, которое разрасталось в животе до гранатовой звезды Гершеля, не разрешая забыть, как в невозможно жаркие месяцы после её ухода она запиралась в своей комнатушке и, рыдая, наглаживая примостившую у бедра Сильвию, смотрела «Самаритянку» по третьему или трёхсотому кругу, – а потом думала о собственной смерти. Хотела потеряться в вибрации города, хотела задохнуться кварками автомобильного дыма и никеля. Она сжала собственные ладони ногтями, посмотрела куда-то в паркетную кладку, где рыжим пятном как чернилами разливалась лужа света, и не моргала. На юго-востоке заблудшее по осени зеленоватое солнце детонировало над больницей.
Сердечная недостаточность.
Рука её упала верёвочным штативом на рёбра, погладила аномалии, кровь под мышцами и остатки электролита, на самом деле просто проезжаясь вверхвниз по свитеру.
Отстой. Я и правда умираю.
Обыденность текла, стирая границы между ступеньками, сумерками сплавляла, сращивала друг с другом все стены. В конце недели Ева, как неявная поклонница индустрии фаст-фуда, пережив «атаку пересдач, атаку внеучебных мероприятий, атаку титанов, клиническую смерть и три проверочных», затащила её отмечать долгожданный зачёт по радиоастрономии в Макдональдс, и, когда они уже подходили к машине и она безостановочно рассказывала что-то про отлов акул за городом, а Уэйн слушала наполовину, упирая взгляд в прут смартфона, будто бы проваливаясь в просинь заставки – ощущая, что сентябрьское звёздное тепло до сих пор не закончилось, и ей хотелось зажать уши, чтобы не слышать – стать кем-то большим, чем человек, – к ним ещё присоединился Миша.
Факт его почти постоянного присутствия рядом одновременно отяжелял чтото внутри и приводил Уэйн в восторг, в её воспоминаниях та ночь мерещилась почти живою и в перспективе – наполненной позолоченным свечением, затухающим до того, как оно успевало долететь до иголки зрачка страждущих больных псов, живым было прошлое, весна-лето пятилетней давности, рапсы полями за окнами машины на парковке – жухлое бежевое и лайм, чащи солнцепёков; она не могла перестать улавливать на себе горячие и влажные мазки его взглядов, она не могла не ненавидеть его бликующие серебром огромные кофты и худи, всегда на два размера больше, в которых Миша прятал тощие запястья и с частичной помощью которых взаимодействовал с окружающей средой. Сегодняшняя толстовка выводила ореол сияния-нимба разлапистых крыльев бабочки на животе и говорила, стягивая горло: ничего не найдено.
Всю дорогу до призаправочного Макдональдса она сквозь мигрень пыталась отследить собственные мысли, склеенные ядрёной жвачкою комки слов, в удавку спутанные обрывки предложений, возвращающие в фаршированные, нескончаемо-чистые дни жизни, которую следовало постепенно оставлять в прошлом. Миша пялился в счётчик скорости, Ева в вязанной шапке-лягушке счастливо перекрикивала Селин Дион сквозь радиостанцию и без умолку вещала что-то про выбрасывающихся на берега Арнем-Ленд китов-касаток-черепах, попеременно опуская и поднимая стёкла, заполняла салон ароматом сбирающегося окладного ливня, предчувствием первого снега, пряным запахом цитруса и лимонно-стерильным оттенком чужих американских полей.
– «Я не впал в отчаяние, а избрал своим уделом деятельную печаль, поскольку имел возможность действовать», – сказала она перед выходом. – «Иными словами, я предпочёл печаль, которая надеется, стремится, ищет, печали мрачной, косной и безысходной». Боринаж, июль тысяча восемьсот восьмидесятого.
В крошечной чаше помещения поверх бледного летаргического кафеля и промеж софитов-переростков пахло обжигающей слизистую эссенцией карамельного латте с двойным сахаром и мазью горчичного соуса, и места оказалось так мало, что пришлось сесть, упираясь друг в друга коленями. По радио играл новый сингл Birdy. Уэйн вглядывалась в огненное «keep clear» у аварийных дверей, пока Ева забирала заказ на подносе.
Кругом неё регулярно происходили действия – и так и оставались где-то снаружи, вне, бывало, обращая помещение кафе, или салон машины, или аудитории, или танцевальную студию, или больницу, или родной дом в конце тупиковой улицы – любые локации, любые барьеры-пространства, в которых она безвылазно обнаруживала себя, – порожними сингулярностями, из ниоткуда прорастали тонкие витиеватые линии астероидных сводов, замыкавшиеся, почти как гроб, завлекали переливчатыми лязгами физических спазмов. Уэйн была хороша в абстрагировании и терпении, даже если внутренности прошивали её болью насквозь и эмоции вывихом, и в горле застревали косточки гниющей юности, поэтому всегда ошибочно считала, что справляться с нею будет просто.
Даже так: она считала, что это будет очень просто.
Не оборачиваясь, она знала, какую необычайно широкую, но полинявшую улыбку тянул Миша и как неизменно сияла обострёнными искорками прохладная радость на его лице, ей не нужно было убеждаться в этом визуально, спотыкаясь о непонятные взгляды с рубцами вспоротого пакетика мармеладок, как о непроходимую стену. С блестяшками линз-полароидов Ева бормотала чтото про «Монополию», в которую играла с братьями Лилит в прошлую субботу после теста по ядерной физике, потом, перестав кому-то быстро печатать в телефоне – у Уэйн в висках заштормило, когда она попыталась уследить за её пальцами, – матовыми зрачками уставилась в развороченные бумажные пакеты на подносе. Липкая тишина подёрнутого сахаром в лимонаде воздуха-пепла окружила их, как только она бессильно коснулась лакировки пальцами.
В тёмных прядях, как плющ, запутался ослепительный потолочный свет, узорчатый и облезлый. Между её бровей пролегла глубокая складка.
Она тогда сказала что-то вроде: «я подумываю о переходе на растительную пищу» под неясные звуки плохой музыки где-то за кассовым аппаратом. Бисерные вышивки и пёстрые кисточки мулине переливались на её жилетке. «Мне начинает противеть употребление продуктов, полученных из намеренной и жестокой эксплуатации животных и всё такое».
В пластиковом стакане у неё плескался лёд, – полый настолько же, насколько льдины Северного Ледовитого, и такой же закоченелый, каким будет Анкоридж в эту зиму, когда Уэйн в последний раз посмотрит на небо. В тот момент, когда она перпендикулярно постеру с острыми куриными крылышками возле входа сидела с воображаемой прорезью в сердце от миража последней городской зимы, она понимала, что так или иначе всё в этом мире теперь сводилось для неё к концепции смерти.
Несмотря на вероятность запрятанного стилета у Евы за воротником, Миша долго пилил её (своим невыносимым) взглядом, а потом, не доедая, улыбнулся так, что стало видно все его отбеленные зубы-клыки – оскал, и демонстративно отбросил половину чизбургера на поднос. Салат вывалился и обвил листами упаковку от чесночно-сливочного соуса, к которому никто так и не притронулся. Возможно, он играл, как делал всегда, а может, в нём на самом деле в последнее время тоже зарождались мысли о вегетарианстве, потому что, как говорили Лилит, браслетом на ноге отбивая по ножке стула, если долго ходить по парикмахерской… или потому, что в Уэйн вот перед смертью они нарастали с пугающей быстротой – лавинным комом снежинок-косточек: мёртвое мясо, будь оно хоть по сотне раз пережарено, перетушено, перекопчёно и щедро сдобрено специями и маслами, всё равно отдавало автолизом, пропитанное насквозь лезвиями, стонами, агонией, испугом… и её в дрожь кидало от мысли, что смерть всегда была где-то рядом.
Просто так много, так много ещё предстояло спланировать, куда-то деть свои вещи, кому-то дать свои сбережния, организовать свои похороны, присмотреть своему скелету область на кладбище или своему праху место в колумбарии, чтобы на уровне сестринских глаз с высоты каблуков её тех самых любимых чёрных туфель, собрать часть документов на наследство, чтобы облегчить ей процесс – какой-то процесс – хотя бы что-то. Уэйн часами вручную собирала этот план, как неумелый картограф, по равноденствиям синяков на конечностях, по рисунку рёбер в сжатии, по ломаным из данных ЭКГ. Мысли забродившими дворняжками теснились в черепной коробке: документы, кладбище, колумбарий, лёд в лимонаде, Миша со своим оскалом…
Впрочем, Ева не оценила благородного поступка, вздохнула, огромным усилием удержала на лице статичность, которую тут же сдуло порывом ветра с форточки – и, встретившись взглядом с Уэйн, как будто бы что-то вспомнила.
– Кста-ати, Фрост, – начала она, наклонив голову, и из-за темечка выглянула длинная лампа – от смешения шёлковых, бархатистых лучей под короткими ресничками, вопреки эффекту, стало тревожно нестерпимо просто. – Как там у вас дела… с ни-им?
Голос изменился, будто с Мишей, да и со всеми остальными до этого она волочила связки-складки, а теперь вдруг прояснела, и разглядеть эфемерную перемену невооружённым слухом казалось непосильным трудом; и глаза – умышленно укусили за дёрнувшийся от вопроса и от его внезапности, проступивший в худобе кадык у Уэйн в глотке, и она поймала собственные в зеркале стеклянной столешницы: лицо походило больше на выцветший из какого-нибудь комикса фрейм, чем на выражение живого человека. Она не знала, как сказать, что они расстались, как и тысячи раз до с тысячами других, просто потому что люди расходятся, сходятся, влюбляются, разочаровываются, – а ничего не поменялось на самом деле, хотя ей и представлялось неосознанно, будто поршни, подшипники и конвейерные ленты под бронхиолами успокоятся и перестанут вращаться, если вещи без её помощи начнут потихоньку ускользать перед уходом. Это всё была замудренная, составная головоломка, многомиллиардный кубик рубика из кислотных блоков, нерасшифрованный ключ квадрата Полибия, судоку Арто Инкала; к концу своих календарных дней на Земле Уэйн не вывела даже названия алгоритма.
– Всё круто, солнце, – она ощутила, как начинает в сумасшедшей дроби заходиться сердце, как растворяется в кофе сахар, который никогда раньше не добавляла, как усиливается головная боль, но постаралась улыбнуться: – Мы расстались, но всё в порядке. Я чувствую себя как те утки, которые не могут улететь на юг, но это в целом не проблема. Тут рукой подать до Рождества, а потом мне снова в больницу. Его можно понять. Кто бы захотел жить, – и, отхлебнув – обожгла нёбо, но виду не подала – улыбнулась конечным штрихом вновь, – ожиданием?
Еве ответ не понравился – ещё на середине после слова «расстались»; это стало видно по сведённым в кляксы синего света бровям, хотя взгляд оставался по-прежнему мёрзлым, руки продолжили бродить по столу, переставлять стаканчики с пакетами. Даже Миша сбоку как-то неприятно застыл.
– Снова в больницу? – подозрительно спросил он, и перестук с пластмассой стекла показался на фоне особенно оглушающим. – Ещё какой-то курс лечения, Уэйна? – но как только Уэйн обратила к нему взгляд, их – первый зрительный за сегодня контакт – прервала Ева:
– Что ты выдумываешь? До Рождества ещё долго! – строго, как-то поребячьи возразила она с новым выдохом, и в этом «долго», словно в несмазанных петлях, тянулось так много, что Уэйн затопило чужою обидой напополам с собственным отчаянием. – Ну и что с того, что ты ляжешь в больницу? Не на другой же континент переезжаешь. Брось, в наше время люди и в таких ситуациях находят способы общаться! Я говорю тебе это как человек, который видится со своей сестрёнкой только по фейстайму. Знаешь, моё мнение такое: если бы он действительно хотел, он бы…
– Успокойся, – она перехватил её трясущуюся над пластмассой руку за самое запястье. – Почему ты… так злишься? Всё нормально. Давай просто посмотрим правде в глаза.
На мгновение, но только на него, они замерли, поглотивший окружность мягкий свет заставил всё внутри головы конвульсивно колотиться, и мысли от него разбегались по краям, – а потом Ева вырвала свою ладонь.
– А я смотрю правде в глаза, Фрост! Ты и так очень странная в последнее время. Хватит относиться ко всему так, будто… – и оборвалась.
Из-за чистого и графически выведенного флуоресцента чёрточки её глаз чудились потемневшими, как у него в Сабвее несколько дней назад. Казалось, пара-тройка секунд, и всё здесь растворится в стенах рассеянной апельсиновой червоточины, которая сжалась в оранжевый икосаэдр из алюминия блестящих вилочных лезвий и тошнотворный запах остывающего картофеля. Её спас голос Миши, непривычно робкий, выводящий под боком:
– Ты расстроена? – и неловкое пояснение: – Из-за него.
Она вдохнула, задержав купирование углекислого газа, чтобы взглянуть на него в вяло-испепеляющий момент, когда он произносил эти слова. Она была расстроена. Смотрела в часовой механизм под лампочками, замерший в ожидании перезапуска, кусала трещину на губе, вляпалась в инертность папьемаше микроскопической улыбки. Нужно будет выбрать стихотворение, которое зачитают на прощании. Он раньше писал стихи, смешные до боли, глупые, но это было бы очень трогательно. Расписать, где хранятся документы, чтобы сестра не перерывала зря шкафчики и полки. Куда она кинула свидетельство о рождении? Придётся поискать по возвращении. Болезнь иссушит и исковеркает кожу – закупаться увлажняющими сыворотками, от которых пахнет водорослями и мыльнянкой, наверное, бесполезно, на ладонях появятся провалы мозолей, и ей снова станет шесть, и сестра будет придерживать её за неоформившуюся талию, чтобы помочь подтянуться на турнике. Её нужно будет одеть в свадебное платье, белое, как пушистый снег, и безвинно-нежное, чтобы нравилось Мише. И пусть приносят голубые гортензии – это из какого-то фильма или само в голову пришло? С каких-то пор всем стало плевать, что не клубничной жвачкой, снегом и мёдом, а табаком и слезами в сбитом из чего попало городе пахло больше. Площадка с песочницей останется пустовать? Наверное, да. Выгоревшие дворы западнее затоскуют, не успев обвеситься кудрями, злые и оставленные, может, запустят гипервентиляцию к следующей осени…
– Расстроена, – заключил Миша, но аппарат запиликал, приглушив его голос.
Капитуляция.
На обратной дороге засыпало ледяными стрелами дождя, как разведённой молочным туманом гуашью сухою сыростью залило обугленные провода по кайме телебашен. Ливень голубым изумрудом всполоснул асфальтовые раны, спугнул тинейджеров-стигмат, влился в скалистые вены, перепутался с застоявшейся кровью. Расчистился. Уэйн видела, как Ева на переднем около неё пролистывала ленту Инстаграма, – в слепящих градинках на неё смотрели застывшие пастелью пикселей лики незнакомцев, запутанные и странноцветные. Теребя в руках чей-то футляр для очков с Сейлор Мун, а потом полупрозрачную серафинитовую пепельницу, Миша завёл с ней беседу о недавно перечитанном «Изысканном трупе», оставленном на кафедре физики космоса валяться под партами, по видному в зеркале заднего вида мимо наклеек с Гарри Поттером лицу его пробегали и видоизменялись тени-плавунцы, сбившиеся к периметрам.
Ева была классной: кидала несмешные религиозные анекдоты в общие чаты, таскала с собой таблетки от головной боли и запасную электронную сигарету, которая время от времени пугала всех своей вибрацией из кармана, рассказывала про геологические исследования своего отца, слушала все релизы-факелы Холли Хамберстоун, которые ей кидал Миша («да, пожалуй, она заставляет большую комнату ощущаться чем-то интимным»), вела аккаунты самой популярной девушки города, даже не являясь ею, – но в душе она оставалась скромным ребёнком-агнцем, которого Уэйн встретила в зазеркальях спортцентра: росла, почему-то, не меняясь. Экран, в которой она долго пристально вглядывалась, не моргая, погас – с него спорхнул отблеск бетонного дождливого флёра, она вдумчиво, но безучастно вздохнула после недлительного молчания.
«Я недавно задумалась о том, что такое судьба», – сказала она с неподдельной простотой, так спокойно, Уэйн почти завидовала, мимолётно раздобрившись на улыбку шире всех прежних – её тут же смыло до привычной, ни капли ангельского, ни капли дьявольского тоже, хотя Мишу, казалось, это только позабавило: он вскинул глаза тёмные и влажные, как у подстреленного журавля – но посмотрел вперёд, мимо зеркала. Уэйн вжалась пальцами в руль.
Блёклая пелена рассеивающегося ливня облепила лобовое стекло, её со спины сверканием. На некоторое время уши заложило молчанием и мерным шорохом шин по сизости мокрой трассы, и это отвлекало от раскалывающей черепушку мигрени.
– Не знаю, как точнее объяснить, – начала Ева чуть мрачно после паузы, и брови её сначала схмурились, а потом глупо сломались подле переносицы. – Помните, однажды на физике лектор, между прочим, последователь идей Дойча, сказал, что время материально и имеет вид, типа, трёхмерного снимка вселенной? Следовательно, можно предположить, что придя к конечной точке осознания своего существования, то бишь смерти, наше сознание обнуляется, скажем так, и отматывается назад по уже прописанному сценарию, таким образом повторяя цикл жизни заново. Дежавю. Но самое главное. Иными словами. Смерти нет. Ни смерти, ни чего-то вроде судьбы в узком понимании этого явления. Есть только бесконечность, состоящая из одного и того же. Думаю, это и можно назвать своего рода судьбой. Как вы считаете?
Мерещилось, в ту секунду в и без того насыщенном влагою воздухе что-то разорвалось и пролилось, хотя Ева теперь выглядела однообразно-одинаковой для пространства, не поменялась толком ни её размеренная интонация, за исключением чуть более тёплых ноток ударением в паре слов, ни взгляд, который над россыпью веснушек так и оставался задумчивым и под кособокою тенью голубовато-пшеничной от капельного света чёлки – непонятным; Уэйн очень хотелось видеть могильно-чёрные глаза её в секунды, когда та произносила словосочетание «смерти нет», но она видел только этот точёный пронзительный край. Да, она часто слышала подобные заявления в стенах университета из уст преподавателей и даже вне. И да, была уже готов выдать что-нибудь вроде «ты совершенно права», или «ты абсолютно не права», или «такие, как ты, ничего не знают о смерти», – заботливо вылепленные осторожностью и притворным равнодушием в её голове из выцветшего млечного пластилина, заблудившегося в позвонках, вышитые ярко-красной нитью переливания на плотной ткани, собранные из деталей пакета донорской крови, но…
Она только обнаружила себя вдогонку – нерассчитанные скорости, траектории, азимуты, гиперпространство; галактическое столкновение на самых кончиках ресниц, которого она так боялась, всё же произошло, и Миша в отражении наставил на неё зрачки. Взгляд забирался в костный, а затем и в головной мозг, – в атласном полусумраке мерцали, как перегоревшие пульсары, его рубиновыми линзами подогретые, намокшие райки-дыры: если бы Уэйн не знала достаточно хорошо, могла бы предположить, что видела в них – вскипячённый – страх.
– «По-моему, просто невозможно всегда точно знать, что хорошо и что дурно, что нравственно и что безнравственно», – проговорила Ева уверенно, одёрнула кофту, из-за чего волны на ней пошли ураганом, и совсем не сконфузилась, когда тотчас пояснила: – Эттен, декабрь, тысяча восемьсот восемьдесят первый год.
Было свежо и морозно, облака с овчинку. Они уже подъезжали к общежитию, она надавила на педаль тормоза, – от резкого замедления Мишу чуть бросило вперёд, и, оглянувшись, он как будто бы с облегчением заулыбался.
– А знаешь, это интересная тема, – тон был мягким и почти бессмысленным, и Уэйн мечтала, чтобы взгляд у него хоть однажды оказался таким же заместо сольфериново-полярных сугробов в глазницах с песчаной отмели. – Надо будет обязательно собраться ещё раз, попить колы и поболтать о чём-нибудь типа тригонометрии или термодинамического парадокса.
Как только Уэйн остановила автомобиль, Миша, окатив её в отражении разрядами предварительно скептичного взгляда, щурящимися в лунные серпы симметричными сколами, оскалом улыбки, наскоро попрощался и выскочил прямо под дождь – оставил их с Евой вдвоём сидеть в накатившей зыбкой тишине, прерываемой лишь стуком щёток стеклоочистителя перед лицами. Едва-едва перезванивались то ли бряцанья брызг по парапету, формируя песню, то ли далёкие-близкие сентябрьские звёзды.
– О, – мимоходом заметила Ева, – там моя соседка. Тоже только возвращается. И без зонтика.
– Надо же, – Уэйн не удивилась. – Как тесен мир.
– Это точно.
– Ага.
Снова посидели в молчании. Ева пропустила распушённую чёлку сквозь пальцы, оголила просыпь не менее непропорциональных родинок под клоками, под тускло-белёсым пробивным солнцем ярко вспыхивал её бронзовый кликер в проколотом дейсе, и, на мгновение покосившись куда-то в область чужих локтей, она прошептала:
– Спасибо.
Уэйн кивнула, выдавила улыбку-рокировку, не в силах противостоять напору чужой яркости, но Ева подскочила и вдобавок одарила её золотистосверкающим взглядом – поспешила уточнить:
– За то, что вообще мучаешься со всем этим и всеми нами, безрассудниками, – и как-то сразу схватилась за ручку двери. – Ну, я помчала.
– Ева.
Через успевшую приоткрыться дверь их ударило океанически-городской свежестью.
– Да?
– Ты не заметила, что Миша… – выдавила Уэйн, не глядя в её сторону, но всё равно было физически ощутимо, как ответная улыбка у Евы затемнилась. – Он в последнее время… м-м, очень…
– Очень в экзистенциальном кризисе первой четверти жизни?
– Я хотела сказать «подавленный», но это тоже подойдёт, хотя, справедливости ради, ему ещё нет двадцати пяти.
– Да. В смысле, заметила. По-моему, с наступлением осени его хандра только увеличивается, так сказать, в габаритах. Он свою четверть жизни проживает ежегодно. В конце концов, он – это что-то экспериментальное, – хихикнула, намекая на выдуманную систему. – А скоро ещё и Дельгадо приедет, ты слышала? Не знаю, должна ли я быть рада или насторожена… Не представляю, что будет, – только и бросила она вслед, размяв руки, брызнув бликами синевы и теплотою – и, позволив хрусталю вод украсть смех, засмеялась. – Надеюсь, катаклизмов и катастроф не случится и на нас не сойдёт лавина с Маунт Болди. До встречи!
Хлопнула дверь.
Заражённые юностью, все исчезли забелевшими в сумраке фигурами, по шороху за гранитом угадывался ровный, полный ход катеров. Мокристое марево мороси едва долетало до её лица, плотное засохшее стекло шло змейками сепии под этим светом; его отчего-то было так мало, развинченного и пустотного, но Уэйн всё равно выхватила собственное бледнеющее отражение на фоне этого – умерщвлённого. Болезнь потихоньку стартовала, начав высасывать из тела силы. Зажигалка с котёнком. Брошенные про запас пакетики улуна и скверной матчи. Тёмная проволока в глазах и зрачки затапливают радужку. Невероятно.
Просто невероятно. Как быстро бы она не пыталась бежать, она никогда не сможет стать быстрее времени – бесконечной физиопроцедуры, которая сломает окончательно, а у неё останутся только квазизвёздные радиосточники глаз, чтобы плакать под мерцающей лентой Млечного Пути. И она дала внеочередное внутреннее обещание самой себе купить чёртов билет до ХомерСпит и уехать из дурацкого соцветия гнёзд столбов и светофоров, кривых, вьющихся автострад, уходящих к горизонту вверх, силуэтов горной цепи, высоток и рекламы к серо-зеленистым берегам и тихим волнам. И она подумала: а что дальше? И она царапнула ногтём защитное стекло телефона, когда с третьей попытки удалось пройти орбиту блокировки, судорожным взмахом открыла заметки – напечатала: «список приглашённых на похороны». С полдесятка секунд подумала, затем решила:
1. Сис.
И вдруг застыла, не зная, кого вписать дальше. Ребята? Они наверняка будут так злы на неё из-за всех этих месяцев умалчивания, театральной постановки во «всё ок», что на прощение и принятие потребуется немало времени – больше, чем остаётся ей рядом с ними, если, конечно, она для них значит хоть что-то. Ева, Люси, Льюис, Лилит, даже Тео… лучшим вариантом будет попрощаться с каждым из них по отдельности. Однокурсники? Они не настолько близки. Старшие из спортцентра? Тоже, наверное. Родственники из Вермонта и Аризоны, присылающие им открытки на Пасху? Тем более. Бывшие одноклассники? С трудом можно вспомнить хоть одно имя. Он? Нет, он должен остаться в прошлом, жить настоящим и смотреть в будущее без какой-либо тормозящей оглядки, без боли, перематывающей время вспять, чтобы наступать на собственные следы. Он, другой, другая, миллиарды неудачных, заведомо провальных попыток лжи… Миша?
Уэйн иногда находила его имя черезмерно громким в собственном пылающем подсознании, в сложенных микродвижениях языка, воссоздавала образ многолетней давности с их первой встречи – его искалеченные осветлением кончики, монохромные зрачки-осколочки, кровоподтёки лиловые, сиренью на тыле ладоней, заледенелых Арктикой, похожие метки на шее, но другого происхождения, поэтому в школе и студии их приходилось прятать под длинным воротом; его звериная ласка взгляда под ней на подушке, невозможность составить звуки в слова, его пыльное солнце, утопленное под бьющейся грудью. От молочного тумана, в котором сквозь клубки металла реял за стёклами слабый таинственный свет, горло засаднило сигаретно-клубничным дымом.
И, думая об этом, она представляла себя кротовой норою или всеми множественными струнками-вселенными Эверетта одномгновенно, слившимися в целое и готовыми распуститься нитями с мёртвыми заранее мирами каждый раз, когда годы вперёд перескакивали самих себя, а наружу тащились нагие мыслеформы. Сколько лет – пять, шесть? – она жила с этим подавленным чувством к человеку, который никогда ей не достанется? Может, оно и проделало дыру в её сердце? Заметка осталась недописанной, дождь с безразмерного неба таинственно смолк.
В груди разворачивали жёсткие стебли сведённые пружины – с три тысячи разом.
– Я хочу стать кем-то большим, чем человек!
Её худшее и одновременно с тем самое приятное воспоминание из средней школы навсегда осталось на трибунах просиневшего стадиона, в окружение шелестящих, отдающих космическим переливом папоротников, где в глубокую гладь ржавчины-ночи Хэллоуина они с Мишей отсылали послания инопланетянам с Веги и Альтаира, – тогда лицо его казалось живым, но очень бледным, почти что фланель нежной облицовки кожи. Была осень, гудящая сверчками полночь обвалилась на город, как тяжёлое покрывало, вымоченное в микстуре, и насмотревшийся научной фантастики и аниме Миша заставил её чертить это дурацкое граффити – нечто сродни шифру Наска, столь чудное, будто каракули пятилетнего ребёнка: ни символа, ни значка не отличить. И ревела, сотрясая все до единой палубы расплавленных в когтях Солнца космических кораблей, труба с отоплением и бурлил в снежных хлопьях винт, и от космологических терминов у Уэйн голова шла кругом: она была далека от этого, как и от всей жизни, в которую Миша её окунул позже, вылепив в ту, кем она являлась сейчас.
В своей перевёрнутой душе с протекающими краниками он, наверное, и спустя шесть лет их переплетённых жизней оставался немножечко таким вот с ума сошедшим ребёнком, не перестающим смотреть на рельефные карты, тянущим за собою шлейф грозы и душистых лекарств, конструирующим из себя тот далёкий берег, где песок отступью таял под напором волн, никогда не становясь достаточно устойчивым для того, чтобы Уэйн смогла найти точку опоры. Она не ждала, что Миша подставит руки и поможет ей не упасть. Никто из них никогда этого не делал.
⍉
«Скоро приедет Тео».
«Ага, я слышал. А он вроде на эстрадное поступил?»
«Говорят, ещё набил татуировки на щеках. Что, как у кого?.. как у Пресли Гербера?..»
«Ой, да Тартар его знает. Лично для меня он умер».
«Тео Шрёдингера? Звучит как тост. Надо будет устроить ему…» «Опять тусовку? Пощадите, мальчики, в сентябре три дня рождения отмечали. Я ещё не отошла».
Миша лежал, пригвождённый к своей омертвелой общажной кушетке, перегоняя в мыслях эту новость, это имя, этот облик, залёгший в трёх заострённых звуках-ударах, слишком не привычное на язык афалиновое, слишком летнее слово, разлинованная аватарка в Снэпчате, – и бесконечно думал о том, как ему относиться к обещающей стать неизбежной встрече со своим прошлым: хотелось ему или нет, он вспоминал о тех ночах – мартусыпальница – когда видел, как с танцевальной практики новой хореогруппы за океаном в полутёмном зале в одиночестве Тео танцует, извиваясь, как клыкастохитиновая страшная гидра из чего-то кошмарного, когда капельки пота, падучие звёздочки анонимного кучевого склона, оливковые палочки – ленточки в проборе, стекают ему по очертаниям лба, грациозный очерчивают профиль, целясь-целуя – в нос.… От всего мягкого и светлого, брошенного далеко за спиною, кружевные канаты плюшем стягивали палые бронхи.
Как правило, новости доползали до него в последнюю очередь, не раздаривая единиц времени на осознание. Пока соседа не было в комнате, он мог позволить себе заполнить потолочные перекрытия валами клубничного дыма. Сигареты были сладкие и крепкие, от них волосы пахли костром почти головокружительно, – у Тео они так пахли, когда четыре года назад вдвоём возвращались из бара на закутке Мидтауна, пьяно-потерянно хватаясь друг за друга, запястья, шеи, локти; после экстази-дождя зеленистой сыпи было влажно, плато ночного Спенарда задыхалось в вымытой духоте вересковой августовской ночи, огни иллюминации засвечивали плошки звёзд. Дружба всегда была странной, если одной из сторон выступал Миша. В его голове было больше мусора, чем он предполагал. Спустя годы от воспоминания сердце ещё буйно конвульсировало, брызжало кровью до самых пальцев, отыскивалось жгутом где-то в гортанной области.
Рубашка с футуристичным зигзаговым принтом тай-дай и распятый Христос на цепочке, залёгшей в ямке заржавленных ключиц, в таких прекрасных мальчиков легко влюбляться, намного сложнее потом любить правильно. Неделю после среди падения берёз и на высоком обломке-обрывке холма Тео сжал его кисть – ядерно-аквамариновое небо – и сказал, что им обоим срочно надо бежать из этого холодного штата, и Миша уставился на его поглощённое сумрачной полумглою лицо, – Миша молчал. Смотрел на его шею, пыльные помятые купюры, торчавшие из сумки, в изгибе виднелась, как трупное пятно, из-под ткани пуловера татуировка: «бог устал нас любить».
Выросшим, Миша ставил на себе зеленеющие отметины самостоятельно как способ заглушить жажду чужого прикосновения, только на коленной чашечке остался белый маленький шрам с самого детства. В лоскуте моря, почти как безводного источника, рядом с их старым домом блестели винноцветным гонимые туманом плеяды ракушек, но мелководье было таким обширным, что идти надо было десять минут, чтобы окунуться в полный рост, и он часто ползал у берега, представляя себя рыбой-мутантом или спасателем Малибу. В кожицу вонзалось остриё, грань резала ногу, и по выходе из воды он срывал листочек плакучей ивы, прикладывал к колену; ему нравилось смотреть, как кровь орошала песок. К этому шраму прикасался Тео, с неба дул ветер, они стояли в очереди у H2Oasis, с неба дул ветер, и он давил сильнее – быть может, в вороватой надежде столкнуть эпидермис с реальностью, а Миша поднимал голову и вжимался в маячущую над склокою толпы цвета хаки нейлоновую ветровку мутным, полупрозрачным взглядом, и Тео понимал, что здесь ничего не найти, – рука с золотыми рыбками в венах его проваливалась в меркло обволакивающую бездну. С неба дул ветер. Когда они вышли из скальпеля духоты и жжённой хлористой соли, Тео сообщил, что завтра улетает утренним рейсом. Голоса становились беззвучными, небо покрывалось озимым. Чужие губы накрывали его рот. В глаза входила зима.
Казалось, он снова оказался на впитавшей алкогольный спирт четвёртой авеню, лёжа в сигаретной каморке общежития спустя недели после последней сессии психотерапии, и он больше не знал, куда деть себя от предстоящей неизбежности встречи – только от одного взгляда на бесконечный горизонт обоев у него голова заходила кругом. Бежать было некуда. Он задерживал пальцы в трёх миллиметрах от экрана, где спелозелёным по дисплею выводился номер Люси: прерывать их только устаканившуюся связь подобными разговорами казалось максимально абсурдным, всё равно что выпрыгивать с качели в самой высокой точке в попытке носками кроссовок достичь Ориона. С соседом по комнате отношения не заладились ещё с первой встречи, стоило проболтаться, что Миша плотно общается с второкурсниками, с Джеймсами и Дэвисами, с ведьмами. Позвонить психотерапевтке? Неудобно звонить по таким поводам. Лилит?.. Нет, не хотелось бы выглядеть в их глазах настолько… жалким. Льюис бы обозвал это «catoptric tristesse» и перенаправил к сестре, а Ева, вероятно, притащила бы две упаковки одноразовых платков и просто ревела бы вместе с ним целый вечер. Уэйн?
Миша вздрогнул; он никак не мог понять, почему… почему эти зрачки насквозь, аллюзия на удавку страховки, необъятное нечто в груди. Почему он боялся говорить с ней? Она ведь столько раз видела его скрученным от панических атак на полу в туалете университета пред полосатыми кабинками с трещинами и рифтами, каждый из которых Миша знал до миллиметрового изгиба; видела его дрожавшие, как барабан стиральной машинки, изодранные до крови пальцы, роняющие сигареты одну за другой, смятые пачки в карманах и сахаристо-розоватые полумесяцы, остававшиеся на ладонях от того, как сильно и незаметно для самого себя он пережимал кулаки. Уэйн видела многое – слишком многое, или он просто позволял ей увидеть это. Его память замирала на графе четырёхлетней давности, не давая пробраться глубже, каждая деталь всё быстрее подталкивала к пропасти забвения и риска.
Когда Люси перевелась, наэлектризованность между ними заметно уселась всполохами: в соответствии с реалиями рафинированно-сладких подростковых фильмов они, редко дотягивающие ментально до своих двадцати плюс, драли глотки в караоке, много целовались, отказывались от здоровой пищи и вдвоём смотрели бессюжетные видео со «взрослых» сайтов. Когда те кончались, Люси тащила его в ванную, мыла гематомную шею, гладила за послушание (тихое, кошачье) и целовала, забивая в угол, на усыпанной пыльным блеском стиральной машинке. С укороченных волос капало, и когда она жмурилась, из ресниц получалась заводь для подбитой собаки. Он думал, что здесь давно стоило начать обживаться, давно стоило спросить – и почти сожалел, что слова застревали глубоко в глотке, амиантовый шампунь валился на голову, по руке, от предплечья – к пальцам, растекалась плазма. За один месяц Люси бросила танцы, сменила место учёбы, но ему казалось, что вместе с этим она сменила ещё и личность, и мысли, и огрубевший голос, и превратившийся в оголённые колючки взгляд, в котором Мише невозможно было отыскать отражения. «Ну хватит, Майкл», – те слова, сказанные тем голосом: Миша находил их у себя глубоко в охладевших рёбрах и не мог понять, почему ему это так невыносимо болело. Особенно это. «Майкл».
Первая декада осени всегда была похожа на реверсивный, сводящий кишки май, разлетаясь на фрагменты, на каждом из которых было написаны полузабытые имена, словно метель февральская обрушивая верхние этажи небоскрёбов, треская дисплей с заставкой мультяшного солнца; октябрь стартовал с резкого похолодания, и автобус заносило на поворотах, – когда они заваливались в душащий арктическим давлением салон от универа до разводных железнодорожных путей, мимо парка за грызущим забором и набросившегося сцепления небоскрёбов, Уэйн разговаривала с ним о многих вещах, на последнем сидении, теснясь, прижималась к залитому мглою антрацитовому свитшоту Миши бледными скулами, «хватит относиться ко всему так, будто…» – вспоминались ему вдруг слова Евы, и он всматривался в мякоть засохшей корочки крови на срубе губ, чтобы никогда не задать никакого вопроса.
Они расставались на холодной платформе, или на пересечении прорехпереходов растёкшихся ветвей Таун Сквера, или у ворот за разрывом угла дома и машины, где звенело сиропно и по-вишнёвому прохладно, а с рассады тополей птицы-волшебницы вываливались из гнёзд. К концу октября всей студией готовили большую Хэллоуин-пати для студентов, поэтому по пути к остановке липкий тонизирующий пот после каждой тренировки давал бодрое притупление реальности. В пёстром толстощёком зале арены с надрывами священно горел свет, столпы сияния с динамиков щекотали Мише роговицы, будто с упоением их поедали, теплоту сквозняка хотелось размазать по завалившимся скулам и не упустить; огоньки, застеклённые бескрайне-высоким пластом потолка, напомнили ему сверкание клубничного каяла, который одержимый красивыми мелочами Тео так щепетильно выводил под веками, но это сверкание сейчас загрязнялось софитным лазером, криками, визжащими всполохами телефонных камер, хотя словно из глотки кулис всё пахло-дышало-вспоминалось прошлым. Они все начали танцевать из-за Тео, некуда было деться, некуда бежать.
Под выменем потолочных скважин Уэйн выглядела высокой и худощавой – такая же солнечная полуулыбка, как у всех, от которой разрез глаз поднимался выше и растягивался в смешливых истончившихся скулах, и тоскливые, ментолово-узкие от прищура радужки. Он молчал, пока они шли до автобуса, и тихо предвкушал тяжесть в животе, приятное опустошение. Звонок семье Евы в Берн по фейстайму на Хэллоуин, европейское побережье. Доставку стрит-фуда сегодняшним вечером. Или скелет «домашней» еды, приготовленной родителями Джеймс в качестве поощрения за упорную работу. Её можно было бы даже не есть, а просто вдыхать вязкий запах, который волнами вседозволенности будет расползаться по стенам комнаты: аромат рамёна с яйцами и молоком или собственноручно слепленных роллов из охлаждённого риса с крабом и сливочным соусом напоминал о хрупком и стремительно закончившемся школьном времени, когда в поступление, переезд из папиной квартиры, получение возможности выступать на сцене верилось примерно как в возможность Вояджера поймать сигнал из глубокого космоса, мысленно Миша отмечал эти детали, связывающие его с ушедшим, красной подводкой.
Почему-то именно самые короткие, быстрые и яркие периоды ранней юности посадили внутри него ростки-зачатки протягивающей к другим людям руки личности чрезмерно болезненно, словно вся почва внутренностей его была по зёрнышку изодрана нескончаемым ожиданием. «В какой момент начали возникать подобные мысли?» – «Я не могу сказать точно». – «Самое раннее, что вы помните». – «Мне было тринадцать, когда я попытался сбежать из дома. Мне казалось, что если я пропаду, то отец будет очень зол».
Уже подкатывал к горизонту-паргелию мягкий шлейф рассеявшегося синестекольного неба, опалял, как транспарантом инея, кроны веймутовых сосен в тех местах, где палитра увядающей природы ещё не успела тронуть девственно салатовую окраску, оставив после себя одинокие бумажные пакеты домов лежать врассыпную: подарочные обёртки и ломкость стен, завязанных штукатуркою, как бантом. Они плелись по дороге, измазанной зарёю и шелухой прохлады, по равнинной линейке, как годы назад со средней школы через весь Рабит-Крик, Миша придерживал рюкзак со сменной одеждой и старался не споткнуться о камни, Уэйн в карманах держала худощавые руки, – её как-то пугающе покачивало через каждый метр, может, от ветра, может, от такой же семитонной слабости. В любом случае, минуя сплетения трупов мать-и-мачехи и белёсого сока сорванных стеблей, она не смотрела на Мишу, а когда посмотрела – тот едва не рухнул, запнувшись о бордюр, наземь.
«Но вас не остановила эта мысль?» – «Нет, мне нравилось думать об этом. О чужих страданиях всегда приятно думать, если ненавидишь себя. Имеет ли это смысл?»
– Ты хоть моргай. Всё нормально? – ровно и вкрадчиво спросила – ухмыльнулась и спросила – она, бросив звуки куда-то в витрины парикмахерских, и вопрос стукнулся о светящееся, позолоченное стекло; у неё всё получалось таким – гладким, непрерывистым, сухим, но Миша всё равно вздрагивал каждый раз и не мог понять, почему. – Это и есть тот самый экзистенциальный кризис первой четверти жизни?
Он посмотрел на вязаный пейзаж с овечками, пасущимися внизу её разносоставной кофты.
– Всё в порядке, – улыбнулся он, пытаясь вспомнить, как правильно дышать.
За обрывком озера тротуар перерезало кирпичное здание школы, фасад с геральдическими лилиями, переполненный взвизгиваниями, свистом и гудением, и, померкнув под серостью уходящих туч, обдало тёплым паром; город последних рубежей вспыхивал сентябрём аккуратно, но бурно, полынным солоноватым ветром обнимал за плечи, – теплынью с аксамитом далёкого первого снега, от которого вырастали цветоносные кроны и тонули в оглаженных солнцем лужах смутные, стёртые клины ласточек. Уэйн улыбнулась слишком грустно, отчего в пробеле лицо её стало похоже на театральный грим, но в этой улыбке не было ни рудимента той отредактированной гримасы с идеальным изгибом губ, которую она часами репетировала у зеркала внутри шкафа его старой комнаты в общежитии перед первым публичным номером (Мише часто снились те общажно-коридорные выходные в кошмарных снах), кивнула:
– Это здорово, но я же знаю, что ты лжёшь, Миша, – и звучала очень раскованно, её раскованность била кувалдой, вытекала в уши, мелодия голоса её отдавалась рассинхроном пульса – больно. Рассеиваясь, потянулись, вслед за жилым кварталом, стены парков и скверов, нежно-мышиной сиренью – полчища акации в зеленистых сводах, и кончились руиной сгоревшего жилого комплекса с розовато-жёлтой каймою. И бежево-пепельный очерк школы стал уменьшаться и таять. – Могу я задать вопрос?
Перелётные новорождённые ласточки копились за солнцем, искали тепла в покорёженном горными хребтами, нарубленном звездообразованиями небе с кочевьем, оставляли ему отпечатки чёрных перьев, садились на барахлящие гравитацией провода-праймеры, под которыми они шли; Миша вспомнил сверчковое «ну хватит» и стянул плечи как можно туже, но согласно хмыкнул. Уэйн странно на него глянула, будто сжалилась, увидев разбитость на дне зрачков, и спросила: «Если бы можно было забрать на себя всю боль человечества, ты бы это сделал?»
Игра в странные вопросы была общим развлечением стаи. «А… ты?» За её пределами хотелось постоять в тепловой близости ещё немного, пару мгновений, ещё совсем чуть-чуть, проникнуться ею, впитать в глиттер на веках, блестящий изнанкой лимфоузлов, потому что он знал, что ещё один миллисекундный ров, и на каждый заострённый взгляд, устремлённый в огнистый склон, у Уэйн найдётся стальная перекладина. «Думаю, да», – она будто хотела сказать что-нибудь ещё, но Миша так шипуче на неё посмотрел, что голос в киселе Мёртвого моря задребезжал и расплавился.
Побледневшая, она ускорила шаг до парапета. Без того с трудом натянутая улыбка утешения у Миши мгновенно сползла с лица, сменилась сначала растерянностью, потом непониманием, затем торгом – перешла через все стадии и засветилась испугом в предчувствии опасности, и он точно в невесомости замер посреди дороги, как если бы потёртые шиповки внезапно расплавились под горками льдистого кислорода и через асфальт потащили его за лоферы к астеносфере. Мэрилин Монро писала, что часто искала своё отражение в зеркалах и в глазах смотрящих на неё мужчин, чтобы ей было понятно, кто она такая. Миша засматривался на витрины и окна. Даже на селфи на фоне ангельских облаков и спин радиомачт он был каким-то другим – смотрел сверху вниз и казался огромным аттрактором, но аура, излучаемая с поверхности, чудилась ничтожно-тонкой. Где-то там, сверху над белым натяжным зубодробительным, непромышленным небом молока, над морем многоэтажных заборов – сероватой лазурью – разливалось подсофитовыми аккреционными дисками северное сияние; и густота, широта давили на диафрагму.
Белые заборы, белые балконы. В чьих-то зрачках отражение чьей-то камеры. Такое яркое небо – давно оно такое? – как давно он смотрел на это небо с улыбкой? – как давно он на него не смотрел? – как давно это было? – это было?
Или ему приснилось?
– Уэйна.
Она сделала ещё шаг к ступеням автобуса и оглянулась через плечо; иногда она так оборачивалась, когда они шли по длинной и клыкасто-ровной, словно дощечка палисадника, улице Бивер Плейс, и сталкивались взглядами, золото стен сверкало и разливалось в этом однородном контакте призрачных мерцаний в райках, – они улыбались друг другу. В те невыносимо холодные дни он часто оставался ночевать на чём-то, что не было его постелью, прятался меж студийных проводов от вечерних уборщиков, потому что на поездку до дома, невыносимые расспросы отца и паралич на собственной расшатанной кушетке не хватало ни денег, ни времени, ни физических, ни психических сил; как ясно он помнил это.
– Что?
Глядя в никуда, мимо чужих глаз, мимо собственного отражения в пустошь траурного лонгслива, Миша чувствовал, что на губах его ещё оставалась тень затянувшейся успокаивающей улыбки.
– Ты знаешь, какая звезда самая яркая во Вселенной?