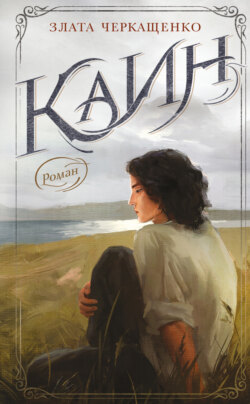Читать книгу Каин - - Страница 2
Глава I
ОглавлениеОтец проказничал с матерью под созвездием Дракона. Я родился на свет под знаком Большой Медведицы. Отсюда следует, что я должен быть груб и развратен. Какой вздор! Я то, что я есть, и был бы тем же самым, если бы самая целомудренная звезда мерцала над моей колыбелью…
Король Лир
Долгие ночи я убиваю воспоминаниями, всё глубже и глубже погружаясь в сон наяву. Перед глазами возникают видения прошлой жизни. Всё, что я когда-либо знал и видел, парит надо мною. И вот уже тяжело отличить сон от яви. Или то, что называется жизнью, попросту приснилось мне?.. Не помню уж, молод я или стар. Мужчины, которых я презирал, женщины, которых я целовал, – все они только тени, призраки на ветру… Но я не забыл их.
Порой я спрашиваю себя, желала ли она помнить, или прошлое превратилось лишь в череду снов её древней души? Она не цеплялась за реальность так, как я. Быть может, в этом её мудрость, но не моя.
Помню детство как вечность. Дни тянулись невозможно долго, завершаясь под покровом ночи сном без сновидений. Я закрывал глаза вечером, чтобы открыть их утром для нового бесконечного дня. В ранних воспоминаниях я брожу по паутине коридоров, казавшихся бесчисленными, глядя по сторонам сквозь спутанные чёрные волосы, лезущие в глаза. Даже трещины на стене казались мне достаточно увлекательными, чтобы подолгу разглядывать их, – так было скучно!
В большом пустом доме больше всего меня привлекал отцовский кабинет. Когда дверь была открыта, я прислонялся к косяку и с любопытством разглядывал гарнитур мебели. Шкаф представлялся мне огромным. Сквозь стеклянные дверцы виднелись ряды толстых книг, выполнявших декоративную функцию собирателей пыли. Что не пылилось, так это графин из богемского хрусталя с дорогим коньяком!.. В центре комнаты возвышался дубовый письменный стол, на котором неизменно располагались бумаги, пепельница, портсигар, а также небольшая книга – сборник трагедий Шекспира. И наконец, предмет роскоши – большое кожаное кресло, в котором восседал отец. В ту пору его борода ещё не поседела и сам он, большой и сильный, вызывал восхищение. Я подолгу стоял в дверях, ожидая, пока он обратит на меня внимание. Обыкновенно он поднимал глаза, глядел на меня с полсекунды и снова опускал их. Впрочем, иногда родитель мой улыбался. Эта улыбка предвещала глубокий, ласково-властно зовущий бас: «Кай! Иди ко мне!» Я подбегал, он усаживал меня на колено, брал книгу и начинал читать «Трагедию о Кориолане».
Кай Марций Кориолан[1] – с каким восхищением во мне было слито это имя! Ребёнком меня прельщала история о надменном воине, который не боялся говорить правду людям в лицо, даже если это означало пойти войной на собственную страну.
Он противопоставил себя всему миру: в моих глазах это являлось подлинным величием. Только конец пьесы оставался обескураживающе непонятен. Умереть, отказаться от принципов ради отечества, которое наплевало на тебя, и семьи, которая тебя предала… Разве это путь героя? Потому я и придумал собственный финал, где Кориолан убивает обидчиков: такая развязка вполне удовлетворяла меня.
Однажды я спросил отца, как так вышло, что сильный и храбрый Кориолан погиб столь глупо.
– Он доверился Авфидию, своему злейшему врагу, – ответил он. – Жизнь такова, сын: все люди волки. Если ты не убьёшь другого, он убьёт тебя.
Но меня меньше всего интересовал коварный вождь вольсков.
– Да нет же, не о том! Почему Марций не смог переступить через мать, которая была готова пожертвовать жизнью единственного сына ради какого-то постылого Рима?
Отец недолго думал над ответом. Кажется, у него уже было заготовлено своё прочтение последней трагедии Шекспира.
– Дело не в том, что Кориолан не смог переступить через мать. Он уже сделал это, когда отрёкся от родины и пошёл искать друзей во вражий стан, поступившись воинской честью. У него хватило дерзости поставить себя выше отечества, закона и морали, но не хватило духу действовать соответственно.
– Но разве он был вправе совершить предательство?
– У сильного своё право. Стань сильным – и тебе будет дозволено всё, мой Кай!
Так он наставлял меня, трепля за волосы на затылке. Не сомневаюсь, отец дал мне имя, желая взрастить такого же беспощадного бойца, каким был Марций. Он загнал меня в силки Кориолана…
Глядя на этого богатырского сложения мужчину с подстриженной окладистой бородой, в которой от висков чернь мешалась с серебром, на то, как он развязно принимал должников в расстёгнутом сюртуке, накинутом поверх красной рубахи, а затем властным басом приказывал слуге: «Зови цыган, пировать будем», можно было подумать, что он всю жизнь был уездным барином. Меж тем Антал Войнич родился в семье скромного польского ростовщика.
Я мало интересовался жизнью отца. Знаю, что в девятнадцать его по знакомству устроили в австрийский банк, где молодой человек сравнительно быстро возвысился до помощника управляющего. Хваткая натура хищника помогла ему не зарыться в кипах бумаг, ставших могилой амбициям многих честолюбивых юношей. Красивому и расторопному Анталу, умевшему временно придержать своё честолюбие, не стоило больших трудов влюбить в себя стариков из совета директоров. По мере того как они одряхлели и отошли от дел, Антал стал совладельцем престижного банковского дома, а когда законные наследники постарались выкурить его из своего круга, показал им когти.
К тридцати восьми годам отец пользовался уважением среди цвета чешских промышленников: угольных баронов, владельцев фабрик, строителей железных дорог, но его истинной целью стало вхождение в высшее общество. Для этого ему требовались деньги, имение и наследник. Деньги были, а имение он вскоре приобрёл.
Серым монолитом оно возвышалось над полями, подавляя так же, как отец подавлял физической мощью и тяжестью взгляда. Прошлый хозяин, один из последних алхимиков Богемии, истратил состояние на бессмысленные опыты. Старые служанки рассказывали, будто видели, как он делил трапезу с самим дьяволом, а в окнах загорались разноцветные огни… Когда чудак умер, имущество пошло с молотка для уплаты долгов. Так отец завладел огромным домом в окрестностях Праги, в одиннадцати верстах от Staré Město. Купил на торгах за бесценок, без мебели и почти без прислуги: прошлая разбежалась ещё при жизни покойного хозяина. Правда, те, что не устроились на новых местах, быстро потянулись обратно, раз работать на сатанинского прислужника больше не придётся. Только вместо странноватого интеллигента, тихо доживавшего свой век и культурно потягивавшего вино с чертями, им достался властный барин, любивший кутить с цыганами так, что земля сотрясалась.
Здесь Антал начал покровительствовать цыганскому табору, разрешая «ромам» останавливаться на своих полях. Думаю, это позволяло отцу чувствовать себя кем-то вроде Карла Радзивилла[2].
Здесь же в 1864 году, когда ему было сорок два года, на свет появился я.
Отметить деловые удачи отец всегда спускался в холл, где висели шпалеры и рога туров. Это было единственное помещение, обставленное пускай и по-холостяцки скупо, но со вкусом. Там было тепло, и маленьким я любил сидеть на старом ковре у камина, обводя восточные узоры.
Цыгане быстро начинали слетаться на обещание бесплатной выпивки и лёгких денег. Их женщины, расправившие яркие платки, походили на красивых коршунов с пёстрыми крыльями. Они что-то запевали, но всё заглушал хор с крыльца. Двери распахнулись, когда под разлив песни и женский смех вошёл сам барон: за широким кожаным поясом красовалась плеть с посеребрённой ручкой. Рядом с рослыми красавицами он казался немного неказистым. В глаза бросались низкий рост да клочковатая борода; зато волосы густые и курчавые, как каракуль. Помню, у него было восемь золотых перстней – по четыре на каждую руку, все с разным орнаментом. Он посылал вперёд смазливую цыганочку с караваем хлеба, чтоб барин поцеловался с ней, и только после неё шёл сам поздравить пана с удачей.
– Да, сделка славная, – отвечал отец. – Не пройдёт и года, как аристократы, что пять лет назад и слышать обо мне не желали, станут пресмыкаться предо мной в пыли. И всё же это не имело бы никакого смысла, если б на старость лет Бог не благословил меня сыном!
Потом он подошёл ко мне, поднял с ковра, усадил на колено и сказал:
– Ну-ка, пострел, повтори, что изобразил мне накануне!
И я выдал с мальчишеской бойкостью, глядя ему в глаза:
Он на меня не ступит:
Я спрячусь, вырасту и драться буду.
Отец расхохотался и поднял меня высоко над головой.
– Ай, бездельник! Не будь так смугл, мне стоило бы куда меньших хлопот дать тебе свою фамилию. Но в тебе течёт моя кровь, а это уже значит, что ты лучше всех. Настоящий Войнич! – Потом усадил меня на плечо и крикнул: – Ведите коня! Лучшего! Пора сына к лошадям приучать.
– Да разве можно в здании, барин?
– Глупый ты, гекко. Моему сыну всё можно!
Барон владел шестёркой коней: такими красавцами, что их на рынке можно было поменять на добрую сотню. Чтоб угодить отцу, он приказал привести одного из них – породистого рысака, рыжего с медным отливом. Отец посадил меня на широкую спину коня, похлопал его крутую шею и пустил рысью, ударив по крупу. Жеребец поскакал, пока я беспомощно трясся на нём, отчаянно вцепившись ручонками в гриву. Поводья свободно висели, я не смог бы управиться с ними…
Наконец, мне удалось почувствовать ритм, и я начал неловко подпрыгивать, пытаясь двигаться вместе с лошадью. Впервые в жизни глядя на людей сверху вниз, я осмелел настолько, что раскинул руки в стороны. Цыгане весело бежали за мной, присвистывая и погоняя коня, а те, что впереди, приветствовали песней:
Ай ты, мой конь буланый,
Ай ты, мой конь буланый,
Вороной,
Унеси меня домой!
С возрастом серые стены уже не удерживали меня: напротив, я редко бывал в них, разве только ночевал, и то в холод, – влекло на вольный воздух, а там, чуть ли не у самого крыльца, стояли шатрами цыгане. В полдень я любил, мерно ударяя хлыстом по голенищу сапога, прохаживаться среди разукрашенных кибиток: каждое колесо, между прочим, расписано! Цыгане относились ко мне как к драгоценности. Маленьким господином они звали меня. Среди них я и впрямь чувствовал себя господином, обходящим свои угодья, где всегда кипела жизнь.
Каждый день усатый котельщик, расположив наковальню прямо на пне, ковал подковы или нехитрые посудины, чтобы потом обвеситься ими и отправиться торговать в близлежащие города. У костров сидели цыганки с оголёнными грудями, эти степные маки, одной рукой державшие внеочередного младенца, а другой – трубку. Те из них, что посвежее, были красивы крепко сбитой ветрами обветренной красотой: впрочем, она останется с ними недолго, в лучшем случае до двадцати. Среди цветастых юбок матерей бегали голенькие смугляки мал мала меньше. Малыши забавно путались под ногами, вызывая усмешку даже на самом суровом лице.
У полуразвалившейся кибитки сидела слепая гадалка Катри. Она была самой старой женщиной в таборе, утверждали, будто ей девяносто девять лет. Верили, что она човали[3], а значит, может превращать людей в животных. Я никогда не боялся её. Для меня она была просто старой Катри, которая давала играть гадальными камушками и пыталась научить читать людей по глазам. Я отвечал, что, по мне, все глаза одинаковы. Тогда она сказала, якобы я не могу видеть души, потому что у меня самого нет души.
Иногда старуха раскладывала карты Таро для моего развлечения. Перетасует по памяти рук, сложит в прямоугольник рубашками вверх и скажет выбирать по одной. Я не верил в это, но любил таинственные изображения и то, как Катри толковала их потрескавшимся от времени голосом, глядя сквозь меня мёртвыми белёсыми глазами.
Как-то раз из третьего ряда мне выпал незнакомый аркан.
– Никогда раньше не видел у тебя такой карты. Седовласый юноша с арфой в руке поёт деве, распускающей чёрные волосы в лунном свете. Они бледны и прекрасны. Девушка сидит на камне, а молодой человек в низине, словно на коленях перед ней. Что это значит?
– Ты держишь карту мыслителей и поэтов. Она зовётся Луной, – ответила Катри певуче: её старческий голос доносился до меня словно из края сновидений. – Арфист символизирует любовное томление и влечение к смерти, дева же – душа Луны. Над тобой тяготеет её проклятье. Скитаться тебе, как и нам, цыганам, тропой руин и призраков. – Не услышав ответа, она спросила с жуткой улыбкой, перекосившей сухой, как у мумии, рот: – Не веришь?
– Вздор. Всё вздор, – отозвался я, – но ты подари мне эту карту. Она мне нравится.
– Бери, маленький господин. Людям редко выпадает Луна, а тебе с ней по жизни-дороге идти.
Больше, чем с Катри, я любил проводить время только с гекко, бароном по-нашему. Он научил меня завязывать калмыцкий узел, который чем сильнее тянешь, тем больше петля затягивается, и многому ещё, всего не вспомнить.
Один цыганский мальчишка всё хвастал перед ним. Он любил ради забавы загонять коней до того, что с них клочьями пена летела. Подъедет, бывало, и красуется, мол, каков я? Но гекко только глядел на бедное животное, покрытое пылью и потом, да отвечал с досадой:
– Если бы ты научился пускать впрок свои силы, глупый щенок стал бы славнейшим из цыганского племени!
Цыганёнок не считал нужным сдерживаться. Чёрные глаза его сверкнули негодованием: он грубо поворотил коня, распаляя в себе обиду.
– Камия, постой! – крикнул я ему.
– Отстань!.. – резко отозвался он и, зло ударив по бокам хрипящую лошадь, умчался прочь.
Гекко никогда не приказывал Камие прекратить жестокие забавы, наверное, оттого, что не имел привычки приказывать. Пока юнец скакал в поля, разозлившись, что не получил за свои выходки одобрения, старшина впал в задумчивость. Я пристально разглядывал ороговевшую коросту на его щеке, и он казался мне не цыганским бароном, что так пыжился перед моим отцом, но другим человеком, усталым и несчастным. Старый гекко, бездетный гекко. Была у него одна дочь, и та умерла родами. О ребёнке её я ничего не знал.
– Баро[4], – тихо позвал я, – красивая была твоя дочь?
– Красивая, – отозвался он со вздохом. – Как яблоня в цвету. Но непокорная.
Вечерело, и собралась молодёжь песни петь. Цыганские скрипки извлекали звуки дикие и огненные, на разбойничьи песни похожие. Я встал, влекомый песней, правую руку заложив за голову, а левой постукивая кнутом по ноге: так, пританцовывая, и пошёл, ведя плечами. Музыка нарастала, но мои движения, ускоряясь, оставались колеблющимися, как пламя.
Ай, маменька,
Ту кинэ мангэ шалёночку[5] –
А мэ джява палороём[6],
Ой, подарю и да золовушке…
Я обернулся и, увидев в толпе обступивших меня цыган застенчивую девочку лет десяти с распущенными волосами, позвал её тихо:
– Чаёри, иди!
Опустив зелёные глаза, она пошла послушно, подчиняясь мне и завораживающей власти скрипки.
Запрягай-ка, дадо[7], лошадь,
Серую ли нэ косматую,
Мы поедем, ай, в ту деревню,
Девушку посватаем!
Я плясал на месте, постукивая каблуками по земле, а Чаёри робко кружила вокруг на носочках, с неподражаемой грацией выделывая этот чудесный восточный рисунок, который у взрослых цыганок зачастую выглядит как вульгарное потряхивание плечами; она же слабенько дрожала на ветру, оцепенев грудью и станом.
А та серая лошадка,
Она рысью, ромалэ[8], не бежит.
Чернобровый цыганёнок
На душе моей лежит.
Свистнув сквозь зубы, я подался назад, перебирая ногами. Чаёри покорно пошла на меня, всё так же потупив очи и вытянув чёрную головку. Поняв приглашение, цыгане вошли в пляску, и ничего больше не было видно, кроме разноцветных платков, ничего не было слышно, кроме топота ног и звона украшений.
Когда не осталось сил петь и плясать, мы растянулись на земле в вечернем отдыхе. Я приклонил голову на палево-зелёную шаль, которую Чаёри всегда повязывала на бёдра под цвет изумрудным глазам. Рядом полулежал её старший брат Пашко, перебирая струны гитары. Кажется, именно он научил меня играть на ней, точно не помню. Во всяком случае, у него это получалось особенно хорошо.
Перед нами горделивой походкой, звеня чеканными браслетами и серебряным монисто, прошла Нона, первая красавица табора. На неё смотрели с восхищением. Чаёри мечтала вырасти хотя бы вполовину такой же красивой. Женщины, правда, отзывались о ней с осуждением, называли «господской шлюхой», но она взирала на всех царицей Савской и, глядя в глаза людям, не видела ничего, кроме своего отражения в их зрачках.
Я не любил её. Быть может, наперекор отцу. Помню, как-то раз объезжал нового скакуна рядом с табором. Цыгане пели, сквозь пёстрые платки и юбки я видел отца, сидящего на ковре, да Нону со вскинутыми руками. Танцуя, она подошла к нему и стянула узорчатый плат, крест-накрест перевязанный на обнажённой груди. Я пришпорил коня и на всём скаку въехал в хоровод, плетью огревая тех, кто не успел разбежаться. Они устремили взгляд на моего отца, ожидая его реакции. Антал встал и расхохотался.
1
Кай Марций Кориолан – легендарный римский полководец. Был отдан под суд за выступление против власти народа, бежал к вольскам и, возглавив их войска, осадил Рим. Поддавшись уговорам матери, снял осаду, за что был убит союзниками как предатель.
2
Карл Радзивилл (1734–1790) – литовский князь, покровительствовавший цыганам.
3
Ведьма (цыг.).
4
Уважительное обращение к мужчине (цыг.).
5
Ты купи мне платочек (цыг.).
6
Выйду замуж (цыг.).
7
Папа (цыг.).
8
Цыгане (цыг.).