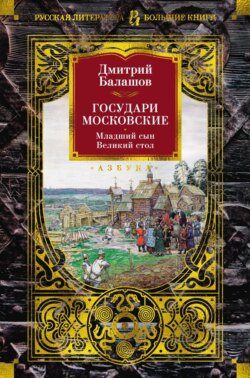Читать книгу Государи Московские: Младший сын. Великий стол - - Страница 41
Младший сын
Часть вторая
Глава 39
ОглавлениеДорога бежит из ворот Переяславля, плавно подымаясь на угорье, мимо слобод и монастырей, селами и пашнями, лугами и бором, и через Дмитров, сквозь чащи, болота и дебри верхней Клязьмы убегает на юг, к маленькому городку Москве.
Кони ждут у крыльца, нетерпеливо встряхивают гривами. Данил Лексаныч, молодой князь московский, прощается с государыней-матерью, с княжьим теремом, со старухою нянькою, с дворней, с родимым Переяславлем.
Тоненький большеглазый десятилетний мальчик, с волосами светлыми, как неспелая рожь, с задумчивым и печальным взглядом, в белой полотняной рубашке стоит на крыльце. Мальчик провожает дядю Данила, и ему грустно. Данил выходит на крыльцо и подымает племянника на руки.
– Ну что, Ваня, будешь меня помнить?
Мальчик без улыбки кивает в ответ и тихонько отвечает:
– Буду.
Данил прижимает его к себе, гладит по светлым шелковым волосам. Племянник Иван Дмитрич обнимает его за шею, хочет попросить: «Не уезжай!» Но ничего не говорит, знает, что ехать надо. Данил ставит Ваню на крыльцо, ерошит ему волосы: «Не грусти!» Улыбается.
Данил сегодня улыбается с утра, хочет сдержаться и не может, алые губы сами раздвигаются мальчишечьей счастливой улыбкой. Он с вечера сам проверил возы, что укладывали под надзором боярина Федора Юрьича, оружие и рухлядь, запас на первые дни и всякий хозяйственный снаряд. Не потому проверил, что не доверял Федору Юрьичу, а потому, что хотелось (впервые!) почувствовать себя наконец хозяином. Припас был свой, и оружие, и снаряд, и все тут было свое теперь. С этим начинать хозяйство там, в Москве, про которую он и посейчас знал лишь только, что «ловли там хорошие». И для ловлей тоже приготовлен припас: силки, капканы, сети, охотничьи стрелы, рогатины.
В особом ларце, в княжеском возке, сокровища. Не бог весть и какие: каменный ларец, как говорят, цесаря Августа, серебряные кубки, кольца, несколько серебряных поясков, один с камением, изукрашен, да золотая иконка, да крестик… Немного, да опять же свои. И дорогие одежды в коробьи тоже свои. Голубого шелка зипун с разрезными рукавами, бобровая шубка, бархатный опашень, несколько шелковых рубах, парчовый долгий сарафан для выходов да шапка, шитая серебром, с каменьями и с соболиной опушкой. В ней он будет сидеть в думе, принимать послов… Будут теперь и послы! В ней – править суд. И суд теперь будет он править, как полагается князю.
Кони нетерпеливо перебирают копытами. Мать-государыня выходит на крыльцо. Молодые бояре князя московского садятся в седла. Данил нарочито неторопливо, покачивая плечами, сходит по ступеням крыльца. Он весь угловатый, еще нескладный, как молодой породистый пес, и немножко смешно, когда он так вот изображает взрослого. Его большой нос на худом лице, худая шея, и эти никак не складывающиеся, сами улыбающиеся алые губы, и голос, низкий, но с невольными еще звонкими срывами – все упрямо свидетельствует, что владетельному хозяину московского удела еще только шестнадцать лет.
Государыня-мать, рыхлая, широкая, уж очень старая, смотрит на него с крыльца. «Женить нать! – думает она, пока улыбающийся сын садится в седло и машет ей рукою. – Невеста, дочь муромского князя, уже почти присмотрена. Говорят, красивая. Надо самой поглядеть». Данил отъезжает. Кони, картинно ступая, пересекают Красную площадь. Позади остаются княжеские хоромы, белокаменный собор, шумный торг, слободские низкие домики…
Дмитров, где Данилу с дружиной чествовали в княжеском терему, остался позади. Едут лесом. Белки взлетают по стволам прямо перед мордами коней. Лоси лениво отбегают с дороги. Все в пятнах и кружеве солнечного света. Тут уже все свое: и лес, и белки, и солнце, и медовый дух цветущего вереска, и незабудки – брызги небесной голубизны – тоже свои. Первая росчисть, первая деревня… Жарко. Пахнет разогретой смолой. Тонким дурманящим духом болиголова тянет с болот. Открываются поляны в белой кипени или в солнечно-желтом разливе цветов…
Ближе к Москве деревни пошли гуще. Мужики настороженно глядели вслед верхоконной дружине, гадая, к худу иль добру приезд незнакомых, судя по платью, боярчат.
Данила торопился. Обоз давно уже остался позади. На переправе через Клязьму их наконец встретили несколько московских бояр со слугами и дарами. Дары были бедноваты, и бояре смотрели скорее с любопытством, чем почтительно. С коней они не слезли. Старший из встречных бояринов ошибкой обратился было к ключнику, осанистому и видному собою Кочеве, приняв его за князя. Данил был одет как все, в простом платье. Протасий, заглядывая сбоку в напряженное, с сомкнутыми губами и двигающимся кадыком лицо Данилы, хотел было вмешаться, но Данил чуть повел головой, запрещая, и, дав боярину произнести уже первые слова приветствия, сказал резко, чуточку побледнев:
– Князь я.
Боярин огляделся и по смущению ключника, по напряженным лицам остальной дружины уразумел что-то, а внимательнее вглядевшись в закипающие гневом глаза молодого голенастого парня в холщовой распахнутой летней чуге, вдруг понял и начал торопливо слезать с коня. Спешились и остальные. Данил, двигая кадыком, продолжал молчать, скорее тоже от растерянности. Он совсем не представлял, что его так оскорбительно могут встретить. Но это и оказалось лучше всего. Молчал он, молчала, натягивая поводья, дружина, молчал Протасий, решительно сжимая в кулаке тяжелую плеть, и спешившиеся москвичи, пересаливая в другую сторону, повалились в ноги. Скоро подскакал великокняжеский наместник, знавший Данилу в лицо, и тоже спешился с многословными извинениями: не ожидали князя-батюшку так скоро… Данил едва взглянул на дары, кивнул Протасию:
– Прими! – Обратившись к наместнику, спросил отрывисто: – Когда будет встреча?
Тот, переглянувшись с местными боярами и проводив глазами принятые и непринятые дары, уразумел в свою очередь и заверил, что торжественная встреча назначена на утро, а сейчас его только хотят проводить до ночлега и просят принять хлеб-соль. Данил глядел на него и через него и не шевелился. Протасий, двинувшийся было вперед, молча натянув поводья, вспятил коня. И опять Данил угадал правильно. Это была еще одна невежливость: подносить хлеб-соль прежде торжественной встречи не полагалось. Москвичи, воспрянувшие было при словах наместника, чуя затянувшееся молчание, опять запереглядывались. Данил, так и не ответив наместнику, повернулся к Протасию, дернул головой вбок:
– Пошли кого ни то!
Протасий решительно направил коня на бояр с хлебом-солью, и те торопливо стали заворачивать развернутое полотенце и садиться на коней. Скоро весь встречный отряд во главе с наместником и с людьми Данилы в опор ускакал вперед.
Данил ехал рядом с Протасием, который, напрягая мышцы, удерживал коня так, чтобы быть и рядом и на пол конской морды позади князя. Данил долго молчал, забыв свою давешнюю улыбку, которая всю дорогу не сходила у него с лица, потом сказал сквозь зубы, срывающимся голосом, глядя прямо перед собой:
– Они что, и здеся меня будут дразнить московским князем?!
Протасий, невольно улыбнувшись, вовремя прикусил губу…
Торжественно встречали их на другое утро. Данила, уже пересердившись, словно бы и не помнил вчерашнего. К тому же чин был полностью соблюден, дары (видно, что наспех собранные) обильны, московские бояре почтительны. Он опять не захотел ждать обоза, помчался – теперь уже с сильно увеличившейся дружиной – вперед. К Москве подъезжали засветло. Ехали долиной речки Неглинки, уже густо распаханной, мимо череды изб и кое-где владельческих хором, изредка прерывающихся островками смешанного леса. На вырубках еще подымался густой веселый березняк, а уже под самым городом и он расступился, и открылась потемневшая бревенчатая крепостца на горе. «Вроде Клещина!» – отметил про себя Данила, умеряя ход лошади. Негустая толпа горожан выстроилась для встречи, тоже с хлебом-солью, которые поднес большой сивобородый дед. Данил, принимая хлеб, улыбнулся и сказал:
– Спасибо, дедушко!
Как-то само прорвалось, не подумал, от мальчишеских лет, а вышло опять хорошо. В толпе заулыбались, закивали князю.
Внутри крепостцы было десятка четыре хором, простых и боярских, рубленая церковка, торговый и ордынский дворы. Для князя приготовили хоромы, но Данила даже и при беглом взгляде на все увидел ветхость и запустение. И запустение было обидным, больше всего в небрежении гляделись боевая городня и княжой двор, словно бы уже и забыли про князей в этой лесной вятичской стороне!
После благодарственного молебна в церкви, после вечерней трапезы с дружиною и с местными боярами, уже оставшись один в изложнице, Данил как-то вдруг упал духом и затосковал. Он полежал, неспокойно пошевеливая плечами, потом встал, натянул сапоги, накинул на плечи зипун и вышел из покоя на галерейку. Ратник, что стоял на стороже, пошевелился, спросил почтительно:
– Не спится на новом, Данил Лексаныч?
– Да… – бегло улыбнувшись, отмолвил он, отходя к дальнему концу галерейки. Ратник, помявшись, задвинулся за угол, чтобы не мешать.
Данил остановился, вдыхая речной влажный воздух. Река светилась под горою, внизу. Редко розовели крохотные оконца хором. На кострах невысокой городни трепетали, потрескивая, факелы сторожи. Смутный шум то доносился, то таял. Чьи-то шаги хрустели внизу, да голос текущей воды непрестанно доносился из-под горы. Здесь было даже тише, чем на Клещине ночною порой, и Данилку совсем охватила грусть. Нет, он, конечно, и не ждал кирпичных палат или узорчатых белокаменных храмов! А только чего-то все же хотелось другого, более сказочного, что ли… Он стоял, кусая губы, вдыхал ночной прохладный воздух, и все не приходило желанное, жданное всю дорогу чувство, что это свое, родное, кровное, наконец. Было – что чужое, незнакомое, даже враждебное. И дом был разрушен: не здесь и уже не там, откуда он уехал и где был дом тоже не его, а старшего брата, Дмитрия.
Обоз пришел на другой день к вечеру. Данила весь этот день принимал гостей с подарками, страшно устал, стараясь с первого раза запоминать всех и каждого, и все одно не запоминал. Голова начинала кружиться. Между делом узнал, что город богат, только не ухожен. Амбары стояли полнехоньки, великому князю шло отсюда немало, а кто-то сказал – он так и не запомнил кто, – что «тута поискать по лесам – вдосталь народу, что и дани не дают никакой!» Поискать следовало, Данила совет запомнил.
На третий день, бросив все дела, Данил позвал Протасия проехаться верхами. С этого, пожалуй, стоило начинать: самому оглядеть хотя бы округу. Они шагом объехали городню, отмечая гнилые бревна, покосившийся частокол, щербатые свесы кровель над кострами. Взглянув на ремесленное окологородье и лавки вдоль Москвы-реки, на низком берегу, они поворотили коней, миновали жидкий посад, переехали через легкий мостик на ту сторону Неглинной и выбрались в луга.
Данила молчал. Уже кустарник начал переходить в подлесок и крупные сосны, как первые стражи леса, оступили кругом, когда Данил, пробравшись через ельник, остановил коня. Чистая река струилась перед ними. Вода слегка, неприметно, пела. Над крутояром того берега прямо к обрыву подступали крупные стволы, а вдали и выше по течению виднелось большое село. Протасий подъехал, решившись нарушить молчание:
– Воробьево! – сказал он, поглядев за реку и тотчас на князя. Данила долго-долго молчал, и Протасий подумывал уже, не отъехать ли ему назад, к кучке ратников, что на расстоянии сопровождала князя, когда Данил обернулся к нему с медленной улыбкой:
– Тихо тут! Слышишь, как река журчит?
Когда возвращались и снова кругом объезжали крепость, поднявшись на гору, у самых городских ворот, Данила снова остановился, глядя на луг под горой, неровно окаймленный редкою цепью домиков, переходящих на той стороне Неглинки в деревушки, прячущиеся меж перелесков и холмов. Протасий тоже остановился, гадая, о чем сейчас думает Данил Лексаныч? Он даже заглянул в лицо Даниле, которого за эти дни как-то невольно начинал чувствовать старше себя, хоть князь и был младше его двумя годами. Данил вздохнул, потом опять вздохнул, выпрямился, сказал тверже, чем прежнее:
– Мельницу поставим. Вона там! А здесь будет у нас площадь. Красная! Как в Переяславле! И торг тоже здесь!
Кони шагом протопотали в воротах, Данила ехал нарочито медленно. Миновали житный амбар, где сейчас из отверстых настежь ворот выносили кули с зерном и старый житничий, мельком поглядев на них и поклонившись князю, что-то отмечал на вощеной табличке.
– Утром вызови! – кивнул Данил Протасию. – Пущай доложит, кому отсылает хлеб.
– Понять не мочно! – говорил Данил Протасию на пятый день. – Должно тута быть княжеским селам! Все ж ты, Протасий, перемолви с наместником!
Братнин наместник, конечно, сказал, что, мол, сел нетути, а внове устроить и населить пришлым народом можно.
– Устроить! Населить! – гневался Данил. К счастью, приехал Федор Юрьич. Покряхтел, выслушал Данилу, его сбивчивые объяснения о селах и жалобы, что москвичи не признают своего князя.
– Признáют помаленьку! А села есть, селам как не быть! Дак хошь и не жили тута, а батюшка твой всюду имел, и от Михайлы Хоробрита должны были остаться, да и от Юрия Долгорукого… Тому хоть и многонько летов, а князево добро не ветшает. Бывал на той стороны, на Воробьевых горах? Съезди, воздух там легкой, здоровой – боры! Дак и села поглянь. Те села издревле княжески!
Тут же узналось, что села те сейчас за наместником.
– Пущай очищает! – кипел Данил.
– Ты не вдруг, – останавливал Федор Юрьич. – Ты кем тут ставлен? Братом. Братним наместником, значит. Он тута бояр собирал, встречу устроил, а ты – очищай! Он и очистит села, но не так, не срыву. Ты его подорвешь и свою власть тоже не укрепишь. Да и не за им одним села те! Думу собрать и на думе высказать, пристойно чтоб. И не так обидно, не ему одному… Вообще – грамоты на землю посуживай, ты же князь!
Данила тотчас велел объявить о думе и что созывает всех вотчинников говорить о земле. Вечером, накануне, трапезовали с дружиной. Обсуждали грядущий день. Спорили, запивали медом. Толковали о том, что и им, пришлым Даниловым боярам, надлежит земля.
– Ты уж нас не забудь, княже! – шутили ратные. – Еще будем вспоминать, батюшка Данил Лексаныч, как сидели вместе за столом-то!
Данил усмехался, кивал, обещал.
С утра перед думой Данил волновался, как в училище. Зеркало куда-то запропастилось. Не стал звать слугу, отодвинул из-под рукомоя лохань с водой, дождался, когда уляжется рябь, осмотрел свое отражение в темной воде. Представил себя со стороны в этот миг, прыснул, не сдержавшись. Княжеская шапка чуть не свалилась в лохань.
Московские бояре украдкой переглядывались с наместником. Бояра Данилы все, кроме Федора Юрьича, были мальчишки и вид имели заносчивый. Молодой князь старался глядеть грозно, но губы выдавали – то и дело морщились непрошеною улыбкой.
Начал Протасий: «…О селах княжеских, которые исстари за князьями были, и на которых достоит князю сидети, и с которых достоит ему доходы имати, и кто те селы заял, и под кем они ныне, и како мощно села те князю московскому Данилу Лексанычу воротити…»
Заспорили яро:
– У Михайлы Ярославича были тут селы?!
– Дак тому давненько летов!
– Летов тридцать, да и поболе! Иное и запустело…
– Людей все прибавляется кажен год, то с Рязани, то с Чернигова бегут, а тут запустело?
– Доход в казну великого князя отколь идет?!
– Великому князю идет обчее, со всего княжества, а не с сел!
– Дак что, о селах тех к великому князю посылать?
Сел старых, ухоженных, было жалко. Но Дмитрий, занятый в Новгороде делами и войнами, вряд ли сейчас опалится на брата. Наместник покорился, за ним покорились и другие, тем паче что о селах, где и какие суть, Данил вызнал заранее.
После думы Данил был весел и счастлив, но Федор Юрьич тотчас остудил его:
– Пошли, княже, приглядеть, скот бы не угнали!
Данил покраснел – как не сообразил сам! Вызвал дружину, разослал в разные концы, на Воробьевы горы послал Протасия.
На перевозе почему-то не оказалось лодок. Переплыли верхами. Скакали, подымались в гору. Встречу в темноте шло стадо.
– Куды? Заворачивай!
Пастухи нарочито бестолково хлопали кнутами, разгоняя скот. Протасий, ярея, обнажил саблю. Подействовало. Скоро сбитый табун двинулся обратно. До утра удалось воротить еще шесть конских и скотинных табунов, нагнать страху на посельских и старост. У других прошло не так гладко, где-то почти дошло до оружия, уже зазвенела сталь, двое-трое были поранены, кому-то пришлось даже и отступить.
С утра Данил принялся сам объезжать села. Осматривал хозяйство, принимал отчеты посельских и старост. Наученный Федором Юрьичем, всюду влезал сам, отстранял списки и приказывал отворять амбары, житницы, сенники. Пересчитывали скот. Мужиков собирали, объявляли им, что села теперь – княжевы. Страдникам, издольщикам и прочим зависимым пахарям долго приходилось объяснять, что они уже теперь своему прежнему господину ничего не должны, а должны одному московскому князю. Скоро раскрылось, где что было уведено. Данил несколько раз посылал дружину возвращать отогнанные стада, где и сами, уразумев, что князь не шутит, приводили скот, винились.
Чтобы отбить охоту перечить князю, Данил объявил, что все несудимые грамоты прежних князей теряют силу и он будет пересуживать и подтверждать владельческие грамоты сам, и только после осмотра сел и земель, а допреж того сбор даней поручает своим боярам, а суд по всей волости берет на себя. Он вызвал московского мытника, вирников, посельских, всех перешерстил, кого-то выгнал, поставил своих. О суде, что отбирается у бояр и будет княжеским, доколе не подтвердят несудимых грамот, бирючи по три дня кричали на торгу и повестили по селам. Обиженный народ разом прихлынул на княжой двор. Данил с боярами оправливал мужиков, разбирал тяжбы, посылал дружинников поглядеть на месте как и что. Разрешил сам, по сказкам послухов, два-три спорных дела местных бояр и одну древнюю тяжбу о землях по Яузе, послав перемерить землю заново.
Среди прочих дел пришлось рядиться с ордынским баскаком, приехавшим вслед за Данилою для ханского надзора за новым князем; разрешать церковные дела; отпускать хлеб, рыбу и мед попам и причту, что прибыли по его зову из Никитского монастыря…
И уже готовили лес чинить городни, уже везли смолистые бревна на новый княжеский терем, уже суетились и заглядывали в глаза вчерашние местные насмешники и спесивцы.
Возчиков-древоделей Данил встречал сам. Везли бревна и тес, дубовую дрань на терем. Народ был веселый, здоровый, видно, что не изработанный еще, свежий народ. Нравились и лица – крупноносые, большеглазые, без боязливости этой, мерянской: не понять, то ли винится, то ли лукавит перед тобой?
– Ай, батюшка-князь, не круто затеваешь?
– Мечтаешь ли здеся сидеть али от нас куда в ино место?
– У нас место глухое, лесное, князи не держатся!
Возчики сгрудились вокруг Данилова коня.
– Михайло Хоробрит, твово батюшки брат, одно лето и высидел! А потом и не было никого, на нашей-то памяти все наместничали тута…
– А уж свой князь был бы, ино и мы не подгадим! Свой князь – порядку боле!
– Налоги буду брать со всех! – улыбаясь, отвечал Данил.
– Дак налоги-то бери, лихву бы не брали, а то на постой, да кормы, да так – поболе налога отдаем! Тому – бобра, иному – куницу, набольшему – соболя, да коням кормы, да посельским, тем и другим давай, всего много станет!
Один из мужиков, охлопав коня Данилы по морде, оправлял уздечку, кто-то трогал седло, оглаживал круп. Всем им хотелось верить, что князь не уедет, будет местный, свой, и Даниле стало даже жарко от этого неложного к нему сочувствия и неложного хотения, чтобы он остался у них и не уезжал никуда.
И когда уже обоз тронулся дальше и возчики, многажды оглядываясь, кричали ему приветственные слова, Данил все стоял, не трогая коня, и все смотрел им вслед, и горячее чувство в груди ширилось, слагаясь в твердое решение: бросив все дела, начать немедленно объезд княжества, на который он еще как-то не решался до сих пор.
В объезде и осмотре княжества Данил провел все лето и часть осени. Он накоротко возвращался в Москву и уезжал вновь, совершив лишь самые первоочередные дела. Дружина его в дорогах менялась, и только один Протасий безотлучно находился при князе.
Они спустились по Москве до Мячкова, осматривая села, починки и деревни по обоим берегам реки. Воротясь, проехали по Пахре до Красного и даже выше, пробираясь сквозь густые лесные дебри. Потом осмотрели берега Москвы выше по течению, вплоть до Рузы и границ княжества с Можайской землей. Поднимались по Истре, изъездили из конца в конец до пределов княжества всю Клязьминскую пойму, были на Воре и на Уче, где Данил подарил Протасию в вотчину обширные земли на рубеже Дмитровского княжества. Обскакав берега Сходни, Неглинной и Яузы, Данил наделил землею своих ратников, подавав им усадьбы на посаде и под городом.
Местные бояре, напуганные указами Данилы, сами встречали князя, подносили дары, провожали на путях, униженно молили посудить грамоты на землю, что от дедов, прадедов… Данил смотрел, пересчитывал, мерил. Грамоты посуживать не торопился, отлагал до своего возвращения в Москву.
Много было мест совсем пустых, хоть и удобных, к коим стоило только приложить руки, скучавшие по крестьянскому топору и тупице.
– Богатая земля! – говорил Протасий.
– Богатая, – соглашался князь и добавлял: – У нас в Переяславле богаче! Ухожено более!
Находились деревни ничьи, с которых и даней не брали или брали случаем, от наезда к наезду. Обычно о том сказывали сами местные жители или бояре, чая снисхождения к себе от князя. Посылали кого-нибудь, иногда ехали и сами Данил с Протасием. В чащобе неожиданно открывалась росчисть, на росчисти низкая, с односкатной, почти прямой кровлей изба, перекрытая тройным слоем дерна. Толстая зевающая мордовка останавливается на пороге: «Моя не понимай!» Мужик вылезает погодя откуда-нибудь из лесу, сторожко подходит, пытается сунуть Даниле лису или бобра. Узнавши, что князь, стоит в растерянности. Вокруг тишина, неподвижное, будто веками не меняющееся время. Все неизменно: лес, вода, пни, медвежьи следы в овсе.
– Крещеные? – спросит Протасий. В ответ новый зевок. Хозяйка всею пятерней расчесывает себе поясницу.
– Хрещены…
– Крест-то где?
– Хрест! А где-то у хозяина! Моя не знай!
На самой посконный, с поперечными красными нашитыми полосами, костыч, красный убрус на голове. Из-под засаленного, с каемкой грязи, убора – серебряные кольца. Когда отъезжают, стоит смотрит, как красный мордовский идол.