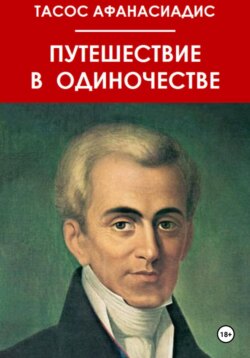Читать книгу Путешествие в одиночестве - - Страница 2
I. Собачий язык
ОглавлениеСтая голубей задержалась над двором еврея-маклера, затем пронеслась по воздуху и скрылась за готической крышей соседней больницы. Наступило предвечерье, напоминавшее аттическое. Его принесли птицы, прилетевшие с востока. Они сильно захлопали крыльями и снова приземлились во дворе. С беспечностью херувимов глупые пернатые клевали зерна.
Каподистрия только что возвратился с вод Карлсбадена и испытывал чувство уверенности среди декора венской осени. Окно гостиницы выходит на улочку Лотрингер, на которой благоухает жимолость у еврея-маклера. О, эту осень в Вене он никогда не принял бы так равнодушно, даже если бы оставался сверхштатным секретарем в здешнем посольстве, а Роксана делала бы ему изящные замечания по поводу его ошибок в греческом.
В течение этой недели триста пятьдесят представителей властелинов земли примут в этом столь склонном к наслаждениям городе решение о всеобщем мире. Сумеет ли Меттерних получить председательство? Возможно, он найдет обоснование, – какое-нибудь наивное обоснование, позволяющее не задеть тщеславия лорда Кэслри. Он получит председательство и связанный с этим почет…
Сегодня хочется задушевного общества… Печень у него в порядке. Куда запропастился Вардалахос, знающий все без исключения места Вены, где можно поразвлечься? Хотя бы Николопулос был на месте.
Склонившийся в поклоне слуга принес на подносе приглашение от княгини Лихтенштейн на пресловутый бал двадцатого числа. Лихтенштейн? Да, да… Третьего дня он танцевал с этой австриячкой. Его представила ей графиня Меттерних. Нужно быть начеку! Говорят, эта лукавая внучка князя Кауница выковала узы, соединившие Корсиканца с Марией-Луизой. Всякая женщина скрывает в себе Ватерлоо. Но в качестве кого устраивает княгиня свои избранные союзы? Хорошо. Прекрасно. Видать, этот месяц пройдет в перестрелках. Во всяком случае, сегодня вечером нужно поразвлечься. Пойти к Николопулосу, которому известны все питейные заведения Вены. Ах, ведь Элеонора Меттерних – идеальная супруга!
Он принял ванну, побрился, надел пошитый в Во костюм и отправился к Николопулосу, уверенный, что педантичный сотрудник Французского Института, находившийся здесь в отпуску, в соответствующие часы непревзойден в изобретении увеселений.
Он остановил карету и дал адрес Николопулоса в Ринге. Там ли он или снова проводит дни и ночи напролет в «Портике Славы», среди пятидесяти двух статуй, рассматривая произведения Бласа, кольчуги Скандербега или меч Филиппа Красивого? Он проехал по Кернтнерштрассе, неотрывно смотря на движение ночного города. Проезжая мимо собора Святого Стефана, он снова испытал неизменное чувство человеческой гордости от того, что находится в городе, каждый уголок которого обладает своей собственной историей. Как-нибудь вечером он придет сюда, чтобы погрузиться в волнующий сумрак храма и вопросить самого себя, уже наедине с собой о том, что он сделал в жизни своей для бессильных мира сего, и что еще мог бы сделать. Он глянул на часы средневековой арки. Без четверти семь. Он снова погрузился в раздумье, а карета везла его тем временем по течению многолюдной реки, достигавшей в этот час своего половодья.
В эти дни предстояла встреча с Роксаной после трехлетней разлуки. Роксана! Изменилась ли она? Как она встретит его? Эти три года были насыщены тревогами и борьбой. Корсиканец свел на нет их усилия на Дунае, осрамил их в Люцен-Бауцене, но в Швейцарии реакционер Лебцельтерн принял на себя весь огонь его необузданной молодости… Он совсем не желанный гость в этом городе, поскольку посрамленный Лебцельтерн информировал своего господина об идеологических слабостях российского грека. Хитрому Меттерниху вовсе не по душе его близость с царем… И что же из этого?
Привезет ли Роксана пудреницу? Вечера, – так сообщила она ему в своем письме третьего дня, – Роксана проводит в Клостернейбурге в получасе езды от Вены, на вилле своей давней соученицы графини фон Клерфайт, которая часто остается в одиночестве, поскольку ее муж, бывший моряк, стал теперь страстным альпинистом и собирателем редких перьев…
Мгновение спустя он наклонился к окошку, захваченный врасплох шумом, который подняли пожарники, и почувствовал удушающий запах гари. Перед глазами у него метались золотисто-красные языки пламени. В квартале Грабен горел богатый дом. Ох, очень уж легко воспламеняющейся выдалась эта осень!
При взгляде на голубую ленту Дуная лицо его прояснилось.
Он сошел у Биржи, решив перейти через канал пешком. На набережной он смешался с толпой и вышел к реке. Во многих других местах, где ему пришлось жить и работать, эта река была декором, но, видя ее укрощенной и мрачной в привычной к наслаждениям Вене, он испытал особое волнение. Он столько раз останавливался на мосту, чтобы увенчать реку цветами…
Задержавшись у парапета, он смотрел невидящим взглядом на течение могучей реки. Какому богу поклоняется эта идущая мимо толпа? Какое вино получится из его трудов, когда время даст им настояться? Что получит память от сердца? От избытка воды корень может загнить, от недостатка – засохнуть.
Николопулос сидел в своей богемного вида комнате, склонившись над рукописями и засучив рукава рубахи.
Увидав у двери Иоанна, он поднялся, застигнутый врасплох.
– Сегодня я тебя совсем не ждал, – растерянно сказал Николопулос.
Среди беспорядка голой комнаты он попытался было найти место, чтобы усадить гостя, но Иоанн уже схватил подвернувшийся под руку наполовину развалившийся стул, вызволив Николопулоса из затруднительного положения. Он уселся у окна, выходившего во двор с виноградными лозами, и вытащил платок, чтобы утереть лоб. Николопулос все еще ожидал ответа.
– Теперь, хотя и поздно, у меня разыгрался аппетит, – беззаботно ответил Иоанн, нетерпеливо показывая взглядом, что у него нет намерения оставаться здесь в заточении.
Николопулос угостил его сигаретой. В течение какого-то непродолжительного времени они курили.
– Пишу уже три часа, не останавливаясь. Пора уж и перерыв сделать… С утра был в Клостернейбурге, в монастыре августинцев. Приняли меня прекрасно, – сказал Николопулос и, понизив голос, добавил: – Среди монастырских рукописей время я провел превосходно…
Через клубы табачного дыма Иоанн с нежностью наблюдал за своим бедным другом, захваченным врасплох его неожиданным визитом. Густые взъерошенные волосы Николопулоса ниспадали, закрывая красивый лоб, спокойный взгляд, любовно ласкал вещи.
– На днях я тоже побываю в Клостернейбурге, но не ради средневековых впечатлений… Что ты переписываешь? – спросил он с ласковой иронией.
Николопулос задвигался на своем сидении так, что его маленький столик с рукописями закачался, и восторженно заговорил:
– Ты даже представить себе не можешь! У меня замечательная находка – Послание сирийского механика Каллиника, который построил флот для Константина Бородатого. В нем содержатся важные сведения о жидком византийском огне…
– Ну, что ж, прекрасно! Вернешься в Париж и сразу же сделаешь доклад. А теперь мне хотелось бы выйти с тобой, прогуляться… Как ты меня находишь?
– Вид у тебя несколько рассеянный, – ответил Николопулос и поднялся. – Должно быть, у тебя трудности… Кто надоумил тебя стать дипломатом?
Иоанн устремил взгляд в полумрак двора. Легкий ветерок прильнул было ласково к виноградной лозе, но тут же отпрянул прочь из-за ее вялости. Какие-то рукописи, лежавшие на чайнике, приподнялись, потревоженные струей воздуха.
Чистя щеткой сюртук, Николопулос спросил:
– Книга, которую я тебе оставил, понравилась?
Иоанн улыбнулся.
– Вот что я тебе скажу. В своих воспоминаниях Гвичардини выглядит большим реалистом, чем его непримиримый друг Макиавелли. Можно было бы сказать, что его теория – в сущности, прикладной макиавеллизм. Однако он – гениальный ценитель человеческих дел и непревзойден в эпиграмматическом стиле… Когда он рассуждает, кажется, будто говорит свободный человек, иронизирующий по поводу любой условности…
Николопулос умолк на мгновение, посмотрел на свои руки и добавил:
– Однако мой темперамент отвергает его.
Николопулос стоял со шляпой в руке.
– Не напоминает ли он тебе кое-кого из венских знакомых? – спросил он.
Иоанн положил ему руку на плечо и засмеялся:
– Мой чувствительный француз, ты имеешь в виду супруга Элеоноры Кауниц?
Они засмеялись.
На лестнице Николопулос остановился и поискал в кармане какое-то письмо.
– У меня новости от Кораиса. Он шлет тебе самый пламенный привет. Французские газеты, в особенно «Фигаро», отмечают, – пишет он, – твою деятельность и твои успехи. Они возлагают надежды более на некоего друга Франции, чем на Талейрана…
На узкой улице, усаженной липами, Иоанн задержался на минуту и, сунув руки в карманы, заметил:
– Обрати внимание, дорогой друг! Французы – льстецы. С той только разницей, что лесть их отличается необычайным достоинством, пленяющим достоинством. Ты знаешь, как я люблю их…
Они направились к Пратеру, и Николопулос решил было походатайствовать несмело за своих названных братьев:
– Никто не знает, почему он любит французов. Одни любят их за учтивость, которую ты называешь лестью. Другие – за патриотизм, как будто любовь к родине присуща не всем. Некоторые любят их за открытость, и таковые, я думаю, наиболее, искренни. Я же люблю их за их иррационализм, несмотря на то, что именно среди них родился некий Декарт…
Иоанн засмеялся, радуясь этому софизму, и глянул на Николопулоса взглядом полным доверия. Николопулос был так скромен.
– Согласен, – сказал он, – но только на сегодняшний вечер. Поскольку я тоже иррационалист, но только на сегодняшний вечер…
Они вошли в просторную аллею, усаженную каштанами.
Среди изысканного света Иоанн вскоре разглядел все еще изящное и искреннее лицо княгини Черниной, бывшей ему доброй советчицей в его первые годы в Вене. Он подошел к княгине, поцеловал ее пухлую ручку и погладил собачку, которую она держала на тонкой цепочке. О, если бы княгиня только знала, что он осуществил за эти годы вдали от ее светского тщеславия. И что же? Она знала все, совершенно все! Она жила все еще в Каленберге, и как только он приедет в Вену, будет ждать его, чтобы провести вместе вечер, вспоминая незабываемые часы… Да, в последнее время она, действительно, избегает столицы, но была вынуждена приехать, чтобы показать врачу собачку, потому что на задних лапках у нее появилась какая-то экзема. Итак, она непременно ждет его…
Они миновали Аквариум, затем небольшую рощу. Теперь они оказались в квартале пивных и народных театров. Остановились перед каким-то полишинелем и, наконец, вошли в первое попавшееся заведение.
Внутри было душновато. Они прошли вглубь, направо, к открытому наполовину окну. Это заведение, принимавшее самых разных посетителей, пользовалось необычайной славой благодаря своим оригинальным напиткам. Несколько зеркал, висевших на стенах, были старыми, но чистота поддерживалась безупречная. Приглушенно играл цыганский оркестр, на который никто не обращал внимания. Они заказали у плешивого официанта вино Штейнберга.
Внимательно рассматривая продолговатый зал, Николопулос вспомнил, что в одну из зим, когда он приехал с особой миссией из Франции, они гуляли вечером вместе с Вардалахосом и пили превосходное вино Штейнберга. Он улыбнулся и заерзал на своем стуле. Иоанн искоса глянул на него. Разве не он в ответе за то, что начиналось в этот вечер?
– Ты уже бывал здесь?
Его спутник самодовольно усмехнулся:
– Да, один раз, с Вардалахосом и Василиу. Знаешь, сигары, которыми я угощал тебя дома, мне прислал Вардалахос.
– Где он теперь?
– В Одессе. Пробудет там некоторое время – занимается зерном своего зятя.
– Вот как! – Иоанн сложил руки на груди. – Этот коммерсант-филолог так красиво говорит по-гречески.
Официант принес заказ, но они даже не заметили этого, потому что тут со страшным шумом вошла компания бесшабашных студентов. Все парни, ярко выраженные блондины, были в тирольской одежде для загородных прогулок. Их предводитель подошел к стойке и потребовал французского шампанского. Шампанского не было. Его заказали и ожидали заказ со дня на день. Все, чего они пожелают, но только не это. Два парня из компании заорали, что желают только шампанского. Шампанского и ничего другого! Своими криками они только взбудоражили публику, а затем с шумом удалились прочь, высоко подняв дорожные мешки на альпенштоках и продолжая выкрикивать: «Шампанского! Шампанского!»
Иоанн пододвинулся ближе к Николопулосу и сказал:
– Молодой человек, который выглядит их предводителем, – племянник Меттерниха. Он изучает право и требует шампанского. Не пройдет и минуты, как князь узнает об этом и накажет его за сумасбродство…
Руководитель оркестра нежно перебирал струны. Вскоре зазвучала приятная мелодия, полная страсти и меланхолии. Играл только один музыкант. Рядом с ним на небольшой скамье сидела еще молодая женщина, с голубыми, очень блестящими глазами и очень русыми волосами, зачесанными за уши, наполовину закутавшаяся в шаль. Она ни на кого не обращала внимания, и ей тоже никто не придавал значения. Казалось, будто она принадлежит к сопровождению оркестра. Николопулос первым заметил ее и наклонился к своему другу. Тот проявил интерес. Действительно, только эти двое скучали здесь. Официант с женоподобными движениями сразу же ответил на безмолвный вопрос. Это – Стефания Каминская, российская полька. Когда-то она была массажисткой в санаториях Давоса, но занятие танцовщицы оказалось более выгодным. Хи-хи-хи…
Они пригласили ее за свой столик, и она приняла приглашение без лишних слов. Заказала она кюмель.
Смотря ей прямо в глаза с некоторым смущением, Иоанн сказал, что у нее очень красивая голова.
Откуда она? Она даже сама того не знала.
А он? Из России.
– Но ты не похож на русского.
– Не похож, потому что я не русский.
– А я на кого похожа? – спросила она, засмеявшись, запрокинув голову и поправляя дешевый сатин.
– Гм… Немного на польку, – сказал Николопулос.
– Ха-ха-ха! Толстый Макс успел сообщить.
Она, шутя, прикурила сигарету, которой ее угостили.
– Откуда я?
– Где ты живешь теперь? – спросил Иоанн.
Придерживая сигарету большим пальцем, она посмотрела на него своими светлыми глазами.
– На улице Савонаролы. На пятом этаже в многоэтажном доме у орехового дерева.
Принесли напитки. Стефания чокнулась, одним духом осушила стакан и искоса подозрительно посмотрела на него.
– Ты – швейцарец?
– Нет. Но я работал и в Швейцарии. Почти швейцарец. – Он придвинулся к ней. – Глаза у тебя мутные, как Франкфуртская прокламация2.
– Вчера у меня был жар. Каждую ночь я вся в поту. Вот уже несколько дней я одна: мой друг уехал с финкой в Гельсингфорс.
Николопулос взял ее за руку. Она пылала. Женщина снова заказала кюмеля.
– Ты вся горишь!
– Должно быть, у меня жар, – безразлично сказала она. – Дед мой был богатым беем. У него было целое поместье под Магнесией. И тридцать шесть жен. Бабушки я не знала, но мне известно, что она была тридцать шестой. Дед испустил дух у ее обнаженных ног. Врач, который меня смотрит, рекомендует проходить курс лечения каждую весну и осень и гулять в эту пору в парках. Он говорит, что я – от переутомленной крови… Но мне это кажется вздором. – Она слегка вздрогнула. – Ах, да… Еще мне известно, что один из моих предков сражался геройски под Веной рядом с Кара-Мустафой3.
Она снова заказала кюмель.
Двое других медленно попивали вино.
– Не знаю почему, но кюмель меня бодрит, будоражит кровь. Мне кажется, именно его и пили древние боги. С этим оркестром я приехала из Варшавы. Теперь, во время Конгресса, здесь, в Вене кого только нет… – Она посмотрела на Иоанна, показав свои белые зубы. – Хочешь завтра пойти со мной?
– Почему же завтра?
Он заметил, что нос у нее тонкий и очень хрупкий.
– Сегодня я не усну, мне это хорошо известно. – Она смотрела ему прямо в глаза своим безмолвным, женским взглядом. – Ты выглядишь как благородный. Может быть, ты тоже один из этих nobilissimus’ов, которыми полна теперь Вена.
Николопулос шепнул ей, что он – грек.
– Грек? Гм… Во мне есть и греческая кровь. – Она призадумалась, затем сказала как-то даже резко: – Дай руку. Я отлично гадаю. Моя тетя, там, в Крыму, умела находить редкие травы для волос и безошибочно читать судьбу каждого. Мне она сказала: «Ты утонешь в красной реке».
Женщина жадно осушила еще один стакан и склонилась над его ладонью:
– Рука у тебя мягкая, почти как у женщины. Никогда не держала ничего, кроме пера. – Она притихла, внимательно разглядывая линии, затем прищелкнула языком и продолжила: – Одна линия ослабевает посредине. Исчезает. Другая исчезает в мелких разветвлениях рядом.
Она вдруг замолчала и, устремив на него сверкающий взгляд, сжала его руку в своей, желая удержать. Ее раскрасневшееся лицо выглядело почти гневным. Друзья смотрели на нее с изумлением, но она не обращала ни малейшего внимания на производимое ею впечатление. Тон ее голоса стал низким, в нем слышалась явная тревога.
– Собак тебе жалко? – властно спросила она наконец.
Иоанн смотрел на нее рассеянно, пытаясь улыбнуться. Она с упорством спросила снова:
– Жалко их? Ты знаешь много языков, но не забудь выучить и собачий4!.. Слышишь? Выучить собачий язык, – повторила она, смотря ему прямо в глаза своим воспаленным взглядом, а затем вся сжалась на своем стуле, изнуренная и совершенно безразличная к тому, что они приглушенно говорили о ней…
Огонь звуков, который еле поддерживал в глубине зала музыкант, вспыхнул вдруг ярким пламенем. Звуки вдруг вырвались из пьянящего оцепенения, разбуженные, словно ударом кнута, удалью стремительной русской пляски. И женщина почувствовала ее, словно электрический разряд. Она вскочила со стула и прыжком оказалась рядом со своими товарищами. Одним взглядом и двумя жестами она сказала им все. А затем все увидели, как она изгибается, извивается, наклоняя голову к ногам, увлекая всю землю своим, невероятно легким телом, превращаясь в светлую, русоволосую точку. Ноги ее казались кинжалами, рассекающими воздух, руки – крыльями, захватывающими его… А затем она вновь взмыла вверх, словно пламя лампады, с развевающимися волосами, огненная и неистовая, подняв свое восхитительное чело, чтобы взглянуть на следивших за ней крохотных существ. Так она и осталась – белая стела, огненная черта, проведенная под ее укротителем – звуком. Она превратилась в некую фантазию!
И вдруг она покачнулась и резко упала на пол, обливаясь алой кровью, увенчав голову нимбом из своих рук, а неистовые рукоплескания выразили всеобщий восторг этим оригинальным «номером». Скрипка замерла в руках солиста, когда тот увидел ее ясно-голубой взгляд, который смотрел всюду и в никуда…
Все столпились вокруг нее, чуть было не затоптав ногами. Какой-то итальянец среднего возраста побежал вызвать карету, чтобы отвезти ее в больницу. Два друга за столиком побледнели. Иоанн повернулся и посмотрел на Николопулоса, который старался сохранить хладнокровие. Он почувствовал комок в горле и необходимость вдохнуть свежего воздуха. Они рассчитались и ушли с таким чувством, будто знали что-то большее, чем все остальные…
Мелкий дождик только что прекратился. Движение на улице становилось все тише. Отовсюду доносилось благоуханное дыхание земли, вызывавшее непонятное головокружение. Они пошли через парк Министерства Внутренних дел, устало и апатично скрывшись под его листвой. Оба они молчали. Каждый их взгляд, каждое движение выдавало изумление. Поигрывая своим эмалевым перстнем, Иоанн прошептал вдруг еле слышно: «Ты утонешь в красной реке…», а затем резко повернулся к Николопулосу.
– Не это ли предсказала ее тетя из Крыма?
– Что? – рассеянно спросил тот.
– Что она утонет в красной реке…
– Да, действительно… – пожал плечами Николопулос. – Но это столь же неопределенно, как и «деревянные стены» дельфийского оракула5…
В уголках его губ скользнула улыбка. Им обоим хотелось переменить разговор. Легкий ветерок запутался вдруг в листве, и оттуда на них вдруг брызнули росистые капли. Николопулос поиграл пальцами.
– Знаешь, – сказал Иоанн, стараясь быть веселее, – я приобрел новое издание Крылова. Происшествие, случившееся у нас с Чичаговым в Луцен-Бауцене, вдохновило его на новую басню. Поскольку никто не мог поймать храбрую мышь, за дело решила взяться рыба. Она приложила множество усилий, но, в конце концов, мышь отгрызла ей хвост.6
– Где теперь Чичагов?
– Думаю, в Париже. Вот уже два месяце прошло с тех пор, как я получил от него письмо из Люцерна. Я опасаюсь за его жизнь, с которой сам он, бедняга, никогда не считался…
Николопулос предложил сигару, но у Иоанна не было желания курить.
В небольшом парке Министерства болтали дрозды. Пребывают ли все времена года в каждом из них в отдельности? Пребывает ли вся наша жизнь в каждом мгновении?
Какой-то тучный приземистый старичок с бородой и толстой тростью пришел и уселся на скамье напротив. Он казался равнодушным ко всему. Даже к собственным страданиям. Он блаженно прислонился к спинке скамейки, тихо опустил голову на рукоять трости и, казалось, уснул.
На какое-то мгновение воцарилось молчание.
– Бедняжка, – тихо сказал Иоанн.
Николопулос решил показать себя более действенным:
– Ты это о Стефании?
– Да… В какую больницу увезли ее?
– Думаю, к Святому Себастьяну. Пойдешь проведать ее?
Они растерянно переглянулись.
– Возможно, – ответил Иоанн, глянув на свои руки.
Старик напротив захрапел. Должно быть, он очень устал за минувший день. А может быть, он снова переживал что-то из своей романтической юности? Зря листва бросала на него свои освежающие капли.
– Кажется, она говорила что-то о собаках… Не так ли? – спросил Иоанн, настойчиво глядя в лицо другу.
Взгляд его пронзал сквозь полумрак. На лбу у Николопулоса выступили капли пота.
– Пора задуматься…
– Может быть… Нет… Но почему это пришло ей в голову. Собачий язык. Тот, кто говорит на языке Талейрана, никогда не поймет собачьего языка…
Николопулос не ответил и только съежился.
– Становится свежо, – сказал он.
Иоанн засмеялся:
– Но лоб у тебя весь в поту.
Он помолчал немного и добавил:
– Завтра я встречаюсь с Нессельроде7. Возможно, попаду на прием к царю…
– Тогда пошли. Тебе нужно хорошо отдохнуть…
У рынка Иоанн остановил коляску. Прежде чем подняться, он внимательно поглядел на друга и попросил зайти утром в гостиницу и оставить адрес больницы. В темноте Николопулос не мог видеть, как возбужден, был его взгляд.
Старик не просидел долго на скамейке. Несколько крупных капель упало ему на шею. Он встревожено, проснулся. Ах, он ведь уснул. Который час? Старик поднялся и пошел своей дорогой, мерно постукивая тростью.
В парке остались только дрозды.
Ночь Иоанн провел очень неспокойно, и утром язык у него был желтым. Во время завтрака ему принесли записку от Николопулоса с адресом больницы. Некоторое время он сидел, погрузившись в раздумье, поигрывая запиской и разглядывая в зеркале свое бледное отражение.
В одиннадцать он должен был находиться во дворце Шенбрунна на приеме у царя, чтобы со всеми вместе окончательно решить, какой тактики следует придерживаться. Это Герцогство Варшавское стало камнем преткновения. Нужно выдвинуть оба требования. Нужно настаивать на независимости Польши под нашим покровительством. Нужно требовать большего, чтобы забыть о менее значительном… Если бы добиться, по крайней мере, чтобы председателем на Конгрессе был граф Гартенберг. Но австрийская лиса опять разрушит их планы и, в конце концов, настоит на своем…
В какую же реку погрузилась изящная головка Стефании? О, это лицо пшеничного цвета со светлыми глазами… У них было такое умоляющее выражение, когда она говорила о собачьем языке. Она словно молила судьбу…
Он надел костюм, в котором был вчера вечером, торопливо причесался и помчался в коляске в больницу Обер-Дунау.
Когда там увидели, с каким волнением и заботой спрашивал он о состоянии певички, на которую никто не обращал особого внимания, ей сразу же предоставили все удобства. Нужно немного подождать, – сказали ему, – потому что больной удалось уснуть только под утро.
Он прошел в зал ожидания и стал рассматривать висевшие на стенах картины. Взгляд его задержался на полотне пастельных тонов, изображавшем церквушку в окружении деревьев. Очарованный вечером монашек собирался ударить в колокол. Идиллическое спокойствие было разлито всюду. Через открытое окно он смотрел на движение на улице. Боже мой!.. Каждый час, каждую минуту жестокие и безжалостные приближаемся мы к тишине, простирая руки, и со страшным шумом…
Стефанию он увидел в небольшой комнатке. Она лежала с высоко поднятой головой, с грелками в ногах и пузырями со льдом на груди. На лице у нее не было ни малейшего волнения. Тщательно причесанные волосы были резко контрастны бледному, как полотно, лицу. Они остались наедине. Он протянул руку к ее воспаленному лбу и еще выше – к ее восхитительным волосам. На веках у нее была вся тяжесть земли, на губах – терпкость пустыни. Она устремила к нему взгляд своих светлых глаз, которые ни на что не смотрят положительно. Уголки ее рта приоткрылись. Волосы беспокойно дрогнули. Он торопливо поднес палец к губам: не двигайся! В своей жизни она столько говорила и столько двигалась! Слабая улыбка озарила ее лицо. Вчера? Позавчера? Завтра? Она помнит его! Как это все случилось? Ей не больно, нет ничего серьезного. Она пошевелила пальцами в его ладони. Теперь она уверена, что он может быть одним из тех, nobilissimus.
Он решил нарушить молчание и успокоить ее мысли: пусть она сохраняет спокойствие, пока не поправится. Пусть не беспокоится насчет денег. Лицо ее помрачнело: сеть ее ресниц тщетно старается скрыть какое-то недоброе видение. Она пошевелила пальцами в его ладони. Мелкие капли пота выступили у нее на висках. Собачий язык? Да, да… Пусть она не беспокоится. Затем она закрывает глаза и обретает отдохновение в грезах… Дымка над крымскими пейзажами, приводящая в беспокойство волосы и мнущая голубые ленты. Он вынул из кармана какую-то коробочку. Там был золотой браслет с резным изображением собаки на агатовом камне. Надевая браслет ей на руку, он ласкал ее запястье с невыразимой нежностью. Она приподняла веки, рассеянно поглядела на него и снова предалась своим сладостными грезам. Словно серебро струилось с ее чела, на котором осталась только гордость.
Он вернется. Найдет время и вернется.
Он заплатил администрации больницы за лечение на месяц вперед и попросил присматривать за браслетом больной.
День был тусклым. Он сел в коляску и вскоре был уже во дворце Шенбрунна.
2
Франкфуртская декларация: Опубликованная во Франкфурте противниками Наполеона декларация была обращена к французам, призывая их не связывать свою судьбу с судьбой Корсиканца. (Прим. автора.)
3
Кара-Мустафа (1633–1683) – великий визирь и полководец, знаменит руководством осады Вены, завершившейся поражением турок, которое нанесли им войска польского короля Яна Собеского (1683).
4
Собачий язык: Согласно народному преданию, Каподистрия, став уже Президентом Греции, направляясь утром 27 сентября 1831 года на службу в церкви Святого Спиридона в Навплионе, был остановлен на улице лаем черной собаки, однако пошел дальше, навстречу своей судьбе. (Прим. автора.)
5
«Деревянные стены» дельфийского оракула: Перед походом персидского царя Ксеркса на Грецию пифия дельфийский оракул велел афинянам искать спасения за «деревянными стенами». Согласно одному мнению, в «деревянных стенах» следовало усматривать плетеную изгородь вокруг Акрополя, согласно другому, оказавшемуся «верным», – корабли (Геродот, VII, 141–142).
6
мышь отгрызла ей хвост: Будучи командующим флотом, Чичагов занялся делами сухопутных сил и понес полное поражение от французской армии. (Прим. автора.)
7
Карл Нессельроде – советник императора Александра по внешнеполитическим вопросам, коллега Каподистрии на Венском конгрессе. (Прим. автора.)