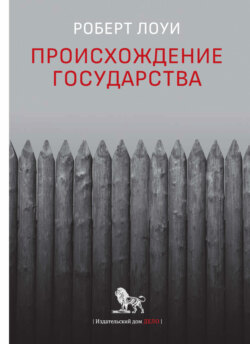Читать книгу Происхождение государства - Robert Harry Lowie - Страница 4
I. Размер государства
ОглавлениеСам по себе размер никогда не был надежным классификационным принципом, поэтому нет необходимости извиняться за то, что мы помещаем упомянутые выше небольшие племена в одну категорию с Британской империей. Если в остальном они соответствуют концепции государственности, было бы непростительно исключать их лишь на основании их малочисленности. Эмпирически, конечно, размер может иметь огромное значение, но теоретически общины, составляющие тысячную часть от населения старой Сербии, могут принадлежать к одному рангу с Россией и Австро-Венгрией. Однако с антропологической точки зрения интересно исследовать динамику роста численности, и в этом случае Новый Свет, представляющий, так сказать, всю гамму значений – от партикуляризма шошоноязычных племен Невады или индейцев Калифорнии до обширных владений инков Перу, – дает наводящий на размышления материал. Мы, конечно, не будем строить наивных предположений, что происходящее на других континентах должно в точности повторять то, что мы находим в Америке.
Сепаратизм едва ли может доходить до большей степени, чем мы наблюдаем в случае некоторых наших калифорнийских аборигенов. Профессор А. Л. Крёбер нередко настаивал на том, что применительно ко многим народам в этой области сам термин «племя» почти смехотворно неуместен[7]. Отчеты переписей и оценки не должны способствовать возникновению ошибочных представлений. Так, Крёбер устанавливает старую популяцию племени юроков в 2500 человек, в то время как численность племени майду оценивается Диксоном и Крёбером в 4000–9000 человек соответственно. Но юроки и майду в этом контексте не несут никакой политической коннотации, не более чем термин «андаманец». Хотя культура жителей одной деревни неотличима до степени смешения от культуры жителей другой деревни, хотя их диалекты могли быть взаимно понятными или даже идентичными, соседние поселения не формировали общности, желающих нарушить границы между ними не пропускали бдительные караулы, а иногда чужаков просто уничтожали. Одиночное поселение, состоя щее, возможно, из сотни человек, преимущественно кровных родственников, составляет единственную политическую единицу. Подозрительное отношение ко всем чужакам неизбежно приводило к невозможности миграции между деревнями и препятствовало объединению в большие группы.
Впрочем, достаточно переместиться не далее чем к ареалу обитания аборигенов региона реки Колорадо – всех племен юмской языковой семьи, – чтобы обнаружить совершенно другое положение дел. Да, несомненно, даже численность племени мохаве, если брать самый яркий пример, никогда, вероятно, не превышала 3000 человек. Но, во-первых, эта цифра, достаточно пустяковая с нашей современной точки зрения, огромна по сравнению с сотней или двумя сотнями душ в племенных общинах юроков. Но гораздо важнее разница в их положении. Отдельный индивидуум племени юроков глубоко уходил корнями в определенную деревню, причем локализация на самом деле заходила так далеко, что даже отдельные группы домов носили отличительные названия. В группе соседних поселений одно «иногда было вовлечено в междоусобицу, в то время как другое, расположенное прямо через реку, лишь наблюдало». В регионе реки Колорадо, напротив, мохаве «думают… о себе как о едином народе, Hamakhava. Они также думают о своей земле как о стране, состоящей из бесчисленного количества мест. Они не придают значения ее поселениям. Место, где человек родился или живет, для них чем-то схоже с номером дома для нас и не является ключевым фактом его биографии. Человек существует в отношении к группе как к целому, а эта группа имеет определенную историю, с богатыми взаимосвязями, но само поселение не является частью этой схемы»[8].
Мохаве не боялись дальних путешествий. Они свободно смешивались со своими собратьями из других локальных племенных групп, а их военные предприятия приводили их далеко на запад, вплоть до вторжения на территорию чумашей на побережье Тихого океана. На самом деле племена юма продвинулись дальше не только в развитии национального самосознания, но даже в тенденции создания относительно стабильных союзов с чуждыми группами: так, мохаве и юма регулярно объединялись против племен марикопа и кокопа.
На первый взгляд у нас может возникнуть соблазн вывести это развитие из несколько более высокого статуса культурного развития племен реки Колорадо по сравнению с жителями Центральной Калифорнии, ибо они делят с другими южнокалифорнийцами умение производить глиняную посуду и единственные среди аборигенов этого штата обрабатывают землю. Однако по зрелом размышлении становится ясно, что юманский национализм нельзя напрямую соотносить с прогрессом в материальной культуре. Индейцы пуэбло, такие как хопи, намного превосходят юманские племена как в уровне земледелия, так и в гончарных навыках; тем не менее центростремительность их поселений может соперничать со строгим сепаратизмом Центральной Калифорнии. Даже крохотная деревушка Шипаулови с населением всего в сто человек ревниво оберегает свою индивидуальность от соседних деревень.
С высокой вероятностью мы можем связать национализм реки Колорадо с воинственным характером культуры юма. Легко понять, что для эффективного ведения боевых действий требовались большая численность и большая слаженность, чем наблюдались в отдельных поселениях юроков и майду. В качестве начального шага к большей аффилированности этот фактор, вероятно, оказал существенное влияние. В то же время его значение не следует переоценивать. Он действительно может помочь преодолеть чрезмерное провинциальное разделение северных калифорнийцев, но его самого по себе едва ли достаточно, чтобы выйти за пределы этой скромной стадии в достижении объединения народа. С другой стороны, воинственный дух, очевидно, может действовать и как разрушительная сила. Полинезийцы, кажется, не менее воинственны, чем любой другой народ, но мы находим их раздробленными на мелкие владения из-за взаимной враждебности ссорящихся вождей. Это ни в коем случае не было следствием их замкнутости внутри территориальных ограничений; Новая Зеландия предлагала широкие возможности для объединения под рукой великого вождя, но и она не составила исключения из правил. Даже на Гавайях подчинение различных крохотных владений общему правлению произошло немногим более столетия назад.
Такие же неудачи в создании крупной политической организации характерны и для вечно воюющих индейцев Великих равнин. Таким образом, возможно, что 4000 индейцев кроу сто лет назад были разделены на две дружественные, но политически независимые общности: речные кроу и горные кроу. Точно так же индейцы Дакоты, широко известные как сиу, были далеки от формирования государственной единицы. Даже сообщество оглала-сиу ветви тетон сиу (лакота) делилось на четыре части, и, когда две из них были переданы в ведение Агентства резервации Пайн-Ридж, только из почтения к пожеланиям правительственных чиновников Соединенных Штатов они объединили свои независимые системы правления[9]. Таким образом, мы можем сказать, что воинственность, вероятно, не связана с крайним партикуляризмом Тихоокеанского побережья.
Вместе с тем там, где мастерство ведения войн сочеталось со способностью к организации, результаты были поразительными. Например, поселения криков были объединены в лигу даже во времена Де Сото (1540), а конфедерация криков, которая в XVIII веке включала около пятидесяти поселений и племена, говорящие на шести различных языках, смогла защитить Алабаму и Джорджию от вторжения северных племен. Таким образом, знаменитая Лига ирокезов, основанная Гайаватой примерно в 1570 году, господствовала над территорией, простирающейся от Оттавы до Теннесси и от Кеннебека до Иллинойса и озера Мичиган[10]
7
Alfred Louis Kroeber, “Handbook of the Indians of California”, Bureau of American Ethnology Bulletin, 1925, Vol. 78, 8–15, 726–830.
8
Kroeber, “Handbook”, 727.
9
Clark Wissler, “Societies and Ceremonial Associations in the Oglala Division of the Teton-Dakota”, Anthropological papers of the American Museum of Natural History, 1912, Vol. XI, Pt. 1, 7.
10
Frederick Webb Hodge, Handbook of American Indians North of Mexico, Vol. I (Washington: Government Printing Office, 1907), 363, 618.