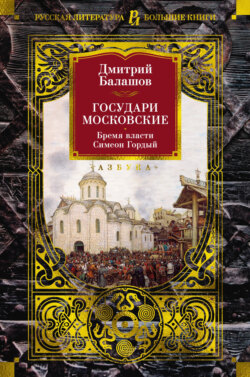Читать книгу Государи Московские: Бремя власти. Симеон Гордый - - Страница 11
Бремя власти
Часть первая
Зодчество князя Ивана
Глава 9
ОглавлениеПосле того как схлынула Туралыкова рать, волоча рабов, скот и добро, оставляя дымы пожарищ да пепел заместо деревень, уцелевших охватило отчаянье. Сама великая княгиня Анна жила в велицей скудости, а уж им, жонкам боярским, пришло и поболе того. Клавдия сама и воду носила из Тверцы по первости. Покуль не приехал брат, не помог кое-как огоревать первую клеть на пожаре. А до той поры ой и досталось! Жили в земляной норе, в грязи, во вшах; госпожа и слуги – все в одном жилье. По стыдному делу какому – хоть отвертывайсе! Ни хлеба, ни дров… Брат Иван привез какого ни есть добра, пригнал корову первую. Клавдия как села доить, так и заплакала той поры… Великая боярыня тверская!
И все-таки Тверь восставала из пепла. Потихоньку строились купцы; возвращались, не разом и не вдруг, уцелевшие жители. Оживали деревни, и оттуда, из лесных глухоманей, вновь повезли скору и лен, зерно и убоину. Великая княгиня Анна всем подавала пример. Сама жила как холопки, а являлась на люди всегда прибранная, прямая, в строгой и чистой сряде; и, баяли, даже стирала сама, по ночам. С первых же ден устроила странноприимный дом, призревала убогих, раненых, увечных и обмороженных, детей, потерявших родню, жонок, оставших без мужа и крова. Сама ходила за болящими, перевязывала гнойные раны, не морщась от страшного запаха, и подвигом своим, иноческим терпением, а паче того – гордым достоинством, тем, как не роняла себя ни в облике, ни в повадке княжой, – подняла, вытянула и град, и княжество, почитай. Клавдия и сама снесла все это только глядя на великую княгиню Анну. Стыд было перед госпожою себя потерять.
Едва оправились – мужиков снова погнали в поход: имать князя Александра Михалыча. Пока те топтали снег до Великого Нова Города и назад, уже по ростепели, по мокрым путям (обезножели и кони и люди!), здесь опять, без мужской силы, едва не надселись оставшие без помоги жонки и старики. Не чаяли дожить, пережить морозы, вьюги и стужу.
И вот пришла весна, и воротившие до дому ратники взялись за сохи и бороны, и стало можно вздохнуть, хоть дух перевести от непосильных трудов и скорбей. Клавдия отъедалась, отходила; холопы ладили новый терем; уже бойко торговали по вымолам и на посаде купцы; строилась Тверь – и жизнь возвращалась в берега свои. Отвели сев, свалили покос, и стало вовсе легче дышать. Как всегда опосле трудов безмерных, когда отдыхают и тело и душа, мгновеньями чуялась радость беспричинная: идешь по двору – и радостно вдруг. Ни с чего! Птицы поют, начинают зеленеть обгоревшие, простоявшие год черными остовами дерева, куры роют горелый сор, что-то ищут, и – радостно. И хоть в легкий волжский ветер все вплетает и вплетает горько-кислым духом старого пожара, а все одно радостно, молодо словно. И жонки те, с коими сидела в земляной яме, так приветно, так улыбчиво встречают: беда связала паче господарства самого!
В те-то поры и приехал в очередную Иван с необычайным сватовством московским. Мялся сперва, а как сказал… Нет, даже и не поверила спервоначалу, думала – шуткует. Да нет!
– Ты в себе ли, Иван? – спросила сурово. По первости и баять не стала, ушла. И ругать не стала – не ведает сам, что и говорит! Родион! Да лучше в воду, в омут головой. В монашки ли… Тьфу и тьфу!
Видала его как-то. Седые усы бросились в очи, и глаза недобрые, холодные глаза. И сам сухой, высокой…
А вечером Иван вновь приступил к ней с речами. Поняла уже, что не спьяну, не с проста ума несет, что просто так ей того не отпихнуть, не отринуть. Ночь не спала, ворочала так и эдак. Того горше, того обидней показалось, когда сознался ей, что уже баял с Федором и с Александром, двоюродником… «Меня преже того мог бы прошать! Аспид, одно ему слово!» И вспомнилось лицо брата: растерянное, словно прибитое. Да и сам ли надумал-то? Поди, без московлян и тут не обошлось!
Знала о делах брата досыти, потому и спросила, когда из утра пришел, не жалеючи, в лоб:
– Мною Вески купляешь?
Сказала горько, с неожиданной хрипотцой, задышалась (с годами располнела, ожерелок стал заметный). Как корову продают! Братья родные! И кому? Самому Родиону! Может, и надо было ей в одночасье за другого кого пойти… А уж теперь… Да и за кого? В те поры сказали б такое – зарезалась, не вздохнув. А теперь лежит вот, думает. Отгорело, поутихло старопрежно-то! Что тут! Много летов минуло, ой много! И жисть уже на ту половину перешла. В монастырь уйти? И самое статочное дело! Себя не уронить. Хотела тут и вымолвить о монастыре, не сумела сразу надумать – какой? А мысли потекли по другой стезе. Одна. Дочерь умерла в мор. И внучат нету. Она еще в теле, в силе родить. И себя блюла, не как иные жонки… Што ему Вески?! Хочет досягнуть своего. Настырный! Не мытьем, так катаньем… А я? А как бы батюшко, покойник, содеял?
Нет, нельзя в монастырь! Просящие, словно бы и виноватые, и жадные глаза Ивана напомнились… Вздохнула, потрогала грудь. Все еще упругую, не в стыд мужику казать (уж не сама ли продавать себя надумала?). Усмехнулась зло, хмуро. И вспомнились седые усы Родиона… Может, судьба?
Как на бою, взявши город, озверев, насилуют жонок: рвут серьги из ушей с мясом, волокут, задирают подол… И ужас, и жаркий стыд. Так вот, батюшку убив, тут бы, тогда бы… Нагую, на снег, в кровь… Нать бы, верно, зарезалась опосле али удавилась со стыда! А Иван теперича… Звери вы, мужики!
Утром, когда Иван пришел, неотступный, жадный, встретила с глазами, обведенными тенью, побледневшая за ночь. Вдосталь промолчав и выслушав новые речи брата (ох и ненавидела же она его в тот миг!), сказала:
– Ладно, присылай сватов!
И – повело. Начала терять сознание. Все закружило перед очами, едва устояла на ногах.
И дальше все крепилась. Не плакала ночами. Давала себя одевать, охорашивать. Выдержала приезд Родиона самого. Что-то только он сказал ей – не поняла. Кровь так шумела в ушах, что и не слыхала почитай.
И покатилось дело ближе и ближе к свадьбе. А она все не понимала, не верила, поистине-то не верила ничему. И поверила, уже когда огласили в церкви и стали собирать к венцу…
В ту-то ночь и приснился Давыд, молодой, розовый, как словно с мороза вошел, и в инее ресницы и усы. Свежий такой, холодный весь. Сердце упало, и как тающая льдинка за шиворотом, прошло сладким щекотным холодом, и онемели руки и ноги, а он прошал что-то и близко-близко был к ней… Обнять бы, а рук не здынуть! А у него и дыхание как словно холодом веет.
– Ты живой? – спросила.
– А ты? – вопросил и усмехается, и вот сейчас уйдет, растает ли, а рук не поднять! И в теле во всем такая истома молодая, давняя, так просит: обними, согрей! А после и поняла – она-то уж не та, не прежняя, и заплакала, а он смотрит и смеется, и смеется, и весь в инее, уже и белым-бело все вокруг – не то снег, не то вишенье, не то яблоневый белый цвет!
Так вот и проснулась – в слезах. А девки пришли одевать, казать сряду. Немо дала себя умыть, одеть и, уже оставшись одна (попросила сенных девушек выйти на мал час), поняла: не сможет! Ничего не сможет! И пусть будет проклят брат Иван и все его дела прехитрые с Москвою и московским князем! И пущай, коли хочет так, нагую, за косы, выводит ее на позор! А сама – нет!
Клавдия, обеспамятев, срывала с себя одежды, швыряя и шваркая тяжелые переливчатые атласы, бархаты, парчу и шелка. И когда брат Иван, тихонько тронув рукоять дверей, пролез было в покой, склонив голову под притолокой, сказать, что пора, то, едва возвел очеса, его как шибануло ослопом: сестра стояла нагая, в одном янтарном ожерелье и повойнике, нагая и тяжкая, широкая, с опущенными тугими грудями, со сведенными в гневе татарским излучьем бровями, и смотрела ненавистно и властно, словно даже гордясь стыдною своей наготой. У Ивана мягко ослабли ноги, и он привалился к притолоке, не разумея, что сказать, содеять…
– Ну что ж! – звонко крикнула сестра. – Бери, вона! За косы бери! Выводи! Ну! Убийце мово… батюшкову… Ну! – И рванула повойник, рассыпав змеями посыпавшиеся косы. – Ну, чего оробел?! Веди!
Иван тут только, когда сестра, белая и гневная, грудями вперед, темнея каштанового отлива шерстью под мышками и в межножье, пошла на него, опомнился, вывалился наружу, с треском захлопнул за собою тяжкую дверь покоя, за которой глухо взмыл крик и рыданья Клавдии, и, слепо, тупо глянув на подбежавших служанок, вымолвил:
– Воды! С госпожой плохо… тамо… – И, махнув рукой, не оборачиваясь, пошел вон.
Надо было сказать Родиону, гостям. Отказать… Повиниться али соврать чего. Иван, однако, понимал, что ничего не может, только так вот сидеть и ждать неизвестно чего. Его позвали. Он вышел, низил глаза, улыбался. Сестра задерживалась уже до неприличия, уже и Родион начал хмуреть и каменеть ликом, и гости перешептывались, отирая платами лица. В набитом покое было, хоть и при отворенных оконцах, не продохнуть. А Иван все не мог сказать – отказать ли – и все ждал, чтобы эта стыдная безлепица как-то совершилась без него и помимо него.
И тут, уже когда он, прикрыв глаза, гадал, скоро ли негромкий ропот гостей перейдет в открытую брань, послышалось:
– Ведут!
Ну! Иван замер, не хотя глядеть. Почудилось, что Клавдия так и выйдет к гостям нагая, и тогда… тогда… «Свечи тушить скорей!» – нелепо и тупо подумал он. Но ропот стих. Поднялся снова… Иван поглядел опасливо.
Клавдия стояла, опираясь на двух вывожальниц, с огромными, как темные озера, глазами, бледная до синевы, ни в губах крови, в голубом атласном саяне и жаркой россыпи серебра, жемчугов и янтарей на груди, в ушах и надо лбом. Стояла и была красива так, что и сам Иван замер и побледнел, и Родион дрогнул усом, чуть растерянно склонясь в поклоне перед своею будущей женой.
«Упадет!» – подумал опять Иван, покрываясь то холодом, то потом. Но Клавдия не упала. Склонила медленно голову, прекрасная и почти неживая, проплыла по покою, приняла поднос с чарками и подала Родиону. И он взял, и вот теперь бы ей уронить поднос, но вывожальницы подхватили (за тем и следили!), бережно приняли из ослабевших невестиных рук.
И еще хватило сил у нее так же медленно, царственно, выйти из покоя. А дальше уже не помнила, довели, донесли ли, и долго оттирали уксусом виски, приводя в чувство, там, у себя, в задних горницах.
И только уже осталось пережить все: и пиры, и венчанье, и поезд – и после крикнуть тому, седоусому, в лицо: «Ну, что ж ты! Бери!», чтобы как гулящую бабу последнюю, как суку… И чтобы выть потом, стиснув зубы, или грызть руки себе, или… Да что там! Может, и ничего. Только молчаливые теплые слезы потом, как весенний дождь. Может, и ничего… Может, и всяко! Да уж не увидит никто и не зазрит никто…
А только после родится у нее сын, и будет назван Иваном, белый и пухленький, прозванный потому смолоду Квашонкой, и станет он боярин княжой, Иван Родионович Квашня, родоначальник большого боярского рода, и проживет, и наживет детей, и, уже когда отойдут в лучший мир его матерь с отцом, а Иван Акинфич уже давно откупит у Родиона свою переяславскую вотчину, и тоже умрет, и много-много чего еще произойдет и свершится на Руси, – прославит он имя свое во главе Коломенского полка, на поле Куликовом, на реке Непрядве, у Дона, в тяжелом бою с Ордой.