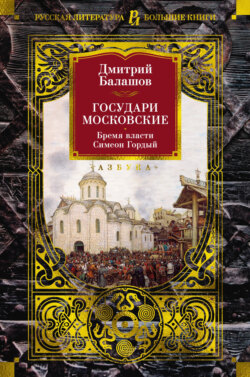Читать книгу Государи Московские: Бремя власти. Симеон Гордый - - Страница 30
Бремя власти
Часть первая
Зодчество князя Ивана
Глава 28
ОглавлениеТоржок и Бежецкий Верх заняли без бою, но дальше все пошло не то и не так, как мыслил Иван. Новгородцы уперлись. Подступила распута. Пришлось отозвать рати. А там подоспело пахать да сеять, а там пала сушь, меженина по всей русской земле. Хлеб не родил, и стало немочно одному, без помощи прочих, управить с Новгородом. Все лето ушло на пересылки с князьями. Иван требовал ратных от суздальского и тверского князей, те жались. По тяжкой поре их и винить было трудно. Поход все отлагался и отложился наконец на зиму.
Иван вдруг потерял свое обычное равновесие, начал метаться, едва не раскоторовал с суздальским князем, слишком поздно уведал о том, что Смоленск мыслит передатися Гедимину. Донос в Орду запоздал. Дело спас брянский князь Дмитрий, затеявший ради своих обид порубежных поход на Ивана Александровича Смоленского. Привел татар, бился под самым городом. Смоленский князь, однако, отбился. Взяли мир. Мир взяли, и Смоленск до поры остался под рукою хана. Однако Иван чуял, видел, как крепнет Литва, как все дальше и дальше протягивает Гедимин властную руку, как то, что ему, Ивану, дается с трудом и борьбой, в руки литовские падает, как перезрелый плод с древа… Он злобился на хана Узбека, нерешительность коего больно ударяла и по нему, Ивану. Нет чтобы бросить татар на Гедимина, ослабить, а то и вовсе смести опасного соседа! Гляди, бесись, как полоняник со связанными руками, гадай, приедет ли Феогност, останет ли на Москве или нет?
Дома тоже все шло врозь и непутем, и уже не раз и не два намекали Ивану ближние бояре, что без хозяйки – дом сирота. Он сам понимал, что надо (и хочет!) жениться. Смущал сын, Симеон. Не хотелось обидеть отрока, приведя в дом мачеху. А посельские долагали о недородах, о голоде по деревням. Москва уже начинала полниться первыми беглецами, чаявшими хоть какого прокорму и заступы близ княжого двора. Вновь участились разбои по дорогам, почти было выведенные скорым и строгим княжеским судом.
Выяснялось меж тем, что вести рати под Новгород опасаются все (не выступил бы литовский князь на защиту!), а новгородцы деятельно готовятся к обороне, скликают помочь, крепят город каменными стенами. Уперлись. Но и Иван уперся. Да и нельзя уже стало отступать. И все тогда слушать перестанут!
В чем-то она его спасала, покойница, от чего-то удерживала. Не кидался он при ней так преизлиха нерассудно, не столь спешил и деял успешливее, чем ныне.
Стояла жарынь. Осень, окончательно обманув все надежды на урожай, подходила, тяжело и тускло суша и свертывая пыльную листву дерев. Он вдруг понял, что должен, обязан жениться. Что-то запоздало в нем и требовало своей дани, своего «выхода»… Невеста, третья по счету (первые две не по нраву пришли), наконец-то показалась ему. Была тиха и робка, верно, и заботна и домовита (лишней, напоказ, красоты не любил Иван), а на великого князя взглянула с робким обожанием, и это решило дело. Понял: полюбит!
Накануне свадебных дел вызвал сыновей, прочел грамоту: что кому отойдет в случае его смерти. Оставшись наедине с Семеном, прямо и строго поглядел в глаза сыну (подумал: скоро женить, а я – сам!), спросил:
– Не осуждаешь?
– Тятя! – только и вымолвил Семен.
Иван осторожно привлек отрока к себе. Сказал:
– На тебя всё. Вся надея. Кто бы ни… Кого бы ни родила… Ты первый, тебе княжить!
– Понимаю, батюшка! – ответил Семен, пряча лицо на плече у отца. – Я не… не сужу… не думай, я понимаю все. Она… она добрая… – пробормотал он, меж тем как Иван вздрагивающей рукою гладил его по волосам.
Оба долго молчали. Потом Иван вздохнул, отстранился. Заговорил о Смоленске. Больше до свадьбы речей меж ними об этом не было. Но Иван чувствовал радостно, что и теперь сумел сохранить уважение сына при себе.
Свадьбу справили нарочито просто. Иван не хотел пышностью торжеств возбуждать лишние пересуды. Оставшись наедине с молодой, он привлек ее к себе, уже раздетую, в одной долгой рубахе, и, скорее ощутив, чем увидя, слезы страха в глазах, долго гладил, успокаивая, дожидаясь, когда она сама, согревшись под собольим праздничным одеялом, захочет неизбежного, того, с чего начинается семейная жизнь… Она уснула первая, прижавшись к его плечу, а Иван все не спал. Лежал, отдыхал, думал. Было покойно (слишком покойно для первой ночи!). Жену следовало беречь. Это было теперь свое, родовое, как Москва, как добро в закромах и бертьяницах, как неотторжимые сокровища отцовы. Он осторожно повернулся к ней лицом, осторожно положил руку на нежные маленькие груди. Она легко и благодарно вздрогнула, вздохнула впросонках и с детскою готовностью, не размыкая глаз, теснее прижалась к нему.
Едва отпраздновав свадьбу, Калита во главе соединенных низовских ратей выступил в поход. Вновь засев Торжок и Бежецкий Верх, Иван, остановясь в Торжке, разослал дружины в зажитье. Начался грабеж Новогородской волости. Угоняли скот, уводили людей, жгли и увозили запасы хлеба и жита. Новгородская рать стояла по Ловати и Мсте, перекрывая пути к городу. Меж теми и другими ратями творились лишь мелкие стычки. Иван на этот раз привел крупные силы, и новгородцы опасались выйти на бой.
Иван сидел в Торжке от Крещения до Сбора. Новгородцы наконец прислали посольство к нему, звали на стол по прежним грамотам, что было теперь едва ли не насмешкою над Иваном. Он ничего не ответил послам. Грабеж Новгородской волости продолжался.
Упорство Великого Нова Города было не зряшным. Страдал торг, не поступало заморское серебро, столь нужное казне великокняжеской. На Сбор всех святых Иван воротил в Москву. Размирье с Новгородом затягивалось, и уже неясно было, кто кого берет измором: Иван ли Новгород или Новый Город Ивана?
Митрополит, по слухам, уже находился в Орде. Летом, по наказу Ивана, на Москве начали новый храм архангела Михаила. Храм над гробами, как мыслил Калита, всех владетелей московского дома, начиная с покойного брата Юрия. (Была мысль и батюшков прах перенести сюда, тем паче что и монастырь Данилов перевел в Кремник, но вспомнил завещание родителя и отступил. Убоялся нарушить отцову волю.) С сооружением этого храма устроялась главная площадь в Кремнике, окруженная соборами и теремами. Город принимал вид столичный. Храм воздвигали споро, как и прежние. Единым летом и начали, и завершили.
В начале июля, убедясь, что работы идут полным ходом, Иван выехал в Переяславль. Ехал верхом, медленно, дневал и ночевал в дороге. Молодую жену вез за собой в возке. Ульяна была непраздна, и не хотелось излиха утомлять ее на тряских дорогах. Может, еще и потому, что ехали медленно, многое вспоминалось дорогой. Впереди, пыля, уходили за увал передовые комонные княжого поезда. Пыль относило ветром. Колосились, наливаясь, хлеба, и волны ходили по голубым хлебам, словно по морю. Бросались в очи там и тут недавние росчисти, густо поросшие щетинистою рожью, виднелись свежие избы. Радонеж расстроился, стал уже немалым городком. (А все пришлые, ростовчане, вон и огороды развели! Поглядеть? Поговорить с ними? Едва не решился уже, но отдумал: тяжко и недосуг…) В Радонеже остановили на ночлег. Ивану, по его приказу, постелили в путевом сарае, на сене, на продухах. Посвежевший к вечеру ветерок приятно холодил, обдувая лицо, шевелил волосы. Натянув до подбородка толстину, Иван лежал, слушая последние звуки угасающего дня, блеяние и ржанье скотины, петуший пронзительный крик, скрип калитки, затихающий гомон и топ. Хлеба нынче не по прежнему году, добры. И скоро жатва. Сейчас с поля приходят в избы, пьют белопенное теплое молоко, ужинают, укладывают детей… Кольми проще быть мужиком, чем князем на Москве! Что вспоминает он сейчас? Не косьбу и не жатву хлебов, а лишь бесконечные пути, да ратные станы, да тот, далекий уже, как детство, переяславский пополох, когда подступал к городу Акинф Великий и он сидел растерянный среди растерянных бояр, оброшенный и ненужный никому, и как все поворотило потом! И ужас, юный ужас от страшного, на рати поднесенного ему Родионом дара – косматой и окровавленной головы Акинфа на копье, и тяжелые темно-красные капли, падавшие в белый, истоптанный копытами снег…
Как звали того послужильца, что привез им спасение? Никанор… Нет, Федор! Федор Михалкич! Вот как! Да ведь его же сын ныне у меня в обозе! Вспомнил, покачал головой. Как и запамятовал? Протасий ить напоминал, пото и отправил с ним, с дружиной… Мишук – вот как его зовут. Мишук Федоров. Не забыть, поговорить с ним тамо, в Переславли… Мысли начали мешаться, напомнилась почему-то Орда, и опять суровым и страшным. Он задремывал уже, когда раздался осторожный шорох сена. Иван вздрогнул и тут же улыбнулся. Это была Ульяна. Не выдержала, прилезла к мужу. Забралась к нему под толстину, посапывая, устроилась у плеча. Стало хорошо, покойно. Он уснул. Но и во сне продолжал думать, считать серебро, которого все не хватало, никак не хватало для чего-то важного-важного, что надо было вырешить враз, а серебро лилось тонкою звенящею струйкой. Или то месяц заглядывал в широкие продухи сарая? И лунный серебряный свет падал на лицо уснувшего московского князя – старое, в заботных морщинах, суровое и во сне, словно бы совсем уже мертвое лицо…