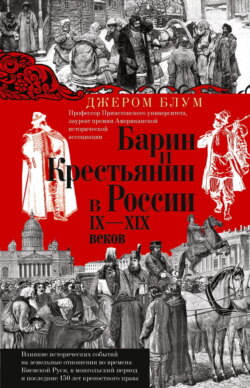Читать книгу Барин и крестьянин в России IX–XIX веков. Влияние исторических событий на земельные отношения во времена Киевской Руси, в монгольский период и последние 150 лет крепостного права - - Страница 6
Часть вторая
Монгольский период
Глава 4
Монгольское иго: период упадка
ОглавлениеВ XII в. оживленная экономическая эпоха начала давать сбои. Основной причиной тому, по-видимому, являлась неспособность Русского государства из долины Днепра защитить себя от степных кочевников. В истории Киева их нашествия практически не прекращались. Вплоть до второй четверти XII в. киевлянам удавалось сдерживать последовательные волны набегов пацинаков (печенегов), турок и куманов, накатывавших на их земли. Затем разразившаяся в 1125 г. после смерти Владимира Святого разрушительная междоусобная война, повлекшая за собой внутренние беспорядки и анархию, практически не оставила им возможности эффективно обороняться от захватчиков, и опустошительные набеги стали происходить с небывалой частотой. Постоянная угроза и реальность вторжений в сочетании с внутренними раздорами внесли новую и пугающую нестабильность в жизнь и торговлю Днепровской долины. Все больше и больше людей бежало на северо-восток в надежде обрести безопасность в лесистой местности между Окой и Волгой. К концу XII в. значение Киева настолько уменьшилось, что теперь самым могущественным правителем на Руси признавался главный князь северо-восточных земель.
Иностранная торговля, столь важная для киевской экономической жизни, также пострадала от завоеваний кочевников. Они установили свой контроль над территорией между Доном и Дунаем и все сильнее затрудняли русским купцам торговлю с Византией и Востоком. Но окончательный крах этой ветви киевской торговли повлекли за собой успехи первых крестовых походов. Рост прямой торговли между Западной Европой и Востоком, последовавший за победами крестоносцев, отменил необходимость пользоваться окольным путем Киев— Новгород. Тем не менее эти препятствия вполне могли быть преодолены, и экономическая жизнь Киевской Руси могла, по крайней мере, сохраниться. Некоторые потери в торговле с Востоком компенсировались увеличением балтийской торговли Новгорода и Пскова, а также усилиями смоленских купцов, стремившихся развить сухопутные торговые связи с Центральной Европой. Б.А. Рыбаков в своем труде по истории древнерусского ремесленного производства установил, что в XII и начале XIII в. в Киеве и других местах действительно шло развитие важных экономических отраслей.
Однако в XIII в. Русь получила сильнейший из серии ударов, от которых ей не суждено было оправиться более 200 лет. Этим потрясением стало татаро-монгольское нашествие. Приближение опасности, предвещаемое набегами их всадников, уже давно бросало зловещую тень на Русскую землю. Наконец, в конце 1237 г. под предводительством Батыя, внука великого Чингисхана, монголы ворвались на Русь. Пройдя через Око-Волжский регион, они остановились у Новгорода и повернули на юг, в Польшу и Центральную Европу. Оставляя за собой повсюду следы смерти и разорения, они стремились сжечь дотла каждый захваченный ими город и поработить как можно больше покоренных жителей, а остальных предать мечу. «Не было тут ни стонущего, ни плачущего – ни отца и матери о чадах, ни чад об отце и матери, ни брата о брате, ни сродников о сродниках, но все вместе лежали мертвые» – так древнерусский летописец рисует трагическую картину разорения Рязани, которая первой подверглась уничтожению. Спустя шесть лет после взятия Киева Плано Карпини, папский посланник к монголам, проезжая через киевскую территорию, видел «бесчисленные черепа и кости мертвецов, валявшиеся на земле», и обнаружил, что в самом Киеве осталось едва ли две сотни домов. Город за городом встретили подобную участь. Только за февраль 1238 г. захватчики разрушили 14 городов, в том числе и несколько самых важных городов государства.
Нет никаких данных, свидетельствующих о размере общих потерь русских людей и имущества от этого первого монгольского вторжения, но они должны были быть чудовищными. Помимо многих тысяч убитых людей и уничтоженного имущества, монголы, согласно Плано Карпини, забирали с собой не менее десяти процентов всего населения и все оставшееся имущество. Однако даже после того, как монголы ускакали на запад из Руси, потери русских не закончились. Вскоре они повернули назад и расселились по евразийской степи, где возникло монгольское государство под названием Золотая Орда. Отсюда на протяжении двух с половиной веков они сохраняли свое господство над русскими землями. То была эпоха монгольского ига.
Киевская федерация, уже сильно ослабленная предшествовавшим набегами кочевников, внутренними междоусобицами князей, сокращением торговли и неуклонным падением престижа самого Киева, не смогла пережить этого последнего и величайшего из бедствий. Многие люди, которые все еще жили в некогда многолюдных днепровских княжествах, бежали на запад, в Галицию. Другие мигрировали на северо-запад, в княжества, лежавшие между Окой и верхней Волгой. Этому региону суждено было стать центром нового Русского государства. Бассейн Днепра, центр эпохи Киевской Руси, в конечном итоге оказался поглощенным правителями Литвы, а затем стал частью Польши. Так возникло тройственное деление русского народа на великороссов, живших на северо-востоке, чья история теперь стала историей России; белорусов, обосновавшихся по верховьям Днепра; и малороссов, или украинцев, чья земля находилась в средней долине Днепра.
Монголы, управлявшие русскими княжествами из своей ставки в степи, собирали ежегодную и обильную дань. Но хуже всего было то, что они совершили еще множество набегов на северо-восточные районы, в которых часто повторялись ужасы их первого нашествия. За время монгольского господства было 45 войн, не считая бесчисленных набегов. Монголы не являлись единственными иноземными врагами, против которых русским приходилось сражаться в эти столетия. Они были вынуждены вести не менее чем 41 войну с литовцами, 30 – с немецкими орденами крестоносцев и еще 44 – со шведами, булгарами и прочими врагами.
Вторжение стало лишь одной из бед, которые навалились на русские княжества. Пандемии не были неким новым явлением, как и в остальной Европе. Первая зарегистрированная вспышка чумы произошла в XI в. За время эпидемии в Смоленске в 1230 г. умерло 32 000 человек, а в Киеве за две недели в 1290 г. – 7000 человек. Но эпидемия чумы в середине XIV в. в России, как и в остальной Европе, была самой смертоносной из всех предыдущих. Черная смерть свирепствовала в деревне и городе – говорят, что в двух городах от нее умерли все жители, – и возвращалась опять и опять. В летописях за 1348–1448 гг. сообщается о двадцати вспышках чумы, из которых по крайней мере пять охватили всю или большую часть страны. После одной из таких эпидемий в Смоленске в 1387 г. в живых осталось всего пять человек, если верить летописцу, а иноземный автор утверждал, что в 1390 г. в Новгороде от чумы умерло 80 000 человек.
Еще одним бедствием на Руси в этот период времени стала практически непрекращающаяся борьба между княжествами, на которые делилось государство. Девяносто из этих междоусобных войн произошло между 1228 г. и восшествием Ивана III на московский престол в 1462 г. Неизбежно, они вызвали множество смертей и ужасных разрушений. И наконец, нередко наступали голодные годы, вызываемые непогодой, тучами саранчи, лесными пожарами, охватившими распаханные поля, а также разрушительными войнами и нашествиями. Чаще всего неурожай был локальным явлением, но иногда он охватывал целые регионы, а бывало, и всю Русь.
Последствия всех этих бедствий неминуемо подтолкнули Россию к длительному периоду экономического и политического упадка. Из-за скудости данных можно проследить лишь контуры спада экономической жизни. Но имеющиеся свидетельства, как прямые, так и косвенные, ясно указывают на то, что депрессия была продолжительной и глубокой и что она повлекла за собой значительное сокращение населения и множество пустующих крестьянских хозяйств. Примечательно, что как процветание Киева имело свою европейскую параллель, так и эта эпоха упадка с XII по XV в. Спад в России начался на столетие раньше, чем в остальной Европе, которая избежала нашествия монголов, если не считать их краткого похода в Центральную Европу. Но как только началось длительное ухудшение экономического положения в других странах, оно отметилось такими же чертами, как сокращение населения и увеличение пустующих земель, что и на Руси.
В современных российских материалах находятся лишь единичные прямые высказывания об этих событиях. Наиболее обильные свидетельства дают частые упоминания в источниках о пустошах, под которыми подразумевались заброшенные земли. В документах XIV и XV вв. многие земли и многие деревни неоднократно описываются как пустоши. Не менее существенным, хотя и косвенным, свидетельством малочисленности населения служат многочисленные грамоты, издаваемые князьями, которые предоставляли землевладельцам право предлагать крестьянам свободу от различных государственных повинностей, с тем чтобы они могли привлечь их к поселению на своих землях. Князья заботились о том, чтобы новые поселенцы не происходили из великокняжеских владений или других поместий в их владениях, а были привезены из других княжеств; арендодатели с готовностью выдавали ссуды и дотации потенциальным арендаторам; они прилагали большие усилия для ограничения свободы перехода крестьян. Малочисленность поселений произвела большое впечатление на венецианца Хосафа Барбато, одного из очень немногих европейцев, посетивших Россию в монгольскую эпоху. Описывая путешествие из Москвы в Польшу примерно в середине XV в., он писал, что «путешествовал по лесам и небольшим холмам, которые, по сути, представляли собой пустыню. Путешествуя с места на место, там, где раньше останавливались люди, вы обнаружите места, где разводили огонь… а иногда немного в стороне вы найдете несколько небольших деревень: но это редко», – писал он.
Депопуляция не ограничивалась сельской местностью. Города, занимавшие центральное место в экономической жизни Киевской Руси, лишь за немногими исключениями, потеряли свое значение. Их число сократилось почти вдвое по сравнению с тем, что было до прихода монголов. Появилось лишь несколько новых городских поселений, которые не имели большого значения. Перечень упоминаний о городах в современных документах показывает, что всего в источниках XIV в. упоминается 79 городов, из них только четыре новых, а в XV в. – 78, в том числе девять новых.
За немногими исключениями, города монгольской эпохи представляли собой не более чем административные и военные центры. Их экономические функции не выходили далеко за рамки удовлетворения некоторых потребностей князей и их дворов, а также княжеских административных лиц. Поскольку эти люди получали большую часть того, что они потребляли, из продукции своих собственных земель или, в случае должностных лиц, в виде платежей натурой от управляемых ими крестьян, рынок, который они обеспечивали, должен был быть очень ограниченным.
Новгород (который никогда не подвергался набегу татар), а также Москва были двумя выдающимися исключениями из этой картины общего упадка городов. Во многом благодаря расположенной в нем фактории Ганзейского союза Новгород стал одним из главных торговых центров Восточной Балтики. В период своего расцвета, в XIII–XV вв., его население насчитывало от пятидесяти до ста тысяч человек. Москва, в начале монгольского владычества ничем не примечательное место, неуклонно росла. В 1337 г. пожар сровнял город с землей – как и другие русские города, он был построен почти целиком из дерева, и, если верить летописи, пожаром было уничтожено 18 церквей. В 1343 г. случился очередной великий пожар – четвертый за 15 лет, и на этот раз летописи сообщают о сожжении 28 церквей. Существует предположение, что в 1382 г., когда монголы под предводительством Тохтамыша разграбили город, не менее 35 000 москвичей были убиты и еще 25 000 угнаны в плен. Но город был уже настолько велик, что смог быстро оправиться от огромной потери. Немногим более десяти лет спустя Москва занимала большую территорию, чем до прихода Тохтамыша. В 1446 г. монголы потребовали от москвичей 2000 рублей дани, из расчета 2 рубля на 100 жителей, что указывает на то, что они оценивали население города в 100 000 человек.
Если эти оценки верны, Москва и Новгород были одними из величайших городов всей Европы. В позднем Средневековье очень немногие городские центры где-либо еще насчитывали более 20 000 жителей. Единственными, кто соперничал с русскими митрополиями по размеру, были Милан и Венеция, в каждом из которых проживало более 100 000 человек (середина XIV в.), Париж с населением в 80 000 человек (1378 г.), а также Флоренция и Гент с примерно 55 000-ным населением каждый (середина XIV в.).
Помимо физических разрушений от рук монголов, города не смогли восстановить свое былое значение в экономике, ибо монголы лишили их ремесленных мастеров. Этих работников забирали на ханскую службу и увозили жить в монгольский мир. Захватчики следовали этой практике не только потому, что они нуждались в товарах, которые умели изготовлять эти ремесленники. Они также преследовали и военную цель. Они рассчитывали, что, лишив русских их мастеров, умевших изготавливать оружие и доспехи и строить крепости, они ослабят военный потенциал России. Результатом такой политики стало почти полное исчезновение городского ремесленного производства в первом веке монгольского владычества. Это отняло у города большую часть его экономических функций. Теперь, не имея возможности приобретать городские товары, крестьяне вынуждены были полагаться на собственные навыки и деревенское ремесленное производство, а землевладельцы набирали и обучали штат ремесленников для работы в барских мастерских для удовлетворения своих потребностей. Некоторые из этих мастеровых в княжеских и монастырских владениях были бывшими городскими ремесленниками, которым удалось бежать от своих похитителей или которые были выкуплены у них их нанимателями.
Другой важной причиной ухудшения городской жизни в течение этих столетий явилось снижение значения торговли. Большая степень самообеспечения, развившаяся в сельском хозяйстве, свидетельствует о низком уровне торговли. Внутренняя торговля почти полностью носила местный характер. Транспортировка товаров, всегда трудная и часто опасная до появления современного транспорта, теперь стала еще более опасной из-за татарских и русских разбойников, которые охотились на странствующих купцов. Однако существовал некоторый региональный обмен, и договоры между князьями, а также между Новгородской республикой и различными княжествами начиная с XIV в. содержали некоторые коммерческие оговорки в виде тарифных уступок и обещаний неограниченных торговых прав купцам друг другу. Новгород играл особо важную роль в межрегиональной торговле не только из-за своего превосходства в качестве торгового центра, но и потому, что город зависел от хлеба в Окско-Волжском районе.
Монголы были заинтересованы и активно принимали участие во внешней торговле, и купцы, будь то монголы или иностранцы, пользовались среди них особым уважением и высоким статусом. Но они предпочитали монополизировать торговлю, когда могли, так что прямой обмен между Русью и Востоком практически исчез в первом веке после монгольского завоевания. Со временем русские купцы стали проникать на монгольскую территорию, но иноземные купцы, кроме монголов, редко заходили в Окское Поволжье. Единственным местом, где торговля с Западной Европой сохраняла свое значение, оставался Новгород. Основными статьями экспорта этого города служили меха, шкуры, кожа, воск, пенька, лен и рыбий жир. Некоторые из этих изделий производились в княжествах Окско-Волжского региона, но большинство из них поступало из великой новгородской колониальной империи, которая простиралась по всей России от Балтики до Урала. В обмен на это сырье и полуфабрикаты ганзейские немцы, доминировавшие во внешней торговле Новгорода, привозили промышленные товары, в первую очередь ткани.
Русь по-прежнему продолжала оставаться источником рабов для иностранных государств. На самом деле количество русских рабов, перевозимых итальянскими купцами по Черному морю в Западное Средиземноморье, неуклонно возрастало с XIII в. до середины XV в. (когда падение Константинополя оборвало итальянскую торговлю на Черном море). Вероятно, это были люди, захваченные монгольскими налетчиками и проданные итальянцам, хотя, возможно, некоторые из них могли быть вывезены из России местными купцами. Всеобщее понижение роли профессиональной торговли отражалось в неспособности купеческого сословия развиваться во внутренних городах. Даже в таком большом центре торговли, как Новгород, русские, наиболее активно торговавшие и занимавшие высшие посты в городском управлении, были по большей части землевладельцами, а не купцами. Данные о владениях около 60 из этих олигархов в 1478 г., когда Новгород был аннексирован великим князем Московским Иваном III, показывают, что они или члены их семей владели крупными участками земли в новгородской глубинке. Большинство из них владели более чем одним участком, многие более чем десятью, а двое из них, будучи городскими старейшинами, владели 25 участками. Предположительно большая часть доходов поступала от продажи товаров, произведенных на их собственных землях, особенно таких продуктов, как меха, рыба, соль, железо и деготь, а не от их деятельности в качестве торговых посредников.
Сокращение внешней торговли также послужило важным фактором изоляции России от остальной Европы. Широкие торговые связи Киевского государства сделали Русь хорошо известной на Западе. Теперь единственный прямой контакт с этими землями осуществлялся через Новгород. Страх, наполнявший христианские сердца перед мыслью о монголах, удерживал их от проникновения вглубь страны, не считая горстки смельчаков. Россия стала таинственной страной для остальной Европы.
Несмотря на такие резкие различия, а также другие, обсуждаемые на последующих страницах, между обстоятельствами, преобладавшими эти два периода, все еще шла непрерывная линия развития от киевских веков до эпохи татаро-монгольского ига. Многие правовые и социальные институты и большая часть культуры, которые развились в долине Днепра, сохранились и на северо-востоке. Переселенцы, обосновавшиеся в треугольнике Ока – Волга, принесли с собой даже старые топонимы, как и первопроходцы, колонизировавшие Америку, так что часто можно проследить происхождение групп колонизаторов по названиям, которые они дали поселениям и рекам в своем новом доме.
Одним из самых прискорбных наследий Киева была непрекращающаяся междоусобица между князьями. Обычай разделения княжеств для выделения владений сыновьям каждого поколения правящих домов был еще одним печальным наследием. Судьба Великого княжества Владимирского иллюстрирует влияние этого обычая. Через два поколения после смерти князя Всеволода Большое Гнездо в 1212 г. это княжество было разделено по наследству на двенадцать частей, каждая со своим правителем. Процесс дробления продолжался, так что к XV в. то, что когда-то представляло собой единое княжество, оказалось поделенным на множество мелких княжеских престолов. Та же участь постигла и другие княжества, степень их раздробленности напрямую зависела от плодовитости каждого последующего поколения правящего дома.
Эти мелкие домены назывались уделами, поскольку они представляли собой аллодиальную долю владельца в его фамильной вотчине. В пределах своего удела удельные князья являлись полновластными государями, но они не могли вести самостоятельную внешнюю политику и обязаны были участвовать в походах, предпринимаемых великим князем. Люди в удельных владениях не составляли постоянного политического сообщества. Они считались подданными князя до тех пор, пока жили в его уделе, и, за исключением его рабов и закупов, вплоть до конца XV в. были вольны уйти когда угодно, и, по-видимому, их перемещения между уделами происходили довольно часто. В результате этих событий любая общность княжеских интересов, существовавшая в довольно свободной Киевской федерации, распалась в татаро-монгольскую эпоху.
Единственное повсеместное политическое превосходство принадлежало монголам. Но они не включили северо-восточную территорию в свою собственную политическую организацию, Золотую Орду. Управление северо-восточными землями позволялось оставить в руках местных князей. Ханы Золотой Орды выдавали ярлыки, верительные грамоты на великокняжеское правление князьям, которых они утверждали в качестве главных правителей своих княжеств; все остальные князья, владевшие уделами в этом княжестве, должны были им подчиняться. После распада Киевской федерации Владимирское княжество получило всеобщее признание как главное русское княжество, так что князь, имевший ханскую грамоту на признание его великим князем Владимирским, становился, по крайней мере номинально, главным среди всех русских князей Северо-Восточной Руси. Борьба за обладание этим титулом, которая велась между тверскими и московскими княжескими домами, в конце концов была выиграна московитами, которые тем самым выступили в качестве господствующих местных правителей в монгольскую эпоху и в конечном итоге стали объединителями и самодержцами всей Руси.
История возвышения московской династии от мелких князьков до верховных правителей государства началась в 1263 г., когда Даниил (родоначальник московской линии Рюриковичей: московских князей, великих князей и царей), младший сын Александра Невского, великого князя Владимирского, стал князем провинциального города Москвы, тем самым превратив его в столицу самостоятельного, пусть небольшого и не имевшего особого политического значения, княжества. Спустя два века, когда на престол взошел его прапраправнук Иван III, княжество, собранное им путем приобретений, завоеваний, наследования и дипломатических ходов, занимало около 600 000 кв. км.
Успех Московского княжества лучше всего объясняется сочетанием выгодного географического положения Москвы и крупного везения. Столица княжества находилась на пересечении важных сухопутных путей, а Москва-река, на берегах которой возвышался город, соединяла две главные речные системы европейской части Руси. Но основную роль в становлении Москвы сыграла удача. Первое и, возможно, самое важное везение заключалось в том, что практически все из двенадцати правителей рода Даниила, занимавших московский престол, обладали куда более неординарными врожденными способностями и хитростью, чем это обычно бывает среди князей. В целом они не отличались особыми военными талантами, но оказались дальновидными политиками в отношениях с собратьями-князьями и, главное, в своем умении пользоваться благосклонностью монгольских ханов до тех пор, пока это шло на пользу государству. Однако к людям они были безжалостны. Только последний из их династии, Федор Иоаннович (1584–1598), отличался болезненностью, слабостью и умственной неполноценностью, но ко времени его правления уже была проделана огромная работа.