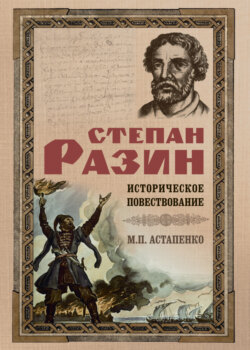Читать книгу Степан Разин. Историческое повествование - - Страница 3
Книга первая
По Руси Великой
ОглавлениеСнова Разин идет по Руси
Изнывать на молебнах.
Воспитайся, душа, и вкуси
Откровений целебных.
Л. Лавлинский
Оплакав и похоронив отца, Степан не оставил давней мысли пройтись по неоглядным просторам матушки-Руси, посмотреть жизнь народа русского, побывать в стольном граде державы Москве. Не мешкая, он подал челобитную войскому атаману Науму Васильеву, который хорошо знал его отца еще со времен достопамятного азовского взятия 1637 года и азовского «сидения» 1641 годов. В челобитной Степан смиренно просил отпустить его в Соловки помолиться чудотворцам Зосиме и Савватию за упокой душу отца своего Тимофея и за здравие свое и братьев своих Ивана да Фрола.
– Приходи, Степан, на круг пятого дня сего месяца ноября, – сказал Васильев, когда войсковой дьяк неторопливо прочитал ему разинскую челобитную. – Там собча порешим. Может, и сподобят тебя казаки разрешением на путь молельный к соловецким чудотворцам… – потом, чуть помолчав, он заговорщицки прошептал: – А я тебя благословляю в трудный путь!
В холодный и пасмурный день пятого ноября 1652 года в Черкасске, на истоптанном тысячами казачьих ног старом майдане, состоялся круг. Решался вопрос о посылке зимовой станицы в Москву за жалованьем государевым. Долго судили-рядили казаки, выбирая самых достойных. Всякий старался попасть в посольство, ибо его участники имели немалые льготы: они получали деньги, а атаману и есаулам в Москве давали сабли и серебряные ковши, в столице российской державы казаки жили на всем готовом, дожидаясь весны, чтобы с царским жалованьем вернуться на Дон, где их всегда, с великим нетерпением, ожидали отощавшие за долгую зиму казаки. Вот потому так долго шумели и волновались донцы, и после многоречивых споров, наконец, станица была выбрана. Счастливчиков поздравили…
В тесный круг казаков снова вышел войсковой атаман Наум Васильев, подняв руку с атаманской булавой, требуя тишины. Мало-помалу разгоряченные недавними выборами зимой станицы казаки притихли.
– Атаманы молодцы! – зычно возгласил он. – Бьет нам челом середний сын Тимофея Рази Стенька, просит отпустить ево на Соловки помолиться святым чудотворцам Зосиме и Савватию, потому как покойный отец ево, Тимофей, царство ему небесное, умирая, завещал ему поклониться соловецким святым. Любо ли вам, атаманы молодцы, уважить просьбу Стеньки и отпустить ево в нелегкий путь к Соловкам? – закончил свое выступление Васильев.
– Доброе дело! – выкрикнуло несколько голосов. – Пущай идеть Стенька в Соловки. Тимош Разя был добрый казак, надобно помолиться за упокой его светлой души, царство ему небесное, земля ему пухом!
– А не молод ли Стенька, чтоб иттить по Руси Великой столь верст, вить нелегок и неблизок путь? – громко засомневался кто-то из казаков. – Ого, куда иттить!
– Молод, да силен и удал Стенька! – выручил крестника Корнила Яковлев. – Я спокоен за Стеньку, дойдет!
– Любо! Пусть идет! – дружно закричали казаки, и Степан получил отпускную грамоту, чтобы воронежский воевода не схватил его за бродяжничество и не отправил под стражей на Дон.
В тот же день войсковой писарь от имени Наума Васильева отписал государю в Москву грамоту. В ней говорилось: «Государю царю и великому князю Алексею Михайловичу всеа Русии холопи твои атаманы и казаки Наумко Васильев и все войско Донское челом бьет. В нынешнем, государь, во 161-м году ноября в пятый день бил челом… Стенька Тимофеев сын Разин… чтоб ты, государь, пожаловал ево, Стеньку, отпустить… помолитися преподобным отцам Изосиму и Савватию… И мы, государь, того Стеньку отпустили в Дону к тебе, государь, к Москве по обещанью ево помолитися чудотворцам ноября в 5 день»[41].
Стоял ноябрь. Поздняя осень властвовала на притихших донских просторах. Птицы давно улетели в теплые края, деревья стояли голые, унылые, лишь на дубах сухо и неприятно шелестели буро-коричневые листья. Вода в Дону потемнела, стала холодной и свинцово-тяжелой. Нудные осенние дожди безжалостно расквасили дороги, по которым ехал Разин в Москву. Несмотря на печальную погоду, на душе Степана было весело и по-юношески светло. Его влекла и радовала неведомая дорога, а степь необъятная, что раскинулась под осенним небом, будила мысли о прошлом. Когда-то здесь обитали различные народы, сгинувшие в бездне времени. Тысячи лошадиных копыт оставили невидимые следы на донском раздольи, в бурой степной земле Степану чудилась кровь людей, пролитая в жесточикх битвах, которые многократно громыхали здесь в течение долгой истории донской земли. На пути встречались молчаливые курганы с безразличными ко всему каменными бабами на вершинах – метами прошлого времени. «Что скрыто в этих курганах, что покоится там?» – думалось Степану. – Крестный сказывал: богатыри древние схоронены в курганах!» Степан поднял голову: в хмуром неласковом небе кружил одинокий орел, выискивая добычу, а вдалеке, на краю неба, печально тянулся в теплые края птичий клин, унылыми криками иногда врываясь в осеннюю тишину степи… Осень… На душе у Степана лежала печать тревожной радости: что там впереди?! Дорога, дорога, дорога…
В те поры дорога из Черкасска до Москвы занимала от трех до пяти недель. Летом путь в столицу шел по рекам до Воронежа, оттуда на лошадях ехали до Москвы. Зимой в первопрестольную двигались на Валуйку, оттуда на Оскол, Ливны, Дедилов, Тулу, Серпухов.
Степан благополучно добрался до Воронежа, навестил свою бабушку Анну и дядю Никифора и, немного передохнув, отправился в Москву. Долгим был путь к русской столице, многое видел и запоминал Степан, копя увиденное в тайниках своей души.
Это было время, когда Россия преодолевала страшные последствия польско-шведской интервенции, во время которой, казалось, навсегда погибло Русское государство. Но народ российский нашел в себе былинные силы выстоять и победить. И вот теперь наступила сравнительно мирная полоса времени, за которой остались годы разорения начала семнадцатого века. Полным ходом шло освоение новых земель, и к описываемым временам территория Русского государства увеличилась в два раза, а численность населения достигла тридцати миллионов. Россия была почти сплошь крестьянской страной: крестьяне составляли свыше девяноста пяти процентов населения. Медленно, о неуклонно развивались производительные силы государства, в земледелии большое распространение получила комбинированная система, включавшая в себя переложную, подсечно-огневую и трехпольную системы. Но в центре страны постепенно господствующее положение заняло трехполье. Землю-кормилицу пахали, в основном, сохой с отвальным устройством – полицей. В лесостепных землях южной России распространялись орудия плужного типа. В большом ходу у крестьян были бороны, серпы, косы-горбуши, цепы, прясла-сушила. При сравнительном разнообразии зерновых культур, а сеяли рожь, овес, пшеницу, гречиху, коноплю – урожайность была низкой и составляла в среднем сам-три. Крестьяне разводили лошадей, свиней, крупный рогатый скот, овец, гусей, уток, кур. Но случалось, что крестьяне вообще не имели никакой живности, кроме кур. Одним из любимых занятий российских крестьян было рыболовство и бортничество, рыба и мед были частыми гостями на крестьянских столах. Занимались россияне и охотой…
Россия разинских времен имела уже и свою промышленность, причем мелкое товарное производство было отличительным признаком промышленного развития русского государства семнадцатого столетия. Вырастали села и даже целые города по производству промышленных изделий. Железоделательное и оружейное производство было сосредоточено в Туле, Серпухове и северо-западе России. Центрами по производству кожи, сала, пеньки стали Казань, Ярославль и Смоленск, с прилегающими к ним районами. Мастера литейного дела жили в Москве, Пскове и Новгороде. В городах, как центрах промышленности и торговли, появились первые русские централизованные мануфактуры с использованием вольнонаемного труда.
Помещики, опираясь на новые тенденции хозяйственного развития, в частности, товарное производство, стремились увеличить прибыли, для чего требовали от государя увеличить число крепостных крестьян и земельные владения. И царь Михаил Федорович и его сын Алексей Михайлович шли навстречу требованиям помещиков: в короткий срок огромные земельные массивы центральных уездов, земли Дикого Поля, Поволжья оказались в руках крепостников. При этом царь не скупился передавать помещикам земли с крестьянами. Владельцами огромного числа крепостных стали бояре Морозовы, Салтыковы, родственники царя Милославские, бояре Воротынские, Шуйские… Значительно прирастила свои богатства православная церковь.
Распространение крепостничества вширь сопровождалось резким усилением гнева эксплуатации. Кроме работы на пашне помещика от двух до четырех дней в неделю, выполнения подворной и прочей повинности, крестьяне должны были работать на кожевенных, поташных, соляных и других предприятиях своих хозяев. Неуклонно росли и натуральные повинности: хлебом, зерном, мясом, яйцами и другими продуктами и изделиями.
Все это вызвало озлобление крестьян: в одиночку, семьями, ватагами бежали они от помещиков в вольные, незаселенные края. В свою очередь помещики требовали окончательного и полного закрепощения крестьян, что и было сделано «тишайшим» Алексеем Михайловичем в 1649 году, когда появилось знаменитое Соборное уложение. С этого момента помещики могли безгранично вершить суд и расправу над крестьянами, у которых не оставалось никаких прав и возможности жаловаться верховному правительству. Наиболее смелые и решительные из крестьян убивали ненавистных помещиков, пускали под боярские крыши «красного петуха» и уходили на Дон искать вольную-волю…
«Мир качается!» – так определял положение в Московском государстве один из современников Алексея Михайловича. «Качался» мир городской, «качался» мир деревенский. В адрес царя сыпались сотни, тысячи проклятий и угроз. «Кляну я государя! – с яростью восклицал один из крестьян, попавший затем в лапы сыскного отряда. – Чтоб ему пропасть. Прежние государи, бывало, выход давали и тюрьмам роспуск бывал, а нынешний государь к нам немилостив, чтоб ему пропасть!» Хульные словеса в адрес царя и помещиков быстро множились, год от года росли политические дела по «слову и делу государеву». Росли и увеличивались многочисленные налоги, а правительство, неистощимое на выдумки, изощрялось в сочинении новых поборов: «ямские деньги», «стрелецкий хлеб» – и несть им числа, этим поборам!..
Многое из всего этого видел Степан, путешествуя по Руси, и страдания народные крепко запали в его неравнодушную к чужому горю душу…
В декабрьскую лютую стужу и непогодь 1652 года Степан Разин прибыл в первопрестольную. По узким московским уличкам с трудом добрался он до Посольского приказа, в ведении которого находилось Войско Донское и подал отпускную грамоту[42]. Она, эта грамотка, дошла до наших дней и хранится ныне в Государственном архиве древних актов. На ней следы разинских рук…
Долго ли пробыл Степан в Москве и дошел до студеных Соловков, документы об этом молчат, а впрочем, их попросту нет. Время, полное войн и социальных потрясений, пожары, наводнения и недобрые люди постарались уничтожить эти бесценные документы. Сведения о Степане Тимофеевиче снова «выныривают» из тьмы неизвестности только в ноябре 1658 года.
И снова на дворе холодный ноябрь, над куренями, погостами, майданом и собором Черкасска лютует осенняя непогодь… В стольном граде донских казаков собрался шумный казачий круг. Предстояло выбрать зимовую станицу в далекую Москву, которая одаривала донцов жалованьем, начиная с 1570 года, когда государь русский Иван Васильевич Грозный предложил воинственным и храбрым донцам службу, за кою и обязался платить жалованье. Казаки согласились, тем более, что служба была необременительной и состояла в ведении разведки на юге государства, встрече и проводах государевых послов. Царское жалованье сначала выдавалось в Москве, а в более поздние времена казаки получали его в Воронеже. «За свои службы великому государю» казаки имели хлеб, которого не выращивали на Дону вплоть до конца семнадцатого века. Кроме этого им выдавались деньги, «зелье» (порох), свинец, оружие, селитру и другие воинские припасы, столь необходимые казакам в их нелегкой боевой жизни. В начале XVII века жалованье делилось на две тысячи человек, а к разинским временам эта цифра возросла до пяти тысяч. Хлеба в те поры присылалось 200 тонн.
Зимовые станицы, ежегодно посылаемые в Москву за «государевым жалованьем», были различными по числу казаков. Самая малая станица включала в себя несколько донцов, но были станицы и по сто-сто пятьдесят человек. Воеводам приграничных с Доном городов вменялось в непременную обязанность проверять число казаков, проезжавших через их города по пути в первопрестольную. «Лишних», против разрешенного числа, казаков, полагалось «возвертать» обратно на Дон. Но казаки всякими хитростями умудрялись прорываться к Москве в большем числе, тогда в Москве чиновники Посольского приказа не выдавали «лишним» казакам кормовое и жалованье. Несмотря на эти государевы запреты, донцы почти всегда являлись в столицу в большем, чем полагалось, составе, и царь вынужден был мириться с этим, выдавая нужным ему казакам оружие, серебряные ковши и даже коней с государевой конюшни.
Вот потому так яростно и страстно, иногда до нешуточных столк-новений, кипел-шумел казачий круг в один из слякотных ноябрьских дней 1658 года, выбирая зимовую станицу. Наконец, страсти понемногу улеглись, «зимовейцы» были выбраны. Попал в станицу – какая честь! – и Степан Разин, что говорило о его авторитете в среде донских казаков. Не последнюю роль в его избрании в зимовую станицу сыграли ратные дела покойного батьки Тимофея и авторитет крестного Корнилы.
Атаманом зимовой станицы казаки избрали Наума Васильевича Васильева. Это был авторитетный, опытный, заслуженный воин и вожак донцов, несший нелегкий крест атаманский в суровые годы азовского «осадного сидения» – в 1639–1641 годах. Затем еще дважды, в 1650 и 1656 годах, казаки оказывали ему высокую честь, вновь избирая своим атаманом.
В дорогу дальнюю собирались надолго и тусклым неласковым днем второго ноября зимовая станица донских казаков отбыла из уныло стоявшего на холодном ветру Черкасска в белокаменную Москву.
Осень… Природа решила всерьез испытать казаков: в дороге зарядили промозглые дожди, пронизывающий ветер продувал нехитрую казачью одежду, многие из станицы Васильева заболели. Простудился и Степан. Его трясло, нудно ломило в костях, болела голова. Кое-как добрались до Валуйки, споро подъехали к каменному воеводскому дому. Атаман сдержанно приветствовал воеводу Ивана Языкова, в теплой шубе вышедшего на резное деревянное крыльцо.
– Здорово! Как доехали Наум Васильевич? – кивнул в ответ воевода, ежась на промозглом ветру.
– Тяжел ноне путь, Иван Степаныч, – смуро ответил уставший Васильев, – кони притомились, обессилели, казаки вконец разбиты, а один и вовсе тяжко занемог.
– Кто таков? – поинтересовался Языков, приглашая казаков в теплую горницу.
– Стенька Разин, черкасский казак, сынок покойного Тимоши Рази и крестник Корнея Яковлева, – все так же невесело протянул Васильев, усаживаясь в горнице на деревянную скамью и разминая озябшие и затекшие руки. – Дозволь, Степаныч, его, Стеньку, стал быть, покамест у тебя оставить, пока обмогнется малость. А после отправишь его к Москве, а нам надобно поспешить к великому государю, в стольный град!
– Лады, атаман, пущай останется твой казак Стенька, разве нехристи мы, што ли. Ну, а сами-то подкрепитесь, чем бог послал, милости прошу к столу…
Пока «зимовейцы» закусывали, запивая нехитрый обед вином, челядин воеводы отвел Степана в соседнюю, жарко натопленную комнату, уложил в постель, напоив терпким отваром целебных трав.
Отдохнув и подкрепившись у хлебосольного воеводы, казаки скрылись в осенней моросящей мгле. Степан, страдая душой и телом, остался в Валуйке на попечении слуг сердобольного воеводы.
Прошло несколько дней. Степан постепенно обмогся от болезни, отлежался в теплой комнате, окреп. В один из ноябрьских дней Степан подал челобитную в съезжую избу с просьбой помочь ему добраться до Москвы к своим казакам, к атаману Науму Васильевичу.
– Здоров ли ты, Степан? – участливо спросил воевода, прочитав Степанову челобитную. – Могешь ли одолеть тяжкий путь к Москве?
– Здоров я, здоров, воевода, – торопливо, словно боясь, что воевода не отпустит его, заговорил-засуетился Разин. – Сделай божескую милость, Иван Степанович, отправь меня к Москве к казакам и атаману Науму Васильеву, поди, беспокоются уже обо мне.
Языков улыбнулся, посмотрев в слюдяное оконце, поежился от вида бушующей непогоды и велел кликнуть писаря. Когда тот пришел и уселся за низеньким столиком, воевода начал диктовать: «Государю царю и великому князю Алексею Михайловичу холоп твой Ивашко Языков челом бьет». Воевода передохнул, прошелся по комнате, прислушался к вою ветра за окном и продолжал: «В нынешнем, государь, во 167-м году ноября в второй день выехали, государь, с Дону на Валуйку станица, донские казаки всево Донского войска атаман Наум Васильев с товарыщи». Языков снова замолк, вопросительно посмотрел на Степана, напряженно и тревожно следившего за его словами и действиями, и продолжал диктовать: «И то, государь, время, ево Наумовой станицы Васильева донской казак Степан Разин волею божию на Валуйке залежал, а войсковой, государь, атаман Наум Васильев с товарыщи по твоему великого государя цареву указу с Валуйки на твоих государевых на ямских подводах отпущон к тебе, великому государю, к Москве тово ж числа. А подвода атаману Науму на тово казака на Степана Разина не дана. А ныне, государь, тот казак от болезни своей обогся и бил челом тебе, великому государю и великому царю и великому князю Алексею Михайловичу, а мне, холопу твоему, на Валуйке в съезжей избе подал челобитную тот донской казак Наумовой станицы Васильева Степан, а в челобитной ево написано, чтоб ты, великий государь, пожаловал, велел ево с Валуйки отпустить к тебе, великому государю, к Москве. И по твоему великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича указу я, холоп твой, тово донского казака Наумовой станицы Васильева Степана Разина на твоей великого государя на ямской подводе с Валуйки отпустил к тебе, великому государю, к Москве»[43]. Подьячий, закончив шуршать тонко очиненным пером, степенно и с достоинством посыпал написанное мелким песком и почтительно передал воеводе валик письма. Тот, взвесив послание на руке, вручил его Степану.
– Езжай, Степан, – сказал Языков. – А грамоту сию береги пуще глазу, передашь ее в государев Посольский приказ. Ну, с богом, кони готовы!
Степан быстро схватил заветную грамоту, торопливо поблагодарил воеводу и вихрем сорвался с места. Через час он уже ехал на ямской подводе по дороге на Москву.
В первопрестольную Степан Разин прибыл морозным вечером семнадцатого декабря и сразу же направился в Посольский приказ, отыскать который ему помогли встречные прохожие. Здесь он предъявил грамоту воеводы Зыкова. Полный, с круглым румяным лицом здоровяка дьяк Приказа равнодушно взял грамоту у закоченевшего от мороза Степана, прочитал и неторопливо вывел на ней: «Подана 167-го декабря в 17 день з донским казаком с Стенькою Разиным. чтена. К отпуску взять». Степан молча наблюдал за негостеприимным дьяком, наполняясь неприязнью к этому напыщенному чиновнику. Тот, словно почувствовав Степаново раздражение, поднял на него сумрачные глаза и скрипучим голосом проговорил:
– Что стоишь, казак, иди на Замоскворечье, на Ордынскую улицу, там твои земляки с атаманом Наумом Васильевым ждут тебя. Днями находил сюда Наум Васильич, справлялся: не прибыл ли? Иди…
Степан, оттаивая душой, сдержанно поклонился и быстро покинул Посольский приказ.
Уже было совсем темно, когда Степан нашел своих дорогих земляков, размещавшихся на Ордынской улице Замоскворечья по четыре человека в одном доме. Его усталого и озябшего, радостно принял атаман Васильев, давно тревожившися за судьбу юного казака, радостно загомонили вокруг Степана остальные казаки зимовой станицы. За широким дубовым столом в доме атамана устроили обильный ужин с терпкими винами и медами. В затемненной зимними сумерками комнате особенно ощущался уют и потому, что здесь, вдалеке от родных станиц, собрались все свои, родные донцы, и потому, что окнами бесилась и свирепствовала синяя зимняя вьюга, а здесь в доме было тепло, в печке озорно плясал веселый огонек, лились сладкие, хмельные меды, весело текли речи друзей-товарищей. Степан отогревшись огнем и медом, рассказывал о своем житье-бытье у воеводы Ивана Степановича Языкова, о том, как скучал-томился по своим товарищам, как рвался попасть в первопрестольную. Когда слегка устали от разговоров, пришло время песни, затянули старинную песню про Ермака Тимофеевича, про вольный тихий Дон, потом еще и еще. Ближе к полуночи Наум Васильев объявил захмелевшим казакам, что скоро их станица зимовая удостоится чести лицезреть великого государя Московского Алексея Михайловича, что ждут всех донцов богатые государевы подарки, а пока надлежит тщательно и надежно нести положенную караульную службу. Разошлись за полночь… В ту ночь Степан спал глубоко и крепко…
…Московская жизнь Степана Разина текла мирно и однообразно. Вместе с казаками он старательно нес, где прикажут, караульную службу, днем бродя по столице, знакомясь с многообразной жизнью великого русского города. Наум Васильев иногда заходил в Посольский приказ, к знакомому дьяку, узнавая точный день встречи с «великим государем», но встреча все откладывалась и откладывалась. Наконец долгожданный день наступил.
– Государь ждет нас! – объявил торжествующий атаман своим казакам…
Царский прием состоялся в малом тронном зале. Донцы во главе с атаманом Васильевым, одетые во все лучшее, были впущены дьяком-распорядителем в зал, в глубине которого на резном троне сидел царь Алексей Михайлович. Поклонились поясно, разогнулись не сразу, а выдержав почтительную паузу. Степан, устроившись сбоку казачьего посольства, тайком разглядывал царя, стараясь запечатлеть в своем сознании облик того, кто повелевал миллионами людей громадного государства, имя которого с любовью, злобой и яростью произносилось по всему обширному и многоязыкому государству Московскому.
Алексей Михайлович, спокойно сидевший на невысоком троне, имел довольно привлекательную наружность: белый, румяный лицом, с красивой окладистой бородой, но с низким лбом, крепкого сложения, с кротким и печальным выражением глаз. Добродушный от природы, царь получил от придворных лизоблюдов прозвище «Тишайший», хотя многие знали, что бывал государь часто вспыльчив и позволял себе грубые выходки по отношению к придворным, а однажды, разойдясь в гневе, оттаскал за бороду своего тестя боярина Милославского, в чем потом искренне раскаивался. Любимым развлечением «тишайшего» государя было купание своих стольников в холодной воде коломенского пруда, а также выдумывание различных, часто обидных, кличек придворным. Всем, кто знал царя, хорошо была известна набожность Алексея Михайловича. Царь любил читать священные книги, многие знал наизусть, цитируя их в повседневной жизни и политической деятельности. Никто из ближайшего окружения царя не мог превзойти своего господина в соблюдении изнурительных постов: в великую четыредесятницу царь каждый день отстаивал по пять часов в церкви, неутомимо и истово кладя бесчисленные и искренние поклоны. Блюдя посты, он по понедельникам, средам и пятницам вкушал только ржаной хлеб, запивая чистой водицей. Алексей Михайлович отличался трезвостью и умеренностью в еде, хотя к царскому столу иногда подавалось до 70 блюд. «Тишайший» был примерным семьянином, хорошим хозяином, любил природу и, как отмечали современники, был не лишен поэтического дара. Особую страсть питал царь к соколиной охоте. Алексей Михайлович любил приемы и находился сейчас в хорошем расположении духа.
Когда донцы, волнуясь и подталкивая друг друга, выстроились в зале перед троном, вперед степенно вышел дьяк и уверенным голосом произнес:
– Вам, великому государю, вашему царскому величеству донские казаки, станичный атаман Наум Васильев с товарыщи челом ударили!»
Казаки, предупрежденные накануне, поясно поклонились. Дьяк, удовлетворенно кинув на них взгляд, опять «запел»:
– Великий государь, его царское величество, жалует тебя, атамана Наума Васильича с товарыщи к своей государевой руке.
Один за другим донцы подходили к резному трону и тихо и осторожно прикладывались к пухлой руке царя, который, блюдя ритуал, сидел неподвижно и безучастно, словно церемония эта не касалась его. Приложился и Степан… Наконец, обряд целования государевой руки закончился. Алексей Михайлович кивнул дьяку и тот, зная ритуал назубок, снова заговорил:
– Великий государь, его царское величество, жалует атаманов и казаков Наума Васильева и все великое войско Донское и велел спросить о здоровьи и службу вашу милостиво похваляет.
Казаки, польщенные, снова поклонились. Потом с ответной речью вышел атаман.
После этого напряженная церемония закончилась, и казаков пригласили к царскому столу отведать государевых угощений. Слуги расторопно и сноровисто обносили казаков сладкой романеей, другие споро расставляли большие серебряные блюда с диковинными птицами, другими редкостными яствами. Во время обеда атаману, есаулу и всем казакам станицы – каждому в отдельности – преподнесли подарки: деньги в кожаных мешочках, тафту, добротное сукно, драгоценные шкурки соболей. Науму Васильеву вручили прекрасной работы серебряной ковш с надписью, который порозовевший от вина атаман принял не без удовольствия. Прием закончился…
Всю долгую зиму провела казачья станица в Москве. Донцы старательно несли караульную службу, знакомились с первопрестольной, участвовали в свободные дни в различных празднествах, которыми всегда была богата и обильна зимняя Москва. Наум Васильев, помня о главной цели своего приезда в государеву столицу, вел переговоры в Посольском приказе о размерах казачьего жалованья и порядке его доставки на Дон, в Черкасский городок.
Наконец утомительная и всем надоевшая зима прошла, наступили дни ранней весны, пора было собираться домой. Снова последовала церемония встречи с государем, на сей раз прощальная, снова было царское угощение и подарки казакам зимовой станицы. Щедро одаренные, зревшие «божественную» особу «тишайшего» царя, казаки с богатым жалованьем для всего войска Донского вернулись на берега родного Дона, по которому ох как соскучились!
Дон встретил своих сынов обильным половодьем. Черкасск смиренно стоял в мутных потоках весенней воды, жители, привыкшие к этому, сообщались друг с другом по шатким деревянным мосткам, проложенным по всему городу. Гораздо более опасным врагом, чем вода, были турки и татары, значительно укрепившие свои позиции на юге России. Чтобы воспрепятствовать выходу казаков в Азовское море и далее на черноморские просторы, которые считались внутренними водами Османской империи, и прекратить нападения настырных казаков на побережье Анатолии, на Крым и Константинополь, турки построили по обеим сторонам Дона, двумя верстами выше Азова, крепкие каменные башни-каланчи, соединив их между собой мощными цепями. Выход в Азовское море был закрыт. Кроме этого, на Мертвом Донце – одном из притоков Дона – турки соорудили небольшую крепостицу-заносу Лютик. Многочисленные мелкие протоки турецкие солдаты тщательно пересыпали галькой и песком, в большой степени затруднив движение в них казачьих лодок.
Казаки не остались в долгу. В марте 1661 года донцы совместно с прибывшим на Дон во главе сильного отряда солдат стольником Иваном Хитрово пытались штурмовать «новый ханов донецкий городок». Мужественно и стойко бились казаки и стрельцы, но отсутствие штурмовой артиллерии и невозможность сделать подкоп из-за грунтовых вод не дали возможности взять городок и выдернуть эту ханову занозу из тела донской земли. Одновременно казачья разведка с помощью запорожцев исхитрилась добыть вести, что по весне крымский хан с сильным войском татар и «турскими людьми» собирается нагрянуть на Дон. Казаки смекали, что без надежных союзников им трудно будет сладить с новым натиском неприятеля, надо было искать друзей. Таковые нашлись в лице калмыков, которые постоянно враждовали с ногайскими татарами Малой Орды, вассалами Крыма и злейшими врагами донских казаков. Начались дипломатические переговоры…
К середине дня двадцатого февраля 1661 года по предварительной договоренности в заснеженный Черкасск от предводителя калмыков Дайчин-тайши прибыл молодцеватого вида посол Баатыр Янгильдеев, разодетый празднично и торжественно. Войсковой атаман Корнила Яковлев, тоже одетый в лучшее, что у него было, старшины и казаки с почетом, но без подобострастия, приняли посольство влиятельного тайши. В знак дружбы и расположения казаки одарили Янгильдеева дорогим оружием, добротными сукнами, выстоявшимися медами и винами в деревянных пузатеньких бочоночках. Калмыцкий посол, смущенно кланяясь, принял дары и в свою очередь щедро одарил Корнилу и старшин. После обмена дарами начались переговоры.
Опытный Корнила, ведший переговоры, взял с собой Степана и велел крестнику внимательно слушать и учиться нелегкому искусству дипломатии. Далеко вперед смотрел крестный, приучая Разина к мысли о скорой дипломатической поездке к калмыцким тайшам.
Переговоры длились несколько дней, их результатом было заключение договора о совместных действиях казаков и калмыков против крымских татар и ногайцев. Для окончательного закрепления этого договора было решено, что донские казаки пришлют ответное посольство к тайше Дайчину. Выбор пал на Степана Разина и Федора Будана.
В то время Степану Разину было немногим более тридцати лет – возраст сравнительно молодой для выполнения столь ответственного поручения. Но казаки доверили ему это, весьма важное для всего Войска, дело, значит, надеялись на его благоразумие и дипломатический талант, да и крестный Корнила, конечно, посодействовал… Впрочем, это не было главным: Разин и без содействия Корнилы подготовил себя к выполнению столь важного дела, он знал калмыцкий язык, считался прекрасным оратором, умел увлечь собеседников словами. Один из историков в этой связи отмечал: «Разин обладал всеми физическими и психическими данными, чтобы оказать могущественное влияние на людей… Обладатель физической мощи древнего исторического богатыря, Разин совмещал в своей психике острый ум с непреклонной волей. Это была натура столь же широкая, как и необозримая, ее породившая, русская степь. Это, несомненно, был один из тех самородков, которые иногда выбрасываются из таинственных недр народной жизни и поражают какой-то истинно богатырской неукротимостью воли. Постоянная кровавая борьба… постоянные опасности и беззаботно-презрительное отношение к своей и чужой жизни и смерти создавали путем наследственности самородки воли, в то же время и закаляли их до такой твердости, что смять их, согнуть не оставалось никакой возможности: их можно было разбить чем-нибудь крепким… Разин был прирожденным и закаленным условиями жизни и среды стальным характером, богатырем воли и действия»[44].
В середине весны Степан Разин и Федор Будан с небольшим казачьим отрядом выехали к калмыцким кочевьям. Стояла удивительная погода, в небе, торжественно-голубом и необъятном, весело заливались неутомимые жаворонки. Застоявшие за долгую зиму кони свободно и раскованно шли по изумрудной траве, обильно украшенной пунцовыми, щевелящимися по ветру, тюльпанами. Из травы то и дело вспархивали птицы, а иногда стремглав вылетали большеухие зайцы. Казаки озорно свистели и улюлюкали, испуганный косой давал стречка, с огромной скоростью скрывались в ближайших кустах. Ехали весело…
Наконец достигли границ калмыцких кочевий. В условленном месте Степана с казаками ждали калмыцкие всадники, чтобы сопроводить к своему предводителю. Быстро пройдя большой участок степи, всадники прибыли к богатой кибитке тайши. После обмена традиционными приветствиями, Разин с казаками вошел под своды роскошной кибитки. Тайша грузно и неподвижно сидел на ворохе разноцветных подушек, с которых встал, когда Разин и Будан приблизились к нему. Снова последовали церемониальные приветствия, после чего тайша усадил Степана и Федора на почетном месте. Заняв свои подушки, тайша негромко хлопнул в ладони: из-за плотного тяжелого полога сноровисто вынырнули стоявшие там наготове слуги, неся на широких деревянных блюдах дымящееся ароматное мясо, а в кувшинах крепкий кумыс. Закусили. И, омыв руки в специально для этого принесенных тазах с водой, приступили к переговорам. В неторопливой беседе, ведшейся на калмыцком языке, были решены все вопросы, подтвержден договор о совместных действиях против ногайских и крымских татар, заключенный в Черкасске. Молодого дипломата Степана Разина и его сотоварищи Федора Будана можно было поздравить с большим успехом, ибо договор, заключенный им, был важен не только для войска Донского, но и для Русского государства: отныне калмыки из силы враждебной России, превращались в ее союзников.
На Дон Степан с Федором вернулись в радостно-приподнятом настроении, степенно, несмотря на молодость, доложили Корниле Яковлеву об успехе, а потом на казачьем кругу рассказали о подтверждении калмыками договора о мире и совместных действиях против татар. Корнила был доволен и горд за крестника, сердечно похвалил Степана и велел спешно снарядить легковую станицу в Москву с известием о столь важном деле. Выбор возглавить посольство пал на Дмитрия Афанасьева. Ему в день отъезда в первопрестольную Корнила вручил грамоту для государя, в которой, кроме прочего, писал: «А для, государь, мирного подкрепленья и для подлинных вестей послали мы, холопи твои, к самим гим, калмыцким тайшам, сы их калмыцким посланцами з Баатырком мурзою с товарыщи, выбрав своих донских казаков Федора Будана да Степана Разина. А которые, государь, гих полоненные калмыки прежних годов были у нас, холопей твоих, в войске Донском, и тех полоненных калмыков на миру договорились мы, холопи твои, отдать гим в то число, как они будут на твою государеву службу, куда ты, великий государь, укажешь. А одного, государь, гих полоненного калмыка послали мы, холопи твои, к ним, калмыцким тайшам для прямого имоверства с своими донскими казаками и с гих калмыцкими посланцами вместе»[45].
Казачье посольство уехало, а вскоре из Москвы прибыла государева грамота, в которой правительство одобрило результаты переговоров донцов с калмыками, успешно проведенные Степаном Разиным и Федором Буданом. Двадцать пятого октября 1661 года Корнила получил еще одну грамоту из Посольского приказа, в которой снова выражалось одобрение дипломатическим итогам миссии Разина и Будана к калмыкам.
После успешного свершения дипломатической миссии к калмыцким тайшам Степана снова потянуло на Русь, снова в его пытливой душе возникло неистребимое желание пройтись по российским просторам, увидеть жизнь люда русского. В начале ноября 1661 года Степан обратился к атаману Осипу Петрову с просьбой отпустить его к знаменитым чудотворцам из Соловков Зосиме и Савватию помолиться. Просьба середнего сына Тимофея Рази была рассмотрена, и через два дня казаки на своем кругу важили челобитную Степана, благословив в дальний путь. Наскоро собравшись, Разин со своим напарником Прокофием Кондратьевым выехал из Черкасского городка. За пазухой приятным теплом давила грудь войсковая грамота, в которой войсковой дьяк Дементьев от имени атамана Осипа Петрова писал, что «в нынешнем, во 170-м году ноября в 2-й день били челом великому государю., и в круга нам, всему войску Донскому, донские наши низовые казаки Степан Разин да Прокофий Кондратьев, а сказали. – Обещалися де оне Соловецким чудотворцам Изосиму и Савватию помолиться, и чтоб ты, великий государь, пожаловал, велел гих отпустить к Соловецким чудотворцам Изосиму и Савватию по обещанию гих помолитися. И мы тех казаков Стефана Разина, да Прокофия Кондратьева отпустили з Дону из Черкасского городка ноября в 4-день»[46].
Двадцать девятого ноября, проделав большой и многотрудный путь, Степан Разин прибыл в Москву и подал отписку в Посольский приказ. Некоторые историки считают, что эта поездка Степана Разина в столицу была связана с его посольством к калмыкам, а богомолье послужило только поводом для путешествия. Возможно, так оно и было, ибо до Соловецкого монастыря Степан так и не дошел.
Снова, как и в прошлую поездку в Москву, Степан видел нелегкую жизнь русских крестьян, наблюдал серую и невеселую суету городского тяглового населения. Цепким умом запоминал казак виденное, копя обиды народные в тайниках своей души, дожидаясь часа, чтобы предъявить счет угнетателям народным, чтобы за все обиды людские сквитаться с боярами, купцами, воеводами и чиновной оравой, лютой на правеж.
Снежной зимой 1662 года заметно возмужавший, нагруженный впечатлениями о московской жизни, Степан вернулся в родной Черкасск и тут же был направлен в составе нового казачьего посольства к калмыкам. Возглавлял его атаман Иван Исаков. Быстро преодолев на крепких конях безмолвные степные пространства, казачье посольство прибыло в Астрахань. Проплутав чуть-чуть по городу, нашли приказную палату и остановились в ней. Несколько дней прошло в ожидании приема у воеводы Григория Черкасского, который, наконец, снизошел к казачьему посольству.
После взаимных приветствий атаман Иван Исаков, чуть волнуясь, объяснил цель своего посольства. Григорий Черкасский, молча и насуплено сидевший в кожаном деревянном кресле, выслушал атамана, потом степенно, будто сообщал новость государственной важности, разомкнул губы:
– Дайчин-тайша, к коему вы едите, ушел ноне сражаться с дальними калмыками, кои не хотят признавать его власть. С ним же вместе ушли и другие тайши калмыцкие, так што переговоры вести вам, казаки, не с кем!
– А што ж нам делать ноне? – после некоторого молчания растерянно промолвил Исаков. – Здесь оставаться аль возвернуться обратно на Дон?
– Долго ждать придется, – с усталым равнодушием возразил воевода, – опять же, где жить-кормиться будете? Запасу продовольствия в Астрахани мало ноне. Езжайте на Дон с богом, вдругорядь приедете!
И казаки – делать нечего! – вернулись домой…
Итогом дипломатических переговоров казаков с калмыками был совместный их поход на извечных казачьих врагов агрессивных крымцев. Уже в феврале 1663 года из калмыцких улусов к Молочным Водам двинулся подвижной отряд калмыцкой конницы. Во главе отряда шли «головщики» (вожаки) Шогаша Мерген и Шербет Бакши – храбрые, опытные воины и одаренные командиры. Быстро пройдя урочище Салы, они прибыли в условленное место у Молочных Вод и остановились здесь, поджидая своих союзников – донских и запорожских казаков. Ждали недолго, вскоре заметили, как вдалеке над степью заклубилась снежная пыль и подошли соединенные сотни донских и запорожских казаков. Каждый отряд имел своего предводителя – «головщика». Над лихими запорожцами верховодил отчаянный «черкес-запороженин Сары Малжик», донских казаков возглавлял жаждавший подвигов и славы тридцатитрехлетний Степан Разин.
Пять сотен донцов и запорожцев, «сложась» с калмыками, блюдя осторожность, двинулись «к Крымской Перекопии» – Крымскому перешейку с укреплениями на нем. Пройдя несколько километров, разведчики заметили татарский обоз, спокойно тащившийся с очередного грабительского похода на украинские и польские земли. Незаметно, балками и оврагами, подойдя к татарам, союзники с яростным гиканьем обрушились на разбойников. Тяжкий звон сабель слился с воинственными кличами, мольбами о пощаде, предсмертными хрипами всадников, валившихся на мерзлую землю под тяжкие безжалостные копыта взнузданных лошадей. Татары, не выдержав согласованного натиска союзников, быстро ускакали в спасительную степь, бросив все. Триста пятьдесят украинских и польских пленников – женщин, детей, мужчин, стариков – жалких и истерзанных дурным обращением и тяжкой дорогой, были освобождены и отпущены на свободу. Падая на колени, целуя ноги и руки своим великодушным спасителям, поляки и украинцы на телегах уехали в обратный путь, на милую родину. Казаки, захватив лошадей, баранов и овец, которых гнали татары в Крым, медленно повернули к Молочным Водам. Каждый знал, что скоро последует новое нападение татар, чтобы вернуть себе добычу.
Вскорости вдалеке, на горизонте со стороны Крыма, тревожно заклубилось небольшое снежное облачко, потом над изломом дальней степной линии выросла туча татарской конницы, с разбега мощно врезавшейся в боевые казачьи порядки. Ведомые взъяренным Сафар Казы-агой, татары, махая сверкающими саблями, остервенело лезли на казаков, стремясь быстрее вернуть утраченное в недавнем сражении. Донцы и запорожцы с калмыками быстро доказали басурманам, что спешка в воинском деле приводит к печальным результатам: они уверенно отбили первый натиск с большим уроном для татар. Сафар Казы, крутясь средь сутолоки боя на бешеном коне, ввел в дело новые силы. Бой вспыхнул с небывалым ожесточением, разгораясь, как костер, в который опытный костровой подбросил свежую порцию смолистых дров.
Степан Разин находился в гуще сражения, успевая зорко следить за действиями басурман. Он видел, что пало до трех десятков татар, что ранен храбрый Сафар Казы-ага, но натиск врага не ослабевал, в то время как донцы и запорожцы с калмыками стали изнемогать от яростного напора превосходящего врага. Степан пошел на хитрость…
– Фрол! – крикнул он одному из ближних казаков так, что его было слышно и татарам, – зови на помощь калмыков, что у Молочных Вод обретаютца! Зови немедля!
И хотя у Молочных Вод уже не было свежих казачьих сил и их союзников, донцы быстро смекнули, чего хочет их хитрый атаман, и многократно повторили призыв о помощи. Казачий клич дошел до сознания басурман, и в ожидании удара свежих казачьих сил их боевой пыл стал медленно угасать, все чаще и чаще татарские всадники стали оглядываться на свои тылы, норовя выйти из боя. А тут еще донцы и запорожцы, уловив выгодный для себя перелом в боевом настроении врага, усилили натиск. Басурмане дрогнули, изнемогающие от многочасового боя, татары один за другим стали отрываться от сражающейся и копошащейся на истоптанном снегу массы и уходить скорым наметом в мглистые спасительные сумерки степи. Сражение было выиграно союзниками…
Добравшись до Молочных Вод, усталые донцы и их сотоварищи устроили круг и, поделив добычу, медленно разошлись каждый в свою сторону. Степан Разин с поредевшим после боя отрядом вернулся в родной Черкасск, нахохлено стоявший на стылом степном ветру под распахнутым неласковым небом.
Прошло два года. С берегов Дона на запад, под Киев, воевать против ляхов ушел отряд донских казаков, где походным атаманом был Иван Разин, старший брат Степана. Мог ли жаждавший подвигов Стенька усидеть в Черкасске в то время, когда брат Иван с сотоварищами шел сражаться с поляками?! Вряд ли! И некоторые авторы прямо указывают на то, что Степан Разин находился в отряде своего старшего брата, занимавшего позиции под Киевом в роковом 1665 году. Ссылаясь на воспоминания голландца Яна Стрейса, об этом пишет в своей книге «Бунт Стеньки Разина» знаменитый историк Николай Костомаров. А автор статьи «Рассказы по истории войска Донского», опубликованной в двадцать втором номере «Донских епархиальных ведомостей» за 1887 год, прямо указывает, что Степан Разин был под Киевом в тот последний для брата Ивана 1665-й год, когда по приказу князя Юрия Долгорукова Иван Разин был повешен за самовольный уход осенью из-под Киева. И Степан, возможно, являлся свидетелем жуткой сцены казни родного братушки…
На Дон он вернулся в начале зимы, затаив ненависть к убийцам брата. А на земле донской уже назревали бурные события, вылившиеся в поход казаков во главе с атаманом Василием Усом к Москве, а затем в грандиозный поход Степана Разина в Персию.
Поход Василия Уса к Москве зрел долго и основательно, и тому были свои причины…
После добровольного оставления Азова казаками в 1642 году, турки, вновь занявшие крепость, тщательно укрепили ее. По приказу султана усилился янычарский гарнизон, заметно возросло количество султанских судов, курсировавших в неспокойной дельте Дона. Для донских казаков наступили тяжкие времена: выход в Азовское и Черное моря был наглухо закрыт. Лишь отдельные удачливые партии казаков с хитроумными и опытными атаманами во главе чудом прорывались к заветным морям сквозь турецкие заслоны. На Дону «учала быть скудость», вполне реальной и зримой перспективой стал голод – гость на Дону нередкий.
Надо было что-то предпринимать, и из Черкасска в Москву срочным порядком собралась зимовая станица «бить государю челом» и просить выделить жалованье, потому что «крымский хан реку Дон закрепил и ходить им, казакам, для промыслу на море нельзя». Вопль казачий был услышал в русской столице: заинтересованные в донцах, как сдерживающей врага силе на юге государства Российского, кроме хлеба, сукна и вина, увеличило донцам денежное жалованье.
Казалось, жить и радоваться донским казакам, пользуясь щедротами «тишайшего» царя. Жили и радовались… Только не все казаки, а только богатая верхушка, в руки которой попадала львиная доля всех даров московского государя. Основная же казачья масса – а на Дону в то время жило до двадцати тысяч человек – вынуждена была искать пропитания и «зипуна» на Волге и далеком Каспийском море. Казакование на Волге и «Хвалыни» издавна практиковалось донцами, там всегда находились орленые царские корабли, суда купеческие и астраханского митрополита, которые можно было с пользой для себя «пощупать» темной ночкой, а то и белым днем. Особой активности «казакование» достигло в пятидесятых-шестидесятых годах бунташного семнадцатого века, когда многочисленные партии донских казаков «шарпали» на матушке-Волке богатые караваны судов. Лихой атаман Ивашка Кондырев с небольшим, но боеспособным отрядом молодцов громил и опустошал торговые караваны московских «гостей», доходя до далеких «кизылбашских» земель. Туда же ринулись отважные казачьи отряды во главе с опытными и храбрыми атаманами Парфеном Ивановым, Тимофеем Родионовым и другими популярными и удачливыми вожаками беспокойной казачьей голытьбы.
Промышлявшие на Волге и Каспийском море донские казаки, основали на Дону, ниже Иловли, свой небольшой городок под названием Рига. Опираясь на него, они совершали успешные походы на Волгу и нескопойное Хвалянское море. Этот разгул «шатких» казачьих партий пришелся не по душе «тишайшему» Алексею Михайловичу, его боярам, купцам и патриарху с клиром, имевших свои интересы на Волге и Каспии. Нападения казачьей голытьбы на торговые караваны разоряли торговлю Московского государства с богатыми странами Востока, нарушали столь нужные мирные связи России с Персией и княжествами Кавказа. Но главное, и это особенно беспокоило царя и бояр, они несли огромные убытки от донских казаков, грабивших государевы орленые корабли, обильные всевозможными товарами струги патриарха и бояр. С этим богатеи не могли смириться, и на Дон, в Черкасский городок, полетела гневная царева грамота, требующая незамедлительного разрушения «воровского Рыгина городка» и примерного наказания «воровских» отрядов голытьбы. Донская старшина с готовностью выполнила государев приказ: Рига была сожжена дотла, а ее обитатели частью побиты, частью разогнаны.
Одновременно с этими карательными акциями, царь значительно увеличил гарнизон Царицына, что стало дополнительным препятствием на пути казачьих отрядов, стремившихся прорваться на просторы Волги, Каспия и далее в богатые «кизылбашские» земли шаха.
Донская казачья голытьба, голодная и злая, открыто и шумно выражала недовольство этими жесткими мероприятиями правительства и старшины, с горечью заявляя, что на Дону «учала быть скудость», что сидят они взаперти и «зипуна им негде взять». Посколь говорилось это открыто, то сведения о «невежливых словах и изменнических речах», шатости среди донских казаков докатились до высочайшего слуха государя и сановников, то они не видели в этом большой для себя опасности, лениво и неэнергично реагировали на «воровские» казачьи речи.
Чтобы не умереть с голоду и хоть как-то прокормить себя и свои семьи, донцы ударились было в рыболовецкий промысел и охоту. Но это не принесло желаемых результатов. Раньше казаки весьма удачно рыбачили в богатой дельте Дона, вылавливая огромное количество прекрасной, вкусной рыбы, но отныне в тех рыбных местах прочно утвердились турки и татары и за возможность полакомиться рыбкой казакам часто приходилось платить своей кровью, а то и буйными головами. Ко всему, турки исхитрились так плотно перегородить Дон прочными сетями, что рыба практически не могла, как ни билась, прорваться сквозь них вверх по Дону к районам казачьих городков. «Скудость» и обнищание на Дону усугублялись тем, что земледелием казаки сами не занимались, считая, что промысел сей мешает воинскому делу, призывая вольных донцов к земле. Запрет этот строго соблюдался и вплоть до девяностых годов семнадцатого века ослушникам этого неписаного закона грозила смертная казнь.
Ко всем бедам добавилось множество ртов – беглых крестьян, которые в условиях изнурительной войны России с Речью Посполитой спасались от усилившейся эксплуатации и военных невзгод бегством на Дон, где еще не иссяк дух вольности. Крестьяне, холопы, беднейшие посадские служилые люди не только России, но и Украины, откуда приток беглых особенно усилился после присоединения в 1654 году Украины с Русским государством, искали спасения на Тихом Дону, не ведая, что здесь их ждет голод. Беглые пополняли собой ряды донской голытьбы, злой и готовой на самые решительные действия…
Голытьба Дона, видя отчаянность своего положения, решила идти походом на Москву, чтобы прорваться к великому государю и просить его об улучшении своего положения. Во главе отряда встал Василий Ус, весьма авторитетный и известный атаман, будущий сподвижник Степана Разина. Боец по натуре, Василий Ус участвовал с отрядом казаков в войне с поляками, отличился и был отмечен за боевую доблесть. Обогащенный жизненным опытом, познавший нужды черного люда России, вернулся Ус на Дон, где пользовался почетом и уважением казаков. Он то и возглавил поход к Москве.
Забурлил, зашумовал тихий Дон, казаки быстро верстались в отряды, чтобы двигаться в Москву, просить государя не дать умереть им с голоду, принять на царскую службу, одарить спасительным жалованьем. Войсковой атаман, многоопытный Корней Яковлев, и домовитые казаки, смекнувшие, что государь Алексей Михайлович не пожалует их за самовольный поход голытьбы к Москве, кинулись всячески препятствовать выходу отряда Уса с Дона. Хорошо знал Корней, что «тишайший» враз станет грозным, лишь только проведает, что не смогли удержать «гультяев» домовитые. И войсковой атаман принялся энергично отговаривать голытьбу от этого рискованного мероприятия. Однако все настойчивые попытки Яковлева задержать казаков Уса на Дону не имели успеха. Пятисотенный отряд донцов неожиданно снялся с места и быстро двинулся из пределов Дона на Воронеж. Здесь вольницу пытался задержать воронежский воевода Василий Уваров. Казаки остановились. Начались переговоры, результатом которых было воеводское разрешение послать к государю в Москву легковую казачью станицу из шести человек для объяснения мотивов похода. Так и сделали: станица уехала в Москву, а оставшиеся казаки расположились лагерем и стали ждать.
Время шло, один за другим летели дни, а станица из Москвы не возвращалась. Решительный Ус, не дождавшись ответа от царя, скрытно от воеводы снялся с места и двинулся к Москве, по пути стремительно «обрастая» все новыми и новыми бунташными людьми. Звойным днем девятого июля 1666 года казаки остановились в восьми верстах от Тулы, куда подоспела казачья легковая станица с вестями из Москвы. Она привезла небольшое жалованье и царскую грамоту с приказом немедля вернуться на Дон.
41
Крестьянская война… Т. 1. С. 25.
42
Посольский приказ ведал внешнеполитическими делами Русского государства, дипломатическими сношениями. Ему были подведомственны и донские казаки.
43
Крестьянская война… Т. 1. С. 25–26.
44
История России. XVII век. Сборник статей. Б/г. С. 90.
45
Крестьянская война… Т. 1. С. 27.
46
Крестьянская война… Т. 1. С. 28.