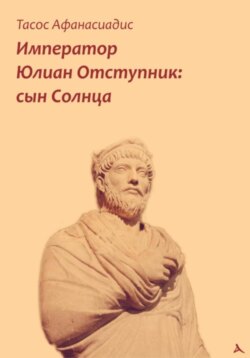Читать книгу Император Юлиан Отступник: сын Солнца - - Страница 5
Часть первая
Глава четверная
ОглавлениеПо святым местам эллинского духа
Зная, что мстительность Констанция не имеет границ, Юлиан в страхе ожидал, когда наступит его черед. Кого-нибудь из толпы «доверенных лиц» Констанций, должно быть, избрал на роль соглядатая. На этот счет иллюзий не было. Юлиана обвиняли в том, что под предлогом учения в Малой Азии, он вместе с Галлом принимал участие в заговоре против императора, и поэтому помчался в Константинополь, когда его брат оказался там. Констанций вызвал Юлиана для дачи «некоторых объяснений» в Медиолан. Однако, будучи осведомлен о популярности Юлиана и желая предупредить возможное противодействие его сторонников, Констанций дал его вооруженной свите приказ в пути относиться к Юлиану с почтением.
С сильным волнением в душе относительно грядущего Юлиан плыл по Геллеспонту. Он не упустил случая сделать остановку в Троаде. Легендарный Илион, очаровавший его в детстве благодаря стихам Гомера, обладал для Юлиана такой же святостью, как Святые Места для христиан. Страстно желая увидеть город Приама, проснулся он на рассвете. К Илиону прибыли только в полдень. Народ оказал ему радушный прием на агоре. Арианский епископ Пегасий, бывший в тайне пламенным почитателем Гелиоса, под предлогом показа достопримечательностей повел Юлиана в святилища. С благоговением стоял Юлиан у героона под открытым небом с медной статуей Гектора напротив статуи Ахилла. Юлиан словно ощутил некую сладость на устах, едва на память ему пришли стихи из «Илиады», в которых божественный Гомер давал описание их ужасающего поединка. Какое героическое время! Жертвенники, еще несколько лет назад почитавшиеся язычниками, выглядели так, словно на них до сих пор зажигали священное пламя. В святилище Афины Илионской Юлиан с радостью убедился, что статуи все еще стоят там в целости и сохранности. Их безмятежные лица оставались неоскверненными: христиане имели гнусную привычку марать их «знаком святотатства» – крестом. В благочестивых грезах Юлиан молил богиню защитить его от убийственных рук императора. Его нисколько не интересовали слава и чины, почести и величие. В сиротстве своем он не ожидал и человеческого утешения – единственное, что ему оставалось, это его собственная теплота. Они всегда так хорошо понимали друг друга! Враги могли лишить его всех земных благ, которые, впрочем, представлялись ему столь бренными. Но могли ли они лишить его мысли, заставить его восторгаться тем, что противоречило его желаниям? Если бы это им удалось, это было бы воистину чудо, – с равным успехом можно стараться оставить запись на воде, сварить камень или отыскать следы птиц в воздухе… А коль скоро никто не мог лишить свободы его мысли, он был собеседником для самого себя. Афина Илионская посылала ночной мрак на мысли его врагов, но его мысли хранила светлыми, чтобы вести его сквозь мрак будущего…
В Ахиллейоне, куда повел его Пегасий, не было ни души. Шум с агоры долетал, словно грохот разъяренного моря. Несмотря на слухи о ее разрушении, гробница сохранилась великолепно. Было ли это следствием благочестия какого-то непреклонного язычника? Исполинский образ благороднейшего из эллинов предстал перед Юлианом. В упадочную эпоху, которая дошла до того, что называла тело «гробницей души», легендарный сын Фетиды благодаря своей доблести стал в его глазах высоким идеалом язычества, вдохновлявшим создание непревзойденных шедевров классического искусства. «В здоровом теле здоровый дух».
Долина Скамандра была залита солнцем. Несколько быков медленно пахали тучную землю. Лениво жевали траву стада коз и овец. Река сверкала декабрьскими отблесками. Какая пустынность в этот выхолощенный век! «О, Гектор, Деифоб, Эней, Сарпедон, благородные троянцы!» – воскликнул Юлиан. В ответ раздалось мычание. Рыдания душили его, подступая к горлу…
Из Илиона он уехал совершенно спокойный. Боги не оставят его беззащитным под мечом Констанция. Однако, прибыв в Медиолан, Юлиан почувствовал вокруг тяжелую атмосферу. Демоническая диада Евсевий-Алисида со своей тайной полицией держала людей в страхе. Никто из сановников не был уверен в собственной безопасности. Преследования и ареста были самыми обычными явлениями. Многие друзья и приближенные Галла были казнены или отправлены в изгнание. Епископ Феофил Индиец, некогда пользовавший огромным авторитетом при дворе, оказался в толпе впавших в немилость.
Стоически ожидая решения своей судьбы, Юлиан с негодованием отверг обвинение в том, что участвовал вместе с братом в заговоре против императора. Галла он не видел даже во сне. Они никогда не встречались. Между ними не существовало никакого общения. Галл писал ему крайне редко и по вопросам совершенно другого рода. Юлиан потребовал аудиенции у императора. Однако верховный смотритель императорских покоев Евсевий, опасаясь, что аудиенция может привести к примирению, то и дело находил какой-нибудь предлог, чтобы перенести ее.
Длившаяся семь месяцев неуверенность в собственной судьбе оказала отрицательное психологическое воздействие. Испытывая ощущение постоянной слежки, Юлиан, тем не менее, пользовался определенными удобствами: он мог свободно передвигаться по городу и вести переписку. Естественно, чей-то глаз неизменно проверял его письма прежде, чем их доставляли по назначению. Особенно часто писал он софисту Фемистию, который после энкомия Констанцию в речи «О человеколюбии», настолько завладел душой императора, что тот называл в сенате философию «украшением его правления». Не исключено, что этот мастер раболепия и вместе с тем искусный ритор, который за маской религиозной терпимости и умеренности сумел сделать своими друзьями пятерых императоров, добившись того, что в честь его воздвигали статуи, а также высоких должностей и симпатий могущественных христиан и язычников, выступил перед Констанцием в качестве посредника, чтобы улучшить положение Юлиана. Возможно, что доведенный до отчаяния Юлиан сам просил его об этом. Юлиан даже не мог представить себе, что некий ангел-хранитель неустанно бдел над его жизнью – императрица Евсевия.
Наконец, по настоянию августы Констанций дал ему желанную аудиенцию. Мы не знаем, о чем говорили двоюродные братья. Несомненно, желая обезопасить себе жизнь, Юлиан пошел на какое-то унижение. Произошло то, чего боялся Евсевий: объяснения Юлиана убедили Констанция в его невиновности и позволили ему возвратиться в имение бабушки близ Никомедии. В обратном пути его сопровождала стража из доверенных лиц императора. Испытав чувство облегчения после многих месяцев тревоги, Юлиан остановился весной на короткий отдых у Комо – озера с изящными холмами и живописными виллами. Однако отдохнуть ему не было суждено. По дороге в Малую Азию Юлиан получил приказ императора, как можно скорее возвратиться в Медиолан. В расстроенных чувствах он подозревал уже, что причиной тому были какие-нибудь новые козни Евсевия или Палладия. Однако все оказалось не так. Констанций, внушающее отвращение поведение и жестокость которого приводило к бунтам полководцев, отправившись в Малую Азию, чтобы предупредить заговор, испугался, как бы враги не сделали его двоюродного брата орудием в своих руках, и предпочел держать его у себя при дворе.
Юлиан возвратился в Медиолан в ожидании худшего. Однако судьба, которая уже столько раз вносила в его жизнь то свет, то мрак, теперь в лице Евсевии преподнесла ему неожиданную радость: императрица убедила находившегося еще в Малой Азии Констанция, что предпочтительнее отправить Юлиана для учебы в Афины. Так его было бы легче держать под надзором.
Внезапно Юлиану показалось, что мечта его становится действительностью. Его отправляли в Иерусалим классического духа – туда, где, как сказал Петроний, «средь леса храмов, алтарей, статуй, портиков, скульптур легче встретить бога, чем человека…».
В ту эпоху Афины, благодаря своим философским школам, в которых учили прославленные риторы и софисты, а также своему славному историческому прошлому, пользовались наибольшим признанием среди университетских городов империи. Со всех концов огромного государства богатые родители, а также бедные, отдававшие ради этой цели свои скудные средства, посылали своих сыновей получать образование в «город наук». Даже ревнители христианской мудрости считали необходимым завершить свое образование на родине Платона. Учившиеся в Афинах пользовались таким авторитетом, что прочие испытывали рядом с ними своего рода комплекс неполноценности. «Божественный град» переживал новую фазу своего духовного расцвета в дни длительных сумерек свого упадка, продолжавшего около девяноста лет, пока окончательно не погрузился во мрак, когда христианские императоры решили положить конец стремлениям молодежи к получению эллинского образования, поскольку это наносило ущерб делу христианства или же потому что необычайное распространение последнего делало неактуальной родину классического духа…
В середине IV века Афины были многолюдным университетским городом с космополитическим колоритом. По улицам города прогуливались, ведя громкие диспуты, толпы учащихся в одеяниях самых разных народов – африканцы, египтяне, евреи, арабы, греки, азиаты, галлы, италийцы. Несмотря на то, что после «золотой эпохи» прошло уже восемьсот лет, в течение которых грабежи, пожары, землетрясения, конечно же, изменили архитектурный облик города, тем не менее, Парфенон на Акрополе, все еще нетронутый, с хризэлефантиновой статуей Афины внутри, Пникс, статуи, алтари, городские стены, храмы, театры, одеоны, фонтаны, термы, палестры, портики, стадион, Керамик, Агора – и все это, озаренное божественным светом, – холмы, рощи, памятники, святилища, тенистые платаны на берегах Илисса, дороги в Академию и Ликей, розоватые горы вокруг, ласковое море у Фалера и Пирея производили ложное впечатление на заранее подготовленных психологически посетителей, который слышали прекрасную аттическую речь потомственных афинян и присутствовали на старинных празднествах (Панафинеях, Ленеях, Дионисиях), впечатление, что город Перикла продолжал жить кипящей жизнью, несмотря на ход времени. «Душа становится чистой, воздушной и легкой, когда видишь Афины», – признавался ритор Элий Аристид. Даже Либаний, вынужденный отказаться здесь от преподавательской деятельности из зависти коллег, с восторгом называл этот город «оком Эллады». Тем не менее, Василий Великий, в отличии от своего соученика и задушевного друга Григория Назианзина, называвшего Афины «золотыми», с пуританизмом фанатичного христианина называл их «пустым блаженством». Несомненно, очарование этого бастиона язычества распространялось далеко за пределы его развалины. Своей щедрой духовной пищей, а также прочими жизненными соблазнами, Афины привлекали к себе юношей, словно магнит…
В ту эпоху афинские школы насчитывали около двух тысяч слушателей. Достигшие двадцатилетнего возраста считались уже «пожилыми». Относительно женщин, неизвестно, какие науки они изучали, за исключением знаменитого математика из Александрии Гипатии.
В философских школах Афин IV века преподавали выдающиеся ученые – софисты с глубокими знаниями классической словесности, искрометные риторы, очаровывавшие молодежь. Некоторые из них – такие, как Юлиан, Проэресий, Гимерий – мудростью и добродетелью своей возвысились до идеальных «воспитателей душ», о которых мечтал в своих «Диалогах» Платон. Благодаря своей высокой нравственности и захватывающему обучению, они стали подлинными мерилами совести в эпоху, когда постоянная перемена ценностей делала молодежь столь податливой искушениям…
Софист-неоплатоник Юлиан, учивший в начале IV века, был язычником из Каппадокии. Сила его красноречия и представительная внешность придавали его занятиям особую зрелищность. Его добродетельная жизнь напоминала жизнь христианского святого. Молодежь боготворила его. Однако коллеги, избегая всякого диспута с Юлианом, смертельно ненавидели его за эту популярность. Он быль сеятелем добра в душах своих учеников, многие из которых стали знаменитыми. Самым любимым из них, Проэресием, удостоилась восхищаться «краса» империи. Проэресий был христианином из Армении. Родители его были очень бедными и не имели средств для обучения сына. Однако тот, жаждя получить высшее образование, прибыл вместе со своим другом Гефестионом в Афины, решив добиться признания. Оба прибывших вошли в круг учеников своего соотечественника Юлиана. Жили они в столь великой нужде, что делили на двоих один гиматий и один хитон. Поэтому, когда один из них находился в университете, другой оставался полуголым под общей кровлей переписывать «конспекты» уроков. Проэресий не замедлил отличиться среди учеников Юлиана. На суде учителя он защищал его дело с таким красноречием, что вызвал бурю аплодисментов со стороны учеников его противника Апсина. Юлиан откликнулся на чувства Проэресия, оставив ему после смерти свой скромный домик в Афинах. Проэресию пришлось выдержать борьбу с пятью соперниками за право занять место Юлиана. Соперники, как и было принято, имели рукописные списки речей и заранее готовую аплодировать аудиторию. Однако проконсул решил, что они должны произносить речи без подготовки на темы, которые сам же дал им. Пять соперников отказались и вышли из борьбы, а Проэресий согласился и вызвал восторг своими импровизациями. Однако в конце концов соперникам Проэресия с помощью подкупа удалось аннулировать его назначение. Спустя некоторое время все они получили назначение. Проэресий между тем стал уже знаменитостью. Император Констант вызвал его в Галлию и окружил великими почестями, тогда как галлы, не понимавшие его языка, восхищались только его исполинским ростом. И, действительно, обладая прекрасной наружностью и ростом в девять стоп, Проэресий казался колоссом даже рядом с самыми высокими мужчинами. Выражая свое восхищение, римляне воздвигли в его честь медную статую с надписью: «Царь мира Рим царю красноречия». Никто не мог сравниться с ним славой. Он обладал сияющим взглядом, низким голосом, мягким характером, радостным выражением лица. Переписчики не поспевали записывать, когда он произносил речи. Его современник Гимерий, дерзнувший состязаться с Проэресием публично, потерпел поражение. Только Либания Проэресий признавал выше себя. Евнапий, познакомившийся с Проэресием, когда тому было уже 87 лет, оставил следующее его описание: «Волосы у него были белые, как серебристая пена волн. Дух его, все еще юный, поддерживал тяжелое тело. Красноречие его неизменно сохраняло свою силу. Смотря на него, мне казалось, что передо мной бессмертный человек». Это был единственный христианский учитель в Афинском университете. (Когда Юлиан уже стал императором и своим знаменитым указом запретил христианам учить эллинской словесности, он решил, что это распоряжение не должно распространяться на его учителя Проэресия, однако тот не принял этой милости и даже не ответил на приглашение приехать к Юлиану в Константинополь). Немногочисленные отрывки из произведений Проэресия, цитируемые в текстах других авторов, сохранили его имя для истории. Умер он, прожив более девяноста лет.
Духовную традицию софиста Юлиана продолжил Гимерий, бывший в течение краткого времени учеником Проэресия. В отличии от учителя, ему посчастливилось родиться в богатой семье в Прусе Вифинской. «Любовь моя к тебе, о, божественное красноречие, заставила меня отказаться от счастливой жизни в отчем доме и жить на чужбине, на берегах Илисса…», – писал он. Это была богатая натура, несколько напыщенная – лирический характер с чувством изящества и умеренности. Речам его были присущи особый риторический сюжет и особая словесная архитектоника. После преподавания в Константинополе и Малой Азии, в возрасте сорока лет он снова возвратился в Афины, основал школу, стал афинским гражданином (возможно, и членом Ареопага), женился на знатной афинянке и имел от нее двух детей. Наконец, Гимерий был назначен государственным софистом и получал плату из государственной казны. Естественно, из-за господствовавшего духа взаимной ненависти между школами, вынудившего Либания отказаться от преподавания, а Проэресия предстать перед судом, успехи Гимерия порождали зависть коллег, которым удалось отправить его в изгнание. Однако любовь к городу Афинам вернула Гимерия обратно. Во время одной из ссор, враги ранили Гимерия и сожгли его дом, однако ученики отстроили дом учителя вскладчину. Будучи язычником, Гимерий тем не менее симпатизировал религии христиан. Влияние Нагорной Проповеди ощутимо в его произведениях. Среди его многочисленных учеников были также Василий Великий и Григорий. (Император Юлиан пригласил учителя в Константинополь и почтил его там высокими званиями. При этом однако не известно, был ли Гимерий секретарем Юлиана, как утверждает Цец).
* * * * *
Стараясь избегать выражения народной любви, столь неприятно действовавшего на императора, Юлиан решил путешествовать и жить неприметно. За помощью в осуществлении этого замысла он обратился к своему учителю Либанию. Либаний написал своему другу Кельсу (аристократу из Антиохи, уже давно обосновавшемуся в Афинах), прося оказать Юлиану гостеприимство в своем доме.
И вот, в конце мая 355 года Юлиан сел в Анконе на корабль, идущий в Константинополь. Главную часть его багажа составляли книги, подаренные Евсевией. Путешествие через Адриатику, бывшее в старину рискованным предприятием из-за пиратов, в те времена стало уже приятной поездкой. Стоя в стороне от множества других попутчиков и держась за борт, Юлиан погрузился в мечты, глядя на звезды. Часто ему становилось страшно. Пробуждение от сна к действительности казалось совершенно невероятным! Стало быть, он ехал в город, где произносил речи Перикл, где учил Сократ, где выступал юношей в хоре Софокл? То и дело Юлиан воздевал руки к небу. «Нет ничего в мироздании, чем бы ни был ты, Зевс!» – восторженно повторял он шепотом стих из «Трахинянок». Какова была его жизнь до того часа? Кошмарное существование между намерением императора казнить его и попытками Евсевии спасти. Но, несмотря на мучительное чувство опасности, сколь высокого смысла был полон каждый день его жизни! Богиня Афина, направлявшая его мысли и его действия, не могла оставить своего молящего. Несомненно, она пребывала рядом и помогала вместе со стражами, которых дали ей Гелиос и Селена!
Наконец, после нескольких дней плавания при благоприятном ветре в утренней мгле показались берега Аттики. Дыхание перехватило от волнения: перистиль храма Посейдона на Сунии, возвышаясь в утреннем свете, напоминал исполинскую лиру! С самого рассвета Юлиан стоял на носу, впившись взглядом в горизонт…
В Пирее бухты Мунихии и Зеи казались высеченными в скале. На кружевном берегу древнего Кандара кишел муравейником рабочий люд, трудившийся на причалах и верфях. Этот порт, сооруженный великим поклонником красоты архитектором Гипподамом из Милета, был воистину изящным произведением искусства. Стоявший всюду запах рыбы, мешаясь с запахом смолы и обрабатываемой кожи, неприятно бил в нос. Грузчики разгружали корабли, пришедшие из Сицилии, Италии, Египта, Сирии, Финикии. Перламутр и бычьи шкуры из Кирены, скумбрия и соленая рыба с Геллеспонта, зерно и бычьи ребра из Фессалии, свиньи из Сиракуз, парусина и папирус из Египта, благовония из Сирии, кипарисовое дерево с Крита, слоновая кость из Ливии, фрукты и тучные овцы с Эвбеи, сосуды с Эгины… В отдалении от прочих кораблей греется на солнце галера проконсула Ахайи, мачты которой украшены флажками. Чайки кричат среди солнечных лучей, падающих на волны и скалы. Юлиан с восторгом смотрит на этот зелено-голубой водоворот, который кружился в пространстве, разбрасывая всюду расплавленное серебро и пестрые цветочные ковры. Это и был знаменитый свет Аттики, воспетый поэтами и писателями. На память пришли восторженные слова Элия Аристида: «Свет Аттики – самый яркий в мире, а атмосфера нигде не бывает столь воздушной и чистой…». Едва ступив на набережную, он ощутил желание не идти, а летать. Майское солнце палило. Несколько рыбаков в соломенных шляпах сушили сети, другие чинили их. Юлиан устремил взгляд в шумную толпу. Какой-то юноша у повозки следил за его движениями. Юлиан улыбкой подозвал его к себе. Юноша почтительно поздоровался. Это был посланный Кельса. Растроганный Юлиан поднялся в коляску.
Чтобы преодолеть расстояние до города, понадобилось около двух часов. По мере того, как под взволнованным взглядом Юлиана разворачивался пейзаж со скалами, масличными деревьями, рыжеватыми кустами, виллами, пересохшими руслами ручьев, в памяти его восстанавливалась картина, созданная при чтении книг. Цикады трещали на жаре. Пыль от проезжающих повозок поднималась столбом. Развалины Длинных Стен Фемистокла то появлялись, то снова исчезали, словно жизнь Афин в течение девяти столетий. Юлиан зачарованно рассматривал все вокруг. Где-то здесь Главкон добродушно крикнул идущему впереди Аполлодору: «Эй, фалерец, подожди немного!». И, как и подобает болтливым афинянам, они начали беседу о столько раз обсуждавшемся «Пире» в доме поэта-трагика Агафона, где Сократ произнес неслыханные ранее слова о любви, изреченные якобы устами прорицательницы Диотимы из Мантинеи.
И вдруг Юлиан вздрогнул всем телом: копье медный статуи Афины Промахос над Пропилеями сияло золотом, словно охваченное пламенем! Он простер вперед руки, словно желая обнять видение: «Возлюбленная Афина… Возлюбленная Афина… Возлюбленная… Возлюбленная…», – шептал восторженно Юлиан на родине эллинского духа. Слезы заструились по его щекам. Повозка чуть задержалась на перекрестке, чтобы двинуться затем по большой, усаженной деревьями дороге к Академии. Они проехали через Дипилонские ворота. У храма Зевса Олимпийского выстроился отряд тяжеловооруженных легионеров. Сразу же за вратами Адриана показался дом Кельса. Это был небольшой дворец на берегу Илисса, осененный густой тенью платанов…
С первого же вечера, после роскошного ужина у Кельса Юлиан понял, что этот «вечный студент», щедро тративший полученное в наследство состояние на пиры с флейтистками и гетерами, менее всего мог помочь ему составить представление об учителях и школах, а Юлиан торопился, поскольку учебный год оканчивался. Конечно, при желании он мог бы посещать летние занятия – Афина была всегда щедра к тем, у кого было желание учиться. Однако дом Кельса, настоящий «притон распутства», не соответствовал жизни, посвященной духовным исканиям, как его жизнь. Несомненно, что этот щегольски одетый bon viveur, у которого за ночными оргиями следовали дни праздности, в то время, когда с ним познакомился Либаний, был совсем другим, – иначе Либаний не рекомендовал бы Кельса Юлиану, зная его отвращение к такого рода наслаждениям…
На следующий день Юлиан поднялся на Акрополь, чтобы совершить молитву Афине Деве, удостоившей его счастья взойти на свою священную скалу. Неподвижно стоя перед статуей богини из золота и слоновой кости, Юлиан проникновенно рассказывал о своих страданиях по вине Констанция и умолял помочь ему исполнить свое предназначение в этой жизни – стать достойным того, чтобы великий царь Гелиос призвал его в свои нежные объятия… Пожар, учиненный в 267 году германским племенем герулов и сильно разрушивший город, на Акрополе оставил по себе лишь незначительные следы: пострадали фактически только внутренний потолок целлы и опистодома, а также деревянная основа статуи Афины. Весь день, даже не думая о еде, Юлиан рассматривал шедевры Фидия и Праксителя. Панорама, открывавшаяся с перистиля Парфенона в золотисто-пурпурных сумерках, с силуэтами Саламина и Эгины в лазурной дали, вызывала на глазах у него слезы. Сколь прекрасную перспективу обретала вдруг славная эпоха, о которой мечтали в дни упадка, подобного его времени…
Юлиан без особого труда снял тихий домик, который стал ему приютом на время духовных исканий. Из числа окружавших его юношей Юлиан сделал своими друзьями двух язычников. Эвмений и Фариан с восторгом отзывались о Проэресии и Гимерии, отличавшихся нравственностью и методичностью преподавания от других учителей – таких, как Гефестион, Диофант, Епифаний, Сополид, Парнассий. Поскольку о двух этих философах из Азии Юлиан уже слышал в Пергаме, он решил посещать их занятия. Либаний сообщает, что во время принятой испытательной беседы оказалось, что Юлиан обладает знаниями большими, чем его учителя! Сколько бы язвительности по отношению к своим коллегам не таило за преувеличениями посмертной хвалебной речи в честь его ученика это утверждение исполненного самолюбования антиохийца, в ней содержалась значительная доля правды. Конечно, достигший уже (по тем временам) солидного возраста двадцатипятилетний человек, насыщенная речь которого сопровождалась заиканиями и жестами, произвел сильное впечатление своей философской образованностью и потрясающей памятью на экзаменаторов, как и впоследствии на двух своих спутников в продолжительных прогулках…
Действительно, когда Юлиан находился наедине или вместе с двумя друзьями в каком-нибудь прославленном месте Афин или у знаменитых развалин, память его сразу же воссоздавала их изначальный вид. Тогда, словно с помощью волшебной палочки воображения, сам он превращался в историческую личность, а друзья – в его слушателей, воспроизводя ту или иную сцену, упоминаемую в тестах древних авторов… Зачастую, желая цитировать Платона, он изображал Сократа: на берегах Илисса он произносил Федру свою «Палинодию»; у его Темницы развивал перед Критоном свои мысли об уважении к законам государства, спрашивая Кебета и Симия, согласны ли они, что невозможно познать истину посредством тела; во время скромных обедов развивал свои соображения относительно «порождения в красоте», которым был «небесный эрос». На тенистых улочках близ Академии и Ликея, два друга Юлиана зачарованно слушали его речи об «идее», «добродетели», «познании», «логосе», «благе», «справедливости», «воспоминаниях», «вечности», о том волшебном инструменте – диалоге, с помощью которого Сократ, обратившись к мифу, аллегории, иронии, добивался того, что уста ничего не подозревавших учеников сами собой снова произносили истину: «О, какой божественный дар это головокружительное путешествие от чувственного к разумному, путешествие, которое из всех живых существ может совершить только человек, чтобы узреть «благо» среди пространства идей, как солнце среди небесного свода! Задумывались ли вы, Эвмений и Фариан, о том, как это прекрасно?».
Скользя серебряными ручейками по листве, свет создавал на своем пути хрустальные многогранники. Цикады оглушительно звенели на платанах у Илисса. Ветер с моря освежал их мысли на берегу Фалера. Соловьи рассыпались страстными трелями в садах Гиппиевого Колона. В рощах вокруг Акрополя влюбленные юноши гонялись в тени за девушками. Голубая дымка полуденного жара обволакивала Парнеф и Гиметт розовой сетью. Словно изнуренный непрестанной рубкой мрамора, склонил свою главу Пентеликон. От взволнованных движений его русые волосы сбились клоками, треугольная бородка поблескивала на солнце золотом, а черные глаза словно видели то, что недоступно видеть другим. «Приходилось ли вам задумываться об этом восхитительном путешествии от чувственного к разумному, Эвмений и Фариан? Приходилось ли вам задумываться о том, какой это божественный дар?»…
Зная, что характер города проявляется на его рынке, однажды утром Юлиан отправился на агору, чтобы убедиться в том, настолько отличны нравы современных Афин от Афин классических. С грустью вспомнил он исполненные пафоса слова оратора Эсхина: «Памятники всех великих дел наших находятся на агоре». Тщетно пытался Юлиан распознать в бакалейщиках, громко расхваливавших отвратительными голосами свой товар, их сладкоречивых предков, в булочниках – славившихся юмором и «рыночной насмешкой» пекарей, в ленивых цветочниках – расторопнейших продавцов «мирры» и миртовых венков, использовавшихся при жертвоприношениях. В стоявшем всюду шуме, от которого уши закладывало, торговцы маслом с грязными пифосами, лошадники с захудалыми четвероногими, горшечники со своей непривлекательной посудой, торговцы овощами, мясом, колбасами, медом, вином в засаленных бурдюках – все, спрятавшись под навесом от знойного солнца, отгоняли конскими хвостами мух подальше от своего товара. Ни одного прекрасного потомка Алкивиада, гордящегося своими искусно причесанными, уложенными в букли и надушенными кудрями. Ни одного атлета с мускулами, блестящими от масла палестры. Ни одного кифареда, который среди варварского говора и стона напомнил бы о том, что конечная цель всех этих отвратительных яств и бренных украшений для тела – радовать душу, создающую Слово.
После полудня Юлиан отправился в портики, где ораторы классических Афин выступали с речами, давая оценку действиям государственных мужей в области экономики, вооружений, колоний. И здесь его ждало разочарование: его современники старались получить сведения о цене льна в Египте и масла на Лесбосе.
Однако во время праздника Великих Панафиней Юлиан получил удовлетворение, глубоко тронувшее его сердце язычника. Это знаменитое празднество в честь богини Афины, хотя и дошло до его времени в поблекшем виде, тем не менее, благодаря своей зрелищности, еще несло в себе некий радовавший Юлиана жизненный блеск. И это в эпоху, когда угрюмые священнодействия христиан вызывали только грусть. В качестве чужеземца Юлиан присутствовал при живописных местных обрядах все десять дней со «священным бдением», «Всенощной» и всеми музыкальными, гимническими, конными и хорегиальными состязаниями. В течение целого ряда часов он испытывал обманное ощущение, будто живет в счастливые времена многобожия! Восторг его достиг высшего предела, когда Юлиан вместе с Эвмением и Фарианом оказался в праздничной процессии, сопровождавшей пеплос Афины из Керамика на вершину Акрополя.
Гимерий оставил нам яркое описание этой процессии. «Священный корабль на колесах, казалось, плыл по спокойному морю, поднимаясь по ровной и широкой улице с двумя рядами колонн, среди которых прохаживались афиняне и чужестранцы. Парусник был заполнен жрецами и жрицами из знатных родов в златотканных одеждах, а на головах у толпы были венки из цветов и с плодами. Корабль, возглавлявший шествие, поднимаясь беспрепятственно все выше, словно покачиваясь на легких волнах, приближался к холму, с которого наблюдала за священнодействием богиня. Когда же на какое-то мгновение паруса сникали, шествие возносило молитву Ветру, тот дул благосклонно, и паруса мгновенно раздувались вновь. Внутри Парфенона под звуки гимнов и молитв статую богини из золота и слоновой кости облачали в новый пеплос». Юлиан вспомнил, что в древние времена пеплос вышивали «аррефоры» вместе с «эргастинами». Тогда за этим следовали жертвоприношения Афине Полиаде и Афине Гигейе. Куски жертвенного мяса раздавали народу. Наконец, победители в состязаниях получали в награду «панафинейские амфоры»…
Взволнованный Юлиан спустился с Акрополя. Праздник со священнодействием произвел на него сильное впечатление. Он тихо беседовал с двумя друзьями, словно углубившись в глубокие раздумья. У театра Диониса им повстречались несколько соучеников-христиан, наблюдавших за обрядом. Юлиан учтиво снял с головы венок, чтобы не обидеть их. Это были неразлучные каппадокийцы Василий и Григорий со своей неизменной компанией – Гесихием, Теренцием, Софронием и Евсевием. Все они отличались прилежанием и замкнутостью характера. Встреч с другими товарищами они избегали. При этом Василий пользовался среди соучеников особым авторитетом после того, как, будучи главой каппадокийцев, одержал в риторике верх над заносчивыми армянами. Юлиан обрадовался, узнав, что в Малой Азии учителем их был Либаний. Он был счастлив обрести столь достойных друзей. Однако вскоре их фанатизм разочаровал Юлиана. Тем не менее, к слабосильному коротышке Василию, сыну аристократа-юриста, он относился с особым почтением. Это был единственный, кто мог соперничать с ним в философии.
Они стали все вместе спускаться вниз, беседуя о празднике. Несмотря на свою немногословность, Василий неустанно порицал «язычников» афинян за их неразумную настырность: они продолжали традицию, лишенную содержания, в эпоху, когда христианство уже восторжествовало… Смотря в упор на Юлиана, Григорий воззвал к долготерпению «единого и истинного Бога», чтобы тот простил неразумных афинян. Спина этого немощного поповича ссутулилась под дырявой одеждой от слабосилия и долгих часов учебы. В свои двадцать лет он уже облысел. Юлиан почувствовал на себе его испытывающий взгляд. Тем не менее, играя роль христианина, восхищающегося эллинским духом (как и они), он несколько раздраженно заметил, что в конечном итоге только добродетель определяет достоинство человека. В частице души Христа мог прекрасно продолжать жить какой-нибудь Пифагор или Сократ. И наоборот… Василий встрепенулся, словно громом пораженный: «Такое сравнение – чистейшее богохульство!» Он яростно глянул на Юлиана. «Христос – сын Божий, рожденный пред всеми веками». «Однако человеческая природа его, сколь бы ее не поглощала природа божественная, существовала…, – возразил Юлиан, сохраняя хладнокровие. – Именно потому, что она существовала, Христос с такой нежностью понял грешного мытаря, простил грешного разбойника, признал первенство за заблудшей овцой… Высочайшая вершина эллинского духа сияла христианской нравственностью. Это мы видим у Проэресия и у Гимерия – в этом духе они и учат…». Григорий сделал осуждающий жест. Может быть, его удержало сознание, что он говорит с родственником императора? Однако вскоре фанатизм возобладал, и он напомнил Юлиану, что «добродетель», о которой говорит Платон в «Государстве», названа там «бесхозной», так что одни ее почитают, а другие презирают…. Юлиан резко остановился. Этот фанатичный крестьянин из Назианза с тяжелым каппадокийским произношением ниспровергал его высочайшие нравственные ценности. Он глянул на обоих своих соперников горящим взглядом, содрогнувшись от возмущения. «Невозможно, чтобы добродетель была схожа с публичной женщиной, которая отдается всякому, кто пожелает ее… – язвительно сказал Юлиан. – Платон оставляет ответственность выбора за человеком, чтобы дать ему оценку по степени его собственной инициативы… Добродетель – не маска, за которой мы прячемся…». Василий вскинул голову, желая высказаться. «Нет добродетели вне Спасителя нашего Христа…» – резко сказал он. Раздраженный его враждебным тоном, Юлиан предпочел промолчать. Всякий раз разговор с каппадокийцами завершался ссорой, – это он знал со школы…
Они уже подошли к Часам Андроника Кирреста, остановились на мгновение и переглянулись в растерянности. Наконец, Юлиан улыбнулся и попрощался первым. Тем не менее, несмотря на любезные жесты, ни один взгляд не выражал любви. Собравшись уж было уйти, Юлиан вдруг задержался и посмотрел двум догматикам прямо в глаза. «Философия, – сказал он, – в свой высший час своего расцвета, создав диалектику Платона, учила, что фанатизм – враг Истины…». Он почувствовал, будто метнул в них парфянскую стрелу. Однако, несмотря на все свою раздраженность и схватку с каппадокийцами, домой Юлиан возвратился в хорошем настроении. Восторг, полученный от праздника, продолжался до глубокой ночи, не давая уснуть. В какое-то мгновение он сорвался с ложа. Нет! Назло Василию, Григорию и всем им подобным возможно в один прекрасный день возродить религию многобожия – только тогда империя снова обретет былую славу и добродетель!
С приходом осени Юлиан с головой ушел в учебу. Нередко он даже забывал поесть. Пальцы его были постоянно черны от «конспектов», составлявшихся в часы учебы. Он не любил бывать подолгу ни в лекционных залах, ни на ипподроме, ни на стадионе, ни в палестре. Держался в стороне и от театральных представлений. Не присутствовал на общих обедах учеников, напоминавших шумные словопрения в Пергаме. Избегал и общества женщин, будучи по натуре своей застенчив с ними. Единственным утешением в его одиночестве было знакомство с членами общины язычников. Неизменно веря (как впоследствии признается Юлиан в «Ненавистнике бороды») в то, что «стремление к более совершенному сильнее стремления к худшему», он чувствовал, что благодаря ограничению удовлетворяет чувство самообладания так же, как другие – благодаря удовольствиям удовлетворяют инстинкт эвдемонизма. Страстью его была философия, а великой радостью – получать посылки с новыми изданиями из Александрии, которые отправляла ему Евсевия. Для Юлиана это было ни с чем не сравнимым наслаждением. Он читал книги громко вслух, чтобы одолжить затем друзьям, начиная с каппадокийцев. Проэресий, хотя и был христианином, пользовался у него уважением, однако как ритор. («Изобилие твоих речей подобно водам рек, разливающихся по равнинам, в красноречии ты соперничаешь с Периклом», – напишет ему Юлиан впоследствии в одном из писем.) А Гимерий, вызывавший у него чувство сыновней любви, очаровывал его своим лиричным характером и мистицизмом, хотя его неологизмы Юлиан находил слишком театральными…
Пребывая в этом напряженном душевном настрое, однажды вечером Юлиан получил от Кельса сообщение, что у него остановился по пути в Италию ритор Фемистий. Охваченный волнением поспешил Юлиан в роскошный дом «вечного студента» приветствовать своего покровителя. Разве мог он забыть, что Фемистий оказал ему в решающий момент поддержку в его отношениях с Констанцием? Неделя в его обществе стала для Юлиана духовным пиршеством с нескончаемыми беседами и спорами. Видавший виды софист, умевший получать за свои удачные энкомии сильным мира сего (и христианам и язычникам) в качестве вознаграждения почести и статуи, не уставал повторять во время продолжительных прогулок, что философ должен уметь сочетать теорию с практикой и принимать активное участие в политической жизни. (Так он оправдывал свое звание сенатора, полученное от Констанция). Возражая ему, Юлиан приводил великий пример Сократа: «Цель философа – формировать души – достойных граждан. Нет! Философ не должен становиться политиком, – он должен давать городу высоконравственных государственных мужей. Платон, обладавший тщеславием стать политиком, однажды понял это… Человечество обязано Александром Македонским Аристотелю…». Фемистий резко остановился, удрученный настойчивостью Юлиана в дискриминации людей действия. Они шли по роще Академа. Осенний вечер бросал на деревья и на мрамор фиолетовые тени. Софист принял горделивую позу, в которой обычно изображают героев ваятели, и строго спросил: «А что если тебя когда-нибудь тебя призовут занять престол? Ты откажешься?». Юлиан на мгновение молча опустил долу взгляд, а затем ответил: «Представим себе человека, состояние тела которого требует, чтобы он упражнялся дома, с большими усилиями и делать ограниченное число упражнений. И вот вдруг приходишь ты и сообщаешь ему: «Теперь ты находишься в Олимпии, покинул свою домашнюю палестру, пришел на стадион Зевса, где зрителями являются все эллины, а в переднем ряду сидят твои сограждане, за честь которых должен бороться. Будут там и варвары, которых ты должен поразить, показав, используя свои возможности, что твоя родина способна внушать уважение…». И что же? Испугают ли его твои слова, повергнув в трепет еще до начала состязания? Вот что чувствую я сейчас…». Фемистий опустил голову, затем посмотрел Юлиану прямо в глаза. «Ты честолюбив, Юлиан, однако еще не осознал этого. В будущем твоем я усматриваю только одну миссию… Теория и практика, как душа и тело, составляют на этой земле благословенные богами пары. От первых рождается плодотворное дело, от вторых – верная мысль…». Юлиан вспомнил двусмысленные слова софиста, когда несколько дней спустя прощался с ним в Пирее: «Теория и практика, душа и тело, Фемистий?». «Да, Юлиан. Ничто не заставит меня изменить мнение. Прощай!»
Однажды солнечным утром во время перерыва, беседуя с каппадокийцами в саду школы, Юлиан без обиняков высказал мысль: «В Афинах есть достойные софисты и риторы, однако нет ни одного истинного философа!». Ему показалось, что на устах у каппадокийцев появилась язвительная усмешка. «Не испытываешь ли ты ностальгии по иерофантам Эфеса и Пергама?» – спросил Григорий, смотря Юлиану прямо в глаза, словно желая прочесть самые сокровенные его мысли. Юлиан понял намек, но счел трусостью скрываться за уклончивым ответом. Впрочем, не впервые эти неразлучные друзья намекали, что сомневаются искренности его веры во Христа. Однако сколь часто ни приходилось Юлиану спорить с ними, он не перестал чтить их душевную честность. «Для меня философия достигает своей цели с посвящением, то есть когда становишься достойным общаться с мистическими силами мироздания…», – ответил Юлиан, опустив взгляд. Григорий осуждающе покачал своей плешивой головой: «Таково назначение религии, Юлиан! Смешение их целей вызвано нравственным упадком нашей эпохи… Цель философии – организовать мысль, чтобы она могла постигать во всем высшую истину. Злой час философии начался тогда, когда эпигоны неоплатонизма пожелали привить ему элементы мистицизма для противостояния христианству, не учтя того, что христианство – религия откровения, что тебе должна быть дана милость Божья общаться с Богом, а не с мошенничеством теургов…». Юлиан почувствовал, как кровь мгновенно прильнула ему к лицу. Плечи его судорожно вздрагивали, словно реагируя на какой-то лежащий на них груз. Конечно же, младший из каппадокийцев метил в Ямвлиха! Сколь безрассудно ни было защищать язычника в логове христиан, Юлиан не мог позволить оскорблять своего духовного наставника. «Эллинский дух в своем вековом развитии следовал гениальной диалектике дерзких сочетаний тезисов и антитезисов, и поэтому всегда оставался актуален. Неоплатоники, следовавшие за Аммонием Сакком, Плотином и Порфирием только выражали дух своего времени… Дух, который в нравственном видении мира и человека созвучен христианскому, поскольку Клемент Александрийский подготовил появление Оригена… Следовательно, их последователи испытали влияние двух родственных течений…». Назианзин, не перестававший во время речи Юлиана следить за ним суровым взглядом, засмеялся. Однако Василий, который успел уже помрачнеть, раздраженно поднял руку. «Христианство – не система идей, Юлиан! Об этом тебе говорил и Григорий. Ты всегда забываешь об этом, потому что по складу характера своего склонен к рассуждению… Мы, христиане, изучаем эллинское наследие, потому что это оттачивает нашу мысль, потому что это помогает осмыслить христианское учение. Однако за искусностью его мы видим его неспособность постичь высшую истину – существование единого и истинного Бога Спасителя… Вместо создателя эллинский дух узрел создание, вместо его святого лика – идолов, вместо его света неугасимого – отблески волхвований… Древняя мудрость дает нам не саму добродетель, но только отображение добродетели… Я собираюсь написать когда-нибудь труд, в котором дам советы юношам, какие из текстов древних авторов могут оказаться им полезными…». Юлиан вздрогнул, словно пораженный стрелой. Лицо его исказилось. «Гераклит, Пифагор, Сократ, Платон… были воплощениями добродетели, зрели лик единого бога…» – прерывающимся от волнения голосом произнес он. Василий усмехнулся, непоколебимый в своей уверенности: «Однако у них не было силы возвестить о своей вере из страха мученичества, тогда как смиренные христиане стремились к тому, сотнями восходя на костры…». Юлиан затрясся всем телом. «Сократ!… Сократ!… Разве он не презрел смерть?». Григорий подошел и, спокойно став рядом, сказал: «Он выпил цикуту, чтобы защитить условные человеческие законы… А в последнее мгновение даже напомнил ученику, чтобы тот принес в жертву Асклепию петуха…».
Звон колокольчика позвал их в зал. Они разошлись. Чуть позднее, склонившись, чтобы сделать записи урока астрономии, Юлиан глянул на Назианзина. Ему показалось, что во взгляде поповича он увидел его образ таким, как его преображал фанатизм нетерпимости, – с дряблой шеей, нервно подрагивающими плечами, испуганными глазами, вращавшимися, словно у маньяка, непрестанно двигающимися ногами, носом, который выражает презрение, комическими гримасами, астматическим смешком и быстрой, прерывистой манерой речи, привыкшей переходить от одной теме к другой без всякой связи, задавая бессмысленные вопросы и давая невразумительные ответы. Тем не менее, Юлиан улыбнулся ему незлобиво…
В один из холодных дней, возвратившись с обычной прогулки в рощу Академа, Юлиан увидел Эвмения и Фариана, которые ожидали его у дома. Товарищи по учебе принесли неожиданную весть: давно уже путешествовавший по Греции Приск прибыл из Коринфа в Афины! Он остановился в доме у Гимерия. Юлиан воодушевился. Наконец судьба устроила их встречу в городе Паллады. В тот же вечер Юлиан посетил в доме Гимерия любимого ученика великого Эдесия. Софист сразу же очаровал его своей внушительной внешностью и прекрасным лицом. Юлиан много слышал о его исключительности: это был ужасно замкнутый человек, со строгими нравами. Чувство собственного достоинства удерживало его в стороне от кичливых диспутов коллег, которые называли его по этой причине «невеждой», а он их – «мотами», потому что они разглашали, словно дешевый товар, свои идеи вместо того, чтобы хранить их как сокровище. Говорил он медленно, как-то церемонно, не спеша излагая свои мысли. Чувство достоинства присутствовало в каждом его движении. (Тем не менее Евнапий характеризовал его как «скрытного».) Юлиан почувствовал неодолимую привлекательность его личности. Он не замедлил довериться в своем разочаровании господствовавшим в Афинах рационализмом, который был показом знаний и красноречия, лишенным свежести истинной мудрости. Все это создавало ощущение духовного бесплодия. Единственной радостью для него здесь было находиться среди прославленных развалин, а также знакомство с общиной язычников, упорно придерживавшихся своих обычаев. Тем не менее, язычники его времени уже сильно отличались от динамичных афинян времен апостола Павла, которые триста лет назад разразились смехом, услыхав на Пниксе, как тот рассказывает о «воскресении из мертвых», и ушли, иронично ответив: «Об этом мы тебя послушаем в другой раз…». Нынешние афиняне были робкими фаталистами… Юлиан заговорил тише: «Однако все они, богатые и бедные, молодые и старые, мужчины и женщины, искренне верят, что многобожие снова станет официальной религией». Когда Юлиан тайно встречался с ними, они говорили: «Храмы восстановят, снова разрешат жертвоприношения, снова спустятся с Олимпа радостные боги…». Он испытывал ностальгию по иерофантам Пергама и Эфеса. Как недоставало ему их мистического учения! Ему не посчастливилось в течение длительного времени слушать великого Эдесия. Уже глубокий старик, теург опасался, как бы присутствие Юлиана среди его учеников не вызвало подозрений у полиции. Однако посвящение, совершенное Максимом, было великим часом в его жизни… Молча слушавший Юлиана Приск в какое-то мгновение простер руку и погладил его по кудрявым волосам. Сильное впечатление произвела на него непосредственность Юлиана: его черные глаза словно метали огонь. Приск подсел к Юлиану ближе. Ему нужно посетить Элевсин. Иерофант Несторий исцелит его душу от тоски. Он тоже долго беседовал с тамошними жрецами… Быстрым движением Юлиан поднес руку софиста к своим губам. Тот же совет дал ему и Максим в Эфесе. Уже давно он думает о путешествии на Пелопоннес. Несомненно, Элевсин станет для души его целительным источником. После этого они молча смотрели друг на друга – как много еще предстоит им говорить…
Нежданное ненастье заставило Юлиана отложить поездку на Пелопоннес. Когда погода улучшилась, Эвмений и Фариан, знавшие об истинной цели путешествия, предоставили ему повозку. Волнение охватило Юлиана, когда однажды осенним утром он выехал на Священную Дорогу. Смотря рассеянно на воспетую Софоклом масличную рощу, он думал о тех славных днях, когда великое шествие во главе с элевсинским иерофантом, несущим «тайные святыни», и «иакхогом», несущим кумир Иакха, двигалось по Священной Дороге в Элевсин. Тысячи участников нескончаемой процессии, прибывших со всех концов Греции, с миртовыми венками на голове двигались чинно, торжественным шагом. На мосту через Кефис элевсинцы встречали их восторженными возгласами и насмешками, а потомки древнего царя Крокона, едва процессия подходила к Ретам, надевали каждому посвященному повязку на предплечье и на ногу. Уже ночью вступали в Элевсин, держа в руках горящие факелы. В святилище, где происходил «прием Иакха», «тайные святыни» клали на то место, откуда их взяли шесть дней назад, чтобы унести в Афины. Наконец, в ограде святилища, входить куда имели право только посвященные, происходил обряд Великий Мистерий…
Глядя на Саламин, Юлиан вдруг резко остановил повозку. Руки его, державшие вожжи, задрожали. В волнении ему показалось, что он видит место, где варварская материя вступила в бой с Аполлоновым духом… Битва исполинов! Разве теперь кто-нибудь помнил об этих святых местах, кто прибывал сюда поклониться им? Неблагодарное время: люди, почитавшие древность прятались в страхе; вредоносные галилеяне целыми стадами устремлялись в Иерусалим; Греции грозила потеря даже собственного имени!
Исполненный благоговения, вступил Юлиан в святилище Деметры и Персефоны. Конечно же, Эдесий и Приск хорошо помнили иерофанта Нестория, советуя Юлиану пройти у него посвящение.
Присутствие Юлиана обрадовало элевсинское жречество. Во времена полного упадка посещение столь знатной особы придавало смелости и вселяло надежду. На следующий же день Юлиан начал проходить обрядовое приготовление, во время которой, пройдя очищение, увенчанный миртовым венком он удостоился вступить в святая святых двух подземных богинь. Там ему было позволено зреть символы, находившиеся в священной корзине. Он увидел друга Триптолема – змею между плодами граната и ветвями смоковницы. Он принял участие в символической трапезе, выпил «кикеон» и прикоснулся к священным сладостям. В сумраке ночи освещенные огромные статуи казались фантасмагорией. Он присутствовал при обрядах и священных плясках. Дважды опрокинул «племохою», напомненную неизвестной жидкостью (вызывавшей галлюцинации), пролив ее в земные скважины, поворачивая на восток и на запад и повторяя слова: «Konx, ompax», бывшие прозвищами богини Деметры, способствовавшими произрастанию плодов. Он услышал, как иерофант (в длинном до пят хитоне и с волосами, развевающимися волосами, собранными вверху под пурпурной повязкой) вдохновенно произносит наставления посвященным: «Лей, оплодотворяй!», «Святого отрока Брима родила владычица Бримо»…
В следующие дни Юлиану была предоставлена возможность беседовать с иерофантом Несторием, который, согласно преданию, происходил из рода Эвмолпидов, а также с факелоносцем, который должен был происходить из рода Кериков. Беседовали они о значении Элевсинских мистерий, в которых иерофант олицетворял бога-творца Гелиоса, жрица алтаря – Селену-Артемиду, а жрец-глашатай – Гермеса. Юлиану дали сохранившиеся с давних времен толкования, касающиеся великого осеннего праздника, символизировавшего возвращение богини плодородия в свое подземное царство с целью спасения земли от разрушительных сил зимы. По вечерам, после благочестивого ужина, в кругу храмового жречества – жрицы алтаря, жрицы Деметры, спондофоров, пресвятой жрицы, пресвятых жрецов, иакхога, жреца и жрицы бога и богини Эвбулея, певцов и певиц гимнов – Юлиан уже без опасений говорил о деле многобожия, выслушивал мнения и надежды, обсуждал перспективы на будущее… Имена Эдесия, Приска и других теургов из Пергама и Эфеса часто звучали из их уст. В тоне панегирика к Юлиану взывали, умоляя не забывать о богах предков, если судьба удостоит его стать императором…
Святилище Юлиан покинул, очистившись телом и душой. Элевсин оказался целебным источником, как он и ожидал. Однако, если в Телестерии он открыл свое сердце без каких-либо опасений, с язычниками, с которыми довелось общаться во время своего путешествия по Пелопоннесу, Юлиан держался весьма настороженно из опасения доноса. Везде, где он побывал – в Аргосе, Коринфе, Сикионе, Спарте – люди всех возрастов и сословий, взволнованные его присутствием, тайно вверяли ему свое великое чаяние: взойдя на престол империи, он должен стать спасителем языческого мира, восстановить религию многобожия во всем ее былом блеске. Юлиан не скрывал своего восторга перед почитателями эллинской мудрости. Стало быть, это не была утопия: эллинский дух молча совершал свое дело, подрывая устои христианской религии…
Юлиан возвратился в Афины, воспрянув духом, и был потрясен там нежданным известием: Констанций вызывал его в Медиолан! Подозрения сразу же пали на Евсевия. Конечно же, этот «проклятый андрогин» со своей кликой, не мог успокоится, пока Юлиан пребывает вдали от его сетей, подбил непрестанно подозрительного императора на принятие этого внезапного решения, несмотря на противодействия Евсевии. Но достигли ли слуха императора обвинения в тесных связях Юлиана с язычниками? Ведь и благочестивый христианин мог из любопытства принимать участие в Панафинейских торжествах. Однако присутствие там его, Юлиана, могло бросить тень на императора. В таком случае совсем необдуманным было его посещение Телестерия в Элевсине. И его путешествие на Пелопоннес. И разговоры, которые он вел в школе. И встреча с Приском. Юлиан не мог уснуть, думая о своих ошибках, совершенных за семь месяцев пребывания в Афинах. Какой тревогой он снова расплачивался за духовные наслаждения! О, это кошмарное напряжение, колебание между кажущейся свободой и угрозой казни, терзавшие его душу вот уже двадцать четыре года…