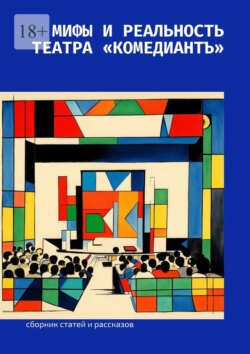Читать книгу Мифы и реальность театра «КомедиантЪ» - - Страница 6
Как я был комедиантом
ОглавлениеСцена из спектакля.
Алексей Тиматков
Предложение Алёны Чубаровой попробовать свои силы в театре в качестве актёра я воспринял как провокацию. Провокатором была не Алёна, это был очевидный метафизический вызов. Я с детства не любил театр, всё моё существо протестовало против этой экзальтации взрослых дяденек и тётенек, носящихся по сцене и симулирующих крайнее возбуждение. Условность театра всегда была для меня чрезмерной, я воспринимал его примерно, как Лев Толстой. Однако же, получив от Алёны предложение сыграть в спектакле труппы «КомедиантЪ», я, не раздумывая, согласился. Я подумал, что всё-таки театр – почтенное, древнее искусство, и то, что я его не понимаю, не делает мне чести. И ещё подумал, что, может быть, изнутри мне будет проще его понять, чем снаружи.
Поначалу я воодушевил себя иллюзорной (и, наверное, знакомой каждому дилетанту на этом поприще) теорией, что наверняка смогу сыграть роли какого-то определённого, подходящего мне по темпераменту плана. Алёна тоже, видимо, думала в этом направлении, потому что предложила мне роль «парня с гитарой», которого, вдобавок ко всему, еще и обозвали Лёхой. Но я быстро понял, что дело не в амплуа, не в аутентичной роли, а, напротив, в способности абстрагироваться от себя. Потому что, если думать о соответствии роли, если взыскательно примерять её на себя, то неизбежно вскроются какие-то несовпадения, нестыковки. И в таком случае «аллергия» неминуема, будет тесно и неуютно. Короче говоря, я понял, что играть себя в театральном коллективе в рамках некоей постановки невозможно, даже если этого хочет режиссёр. Память моя с некоторых пор сильно ослабла, поэтому, что и когда было, я восстановить толком не могу. Помню, как я впервые был на спектакле «Комедианта» в музее Маяковского и поразился их профессионализму (грешным делом, я ожидал увидеть что-то откровенно любительское). Помню моё первое посещение театра «Русский дом», где долгое время выступала труппа. Там я впервые поучаствовал в театральном действе – в качестве светотехника. Потом начались и репетиции с моим участием. Одна из первых репетиций проходила в литинституте, т.е. я, наверное, тогда ещё был проректором или только что перестал им быть. Я должен был по ходу спектакля (это было нечто вроде капустника) исполнить три своих песни (которые, на мой взгляд, слабо коррелировали с действием) и произнести несколько реплик. Самым трудным оказалось участие в заключительной сцене – сцене незамысловатого группового танца. Дело в том, что хореография была для меня ещё более чуждой и враждебной стихией, чем театр. Но я убедил себя, что раз уж даже плавать научился (незадолго до того), то и танцевать как-нибудь тоже смогу. Конечно, нужно поблагодарить коллег за доверие и терпение, проявленное ко мне. Кроме того, меня утешала общая бесшабашность постановки. А ещё подбадривало то, что я был не единственным любителем в труппе. В 2000 году театр ещё был полупрофессиональным. Интересно, что поначалу самым сильным актёром мне показался такой же любитель, как и я, – врач, чей приёмный кабинет располагался в том же здании, где проходили наши репетиции. Владислав играл продюсера певицы, которая, по сценарию, уходит от него к простым людям – обитателям коммуналки, где по прихоти этого продюсера снимают её клип. Его харизматические выходы из-за кулис со словами: «Стоп! Стоп! Никуда не годится!» – произвели на меня впечатление.
Ещё одним сторонним рекрутом был Сергей Хачатурьян, человек, которого я сразу узнал. Этот обаятельный тип, похожий на помесь Кисы с Остапом Бендером, а ещё больше – на окосевшего после какой-нибудь автокатастрофы Дмитрия Быкова, в начале 90-ых часто подходил к студентам, пьющим пиво после лекций на Пушкинской площади, с предложением сочинить стихи на заданную тему за умеренную оплату. В нашем спектакле он тоже играл самого себя – полоумного поэта-импровизатора (он действительно оказался недюжинным импровизатором – столь же редкий, сколь и невостребованный в наше время дар).
А вот и основные участники труппы: Саша Огородов, чей замечательный талант я оценил чуть позже; мужественный и обаятельный Лёня Климов; Нелли Ртвеладзе и Надя Александрова (тут я воздержусь от эпитетов, чтобы не ударить в грязь лицом) и, конечно, сиамские демиурги – Ирина Егорова и Алёна Чубарова.
Премьера состоялась в маленьком театре «Русский дом» на Сретенском бульваре. В фойе располагались игровые автоматы и бар (мне даже кажется, что это в первую очередь был зал игровых автоматов – с театром в нагрузку). Как всё прошло – судить не берусь, надеюсь, неплохо. Выходов у меня было немного, поэтому лучше всего я запомнил наше тараканье копошение в закулисном полумраке. А ещё более отчетливо помню финальное застолье. Прямо в зрительном зале, после того как его покинули зрители, было расчищено пространство, сдвинуты столы, и шампанское потекло рекой. Повторно мы играли в ЦДРИ, на той сцене, с которой я уже до этого пару раз читал стихи на поэтических вечерах. Это тоже считалось премьерой. Мы играли «Салон тёти Маши» ещё несколько раз (три? пять? семь?) *.
Хорошо помню выступление в Митино, на котором Хачатурьян своим преждевременным выходом на сцену произвёл потрясающий комический эффект. За кулисами у нас была форменная истерика. Потом была некоторая пауза (для меня), а в это время «КомедиантЪ» родил свою звёздную постановку о Маяковском в музее оного. Действие разворачивается непосредственно в музейных декорациях, публика вслед за актёрами от сцены к сцене перемещается по четырехэтажному зданию, наблюдая за жизнью поэта. Главную роль исполнил Геннадий Новиков – потрясающий актёр, признавшийся как-то, что Маяковским он прежде не интересовался, ему всегда ближе был Лермонтов. Мне показалось, что он сам (кстати, так и назывался спектакль: «Он – Сам») был удивлён неожиданной аутентичностью этой роли и вскрывшейся в нём «маяковскостью». Хотя не исключено, что это всего лишь мой домысел. Эта постановка поразила меня действительным, действенным разрушением границы между «сценой» и «залом», между актёрами и публикой – я ощутил ту первоначальную, площадную театральную стихию, какой она, наверное, была в Средневековье. Оказалось, что это очень близко к моей творческой стратегии «воинствующей беззащитности» – дистанция между актёрами и зрителями отсутствовала, физически отсутствовала, актеры невольно провоцировали зрителей на соучастие, что, вероятно, не раз приводило к импровизационным отклонениям от сценария. Я всегда воспринимал театр как «недо-кино», и этим он мне не нравился, а тут был сделан шаг назад, и дух первобытной, площадной, провоцирующей драматургии, атмосфера взаимозависимости актёра и зрителя оказались мне гораздо более внятны и близки.
Так «КомедиантЪ» нашёл свою нишу – биографические постановки в музейных декорациях. После шумного успеха «Маяковского» труппе предложили сделать нечто подобное в музее Высоцкого. В этом спектакле я вновь был задействован. До сих пор донашиваю реквизиты: на всех участников в соответствии с индивидуальными размерами были куплены одинаковые чёрные штаны и серые свитера. В сценарии я, честно говоря, ничего не понял. Возможно, потому, что он был насквозь ассоциативно-интертекстуальным и апеллировал к малоизвестным произведениям Высоцкого, а также включал в себя аллюзии к Брехту и ещё Бог весть к кому.
Но к этому времени я уже усвоил, что актёру не обязательно знать интеллектуальную подоплёку действа, в котором он участвует; он, как Стаханов, должен «выдавать план» на своём участке, а вдаваться в глобальность «социалистического строительства» ему не обязательно. Спектакль начинается с «гитарной дуэли» меня и Григория Эпштейна (тоже колоритная личность – поэт и скрипач). Наверное, это была своеобразная метафора раздвоенности и противоречивости Высоцкого, впрочем, ни я, ни Григорий ничуть не походили на оригинал. А потом мы все (всемером) носились по сцене, периодически скрываясь за «занавесом» шириной в метр (скрыться за ним было нелегко), а, выбегая, изображали то дельфинов, то питекантропов. В общем, было весело. Один или два раза мы даже играли «Моего Гамлета» на малой сцене Таганки**. Таким образом, я, дилетант и любитель, постоял на одной из самых престижных театральных сцен страны.
Театр я, по большому счёту, так и не полюбил и не понял, но не сильно переживаю по этому поводу. Общение с настоящими, талантливыми людьми – даже если их верования и занятия тебе ничуть не понятней верований и занятий папуасов – всё равно оставляет чувство не напрасно прожитого, наполненного жизнью времени. Короче говоря, спасибо «Комедианту» за яркие эпизоды моего светлого прошлого!
* «Салон тёти Маши» действительно игрался всего 7 раз с февраля по ноябрь 2001 г.
** В первом отделении «Он – Сам», адаптированный к традиционному сценическому пространству, во втором «Мой Гамлет» под общим названием «В запасе вечность» шли в помещении Театра на Таганке.