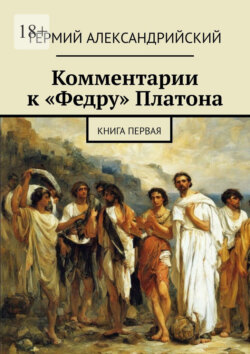Читать книгу Комментарии к «Федру» Платона. Книга первая - - Страница 7
Введение
Сократ в «Комментарии к Федру» Гермия Александрийского
ОглавлениеФигура Сократа играет важнейшую роль в «Комментарии к Федру». Нам показалось полезным провести подробный анализ этой известной и загадочной фигуры, чтобы взор мог беспрепятственно созерцать этот портрет На самом деле, есть одно необычное обстоятельство: хотя «Комментарий» является неоплатонической экзегезой на диалог Платона, он, тем не менее, содержит столько замечаний о Сократе и его деятельности, что, сознательно собрав их, можно получить настоящий маленький трактат о платоновском учителе, что еще более необычно, если учесть, что «после Плотина ранние неоплатоники, такие как Порфирий и Ямвлих, также остаются относительно безмолвными по отношению к Сократу». В результате «Комментарий», с этой точки зрения, является привилегированным текстом, поскольку, более чем другие неоплатонические произведения, он проясняет состояние, увековеченное в личности Сократа, некоторых высших душ и, прежде всего, отношения последних с другими, более многочисленными душами, согласно учению Ямблика. Как мы сразу же увидим, душа Сократа имеет онтологический статус sui generis и поэтому заслуживает особого анализа.
С самого начала «Комментария» на первый план выступает фигура Сократа:
«Сократ был послан в мир становления на благо человечества и юных душ [{o} Σωκράτης έπι εύεργεσία του των άνθρώπων γένους και των ψυχών των νέων κατεπέμφθη εις γένεσιν]».
Это начало комментария Гермия. Душа Сократа обладает привилегированным онтологическим статусом, поскольку она не погрузилась в разумное, но была послана (κατεπέμφθη) в разумное для выполнения спасительной миссии. Мы хотим показать, что, с одной стороны, за Сократом Гермия стоят образы Сократа из «Апологии» Платона и Пифагора из «Пифагорейской жизни» Ямблиха, а с другой – что Гермий прочитывает трех персонажей, оживляющих диалог Платона (Сократ, Федр, Лисий), в свете духовной троичности Ямблика (De an. 29—30 Martone, De myst. 5, 18 S.-S.-L.).
Прежде всего, поскольку, согласно платонисту, душа свободно выбирает свою судьбу, было бы недопустимо представлять ее присутствие на Земле как отправление, установленное другими, как предполагает заявление Гермия. Тем не менее, один отрывок из «Апологии» сделал формулировку Гермия об отправке Сократа на Землю несколько правомерной, на наш взгляд. Это знаменитая строка из «Апологии», где афинский философ обращается к аудитории, говоря, что афиняне никогда больше не узнают никого, подобного ему, если только бог, заботясь о них, не пошлет снова кого-нибудь другого (εί μή τινα άλλον o θεoς ύμίν έπιπέμψειεν κηδoμενος ύμων). Этот отрывок интересен по крайней мере в трех отношениях.
Во-первых, глагол, используемый Сократом, έπιπέμπω, оправдывает гермианский вариант, καταπέμπω, предоставляя прецедент, который можно использовать в битве на минном поле самоопределения души. Во-вторых, отрывок из «Апологии» помогает заполнить загадочный пробел в комментарии, образовавшийся из-за туманного отсутствия агентивного дополнения к глаголу κατεπέμφθη: это бог послал Сократа в мир становления. Таким образом, если в «Апологии» бог, о котором идет речь, – Аполлон, то, по крайней мере, правомерно предположить, что и в «Комментарии» неизвестный бог – Аполлон. Наконец, как в «Апологии» о боге говорится, что он «заботится» (κηδoμενος) о людях, так и в «Комментарии» о Сократе будет сказано, что он κηδεμών для молодых или, проще говоря, для молодого Федра34; таким образом неоплатоник переносит качество бога на того, кто ему подчиняется.
В конце античности связь с богом Аполлоном была хорошо известна в случае с Пифагором: об Аполлоне даже говорили, что он его отец. Хотя Ямблик и отвергает этот тезис, он утверждает, что имя Πυθαγoρας происходит от имени Πυθίος, поскольку о его рождении родителям возвестила пифия. Действительно, в «Пифагорейской жизни», первой из десяти книг, составляющих пифагорейскую «Сумму», философ с острова Самос попеременно представляется то как сам Аполлон в человеческом облике, то как высшая душа, пришедшая на землю. В беседе со скифом Абарисом, жрецом гиперборейского Аполлона, Пифагор утверждает, что пришел на Землю <έπι θεραπεία καί εύεργεσία των άνθρώπων>. Кроме того, Ямблих добавляет, что душа Пифагора была послана из процессии душ, следовавших за Аполлоном: καταπεπέμφθαι είς άνθρώπους. Глагол, используемый Ямблихом для обозначения отправки на Землю души Пифагора, – это точно такой же καταπέμπω, которым Гермий обозначает отправку в мир становления души Сократа. И как Пифагор говорит Абарису, что он пришел έπί θεραπεία καί εύεργεσία των άνθρώπων, так и Гермий говорит, что Сократ был послан έπί εύεργεσία του των άνθρώπον γένους: Поэтому неудивительно, что в «Комментариях» также есть несколько ссылок на θεραπεία Сократа, по примеру Пифагора.
Хотя влияние Ямблиха на «Комментарий» очень важно, как мы увидим далее, однако не следует упускать из виду следующий факт: конечным источником неоплатонических формулировок всегда является неоплатонических формулировок всегда является собственный текст Платона.
В данном случае это соображение справедливо не только для темы «отправления» на Землю, для которой неоплатоническая καταπέμπεσθαι находит свои корни в платоновском επιπέμπειν, но и для темы «εύεργεσία, которая также уходит корнями в «Апологию», ибо Сократ заявляет там, что он оказал каждому из афинян наилучшее, по его мнению, благодеяние: έκαστον ιών εύεργετεΐν τήν μεγίστην εύεργεσίαν.
Следовательно, Гермий, посредством «Пифагорейской жизни Ямблиха», использует «Апологию Сократа» гораздо более значительным образом, чем, например, Олимпиодор, извлекая по крайней мере три фундаментальные темы для окраски своего «Сократа»: 1) ниспослание на землю божества; 2) вечная и терапевтическая функция; 3) природа κηδεμονική. Это важный аспект, поскольку «Апология Сократа» не играла центральной роли в других неоплатонических комментариях.
Наряду с этим аспектом необходимо сразу же упомянуть и второй теоретический узел. На наш взгляд, комментарий к Гермию отражает и актуализирует в фигурах Сократа, Федра и Лисия психологическую теорию Ямблиха, которая появляется в De anima 29—30 Мартоне. Иными словами, Сократ представляет класс чистых и непорочных душ, которые, спустившись для спасения, очищения и совершенствования других душ39, сохраняют связь с умопостигаемым, создавая впечатление, что они никогда не спускались в чувственное; Федра представляет класс душ, которые спускаются для самосовершенствования и которым, как говорит Myst. 5, 18, нуждаются в проводнике (Сократе) для этой цели; наконец, Лисий представляет класс душ, полностью запутавшихся в разумном, тем самым увеличивая стадо Myst. 5, 18 (άγέλη), на которое Гермий делает точную аллюзию41. Таким образом, нам кажется возможным выдвинуть гипотезу, что это обстоятельство не в последнюю очередь побудило Ямвлиха поставить «Федра» на первое место в curriculum studiorum, то есть в Писании эллинизма: ведь помимо раскрытия посредством палинодии Сократа самых возвышенных теологических понятий, этот диалог пластически представляет собой, с помощью трех оживляющих его персонажей, практическую демонстрацию теоретической концептуализации психологии Ямвлиха. Кроме того, тот факт, что ямбликовская лексика De an. 29—30 глубоко обязана палинодии Сократа, заставляет нас предположить, что Ямвлих видел в» Федре» не только лексический резервуар, полезный для его теоретизирования, но и, прежде всего, его инсценировку. Как справедливо заметил Андре Мотт, в «Федре» Платон излагает теории (о любви, душе, риторике и т. д.) и в то же время ставит их на сцене: на наш взгляд, Ямвлих, а вместе с ним и Гермий, в равной степени осознавали этот аспект. Более того, такое прочтение полностью соответствует неоплатонической философии, согласно которой платоновский диалог, как и космос, подобен саду, в котором обитает множество живых существ. В частности, на наш взгляд, очень полезно поставить рядом ямблихейскую экзегезу In Phaed. fr. 5 Диллона и экзегезу Гермия из In Phaedr. fr. 35, 1—4 :
«Как Ямвлих говорит противоположное о тех, кто был восстановлен в состоянии совершенства? Должны ли мы сказать о них прямо противоположное, что они никогда не спускаются […] в силу формы их жизни, которая создает спуск, не предполагающий порождения и никогда не разрывающий связи [άδιάκοπον] с высшим царством».
«Что касается города и привычки Сократа никогда его не покидать, то это показывает, что он всегда привязан [άει εχεσθαι] к своим принципам, и к надлежащим причинам, и к умопостигаемым существам, и к богам, к которым он принадлежит».
Связь άδιάκοπον с умопостигаемым, формализованная Ямвлихом в ответ на двусмысленный пассаж в ««Федоне» и в самом «Федре, символизируется Гермием посредством сократовской привычки никогда не покидать город, который представляет умопостигаемое. Плотиновская συνάφεια с умопостигаемым, гарантированная, согласно Проклу, учением о нисходящей душе, разрешается именно в связи άδιάκοπον, постулируемой Ямвлихом и признаваемой Гермием за Сократом, представителем «tipo antropologico più elevato». Кроме того, интересно отметить, что в момент разговора с Федром Сократ находится за стенами города, поскольку чистые души, согласно концепции Ямвлиха, отправляются из умопостигаемого (город Афины, у Гермия) в умопостигаемое (за стены Афин, опять же с Гермием), чтобы спасти, очистить и усовершенствовать души второго сорта, символизируемые Фаэдрой, которые находятся в разумном (опять же, за стенами Афин), чтобы улучшить и исправить себя (Фаэдра покидает стены, чтобы прогуляться и освежиться). В свете такого прочтения можно понять обоснование инициационного характера экзегезы Гермиана, который признает в платоновском диалоге, в конечном счете, подлинное руководство по инициации, в центре которого – духовное очищение и прогресс: Сократ, чистая душа, послан божеством за стены, чтобы спасти Федру, промежуточную душу, от пагубного влияния Лисия, трусливой души.