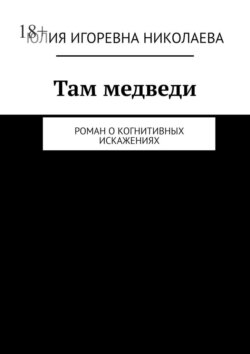Читать книгу Там медведи. Роман о когнитивных искажениях - - Страница 2
ОглавлениеБабаня вышла на охоту.
В Квакшине на ночь закрывают окна. И когда раздаются знакомые звуки – тоскливое волокущее дребезжание, как будто тащат кого-то по асфальту зубами вниз, и эхо шаркающих шагов отдается от стен наглухо зашторенных домов, все знают: Бабка Аня вышла на охоту. И дураков нет подсмотреть, как вдоль черных стволов, тычущих в небо злыми обкорнанными ветками, вдоль влажной, белой, как свежий березовый спил, луны по главной улице города ковыляет ее черная тень.
Кто она и чего ей надо? Дожили ли до утра те, кто рискнул спросить? Никому не интересно знать.
В общем, реальность скучна и безысходна, как пробка на выезд из Москвы в летнюю пятницу, и лишь воображение способно добавить красок по-квакшински серым будням.
Квакшин, надо сказать, так себе городок. Будучи построен для государственной цели – поддержании в непроходимом состоянии дремучих пограничных лесов, он захирел примерно лет пятьсот назад, когда границы государства передвинулись. Леса при этом остались исправно дремучими. Да и не только леса.
Живописные виды с оврагов на реку Квакшу, 10 церквей, ДК, 2 памятника и три по-настоящему заасфальтированные улицы – делать в городе было решительно нечего еще тогда, когда пытались, а уже давно никто и не пытался. Даже ретивая советская власть, продравшись сквозь крапиву и репей, ничего принципиально не изменила.
Очарование заросшего пруда имеет своих поклонников. Не это ли истинный дзен, спрятанный в лопухах мирских хлопот, остров блаженной безнадеги в мире ничего-не-происходящего?
В общем, жизнь, сконцентрированная вокруг телевизора – удел многих, но у квакшинцев было хотя бы веское оправдание: Квакшин. «Богатые тоже плачут» не потому, что у них что-то случилось, а потому, что в квакшинах не случается ровным счетом ничего, что может затмить телевизор.
Во всяком случае, так обычно думают о квакшинах и квакшинцах.
И возможно, так оно и есть.
Корм с любым вкусом
На кухню влетел Папаня – до работы его подвозил друган, работающий экспедитором, и эту оказию папаня очень ценил, потому боялся опоздать. Влетел, поднял шум – от неожиданности Маша проглотила пятый оладушек, который есть совсем не собиралась. Со сгущенкой, горестно вздохнула Маша и решила сегодня не есть хлеб. Или даже до конца недели.
Бабаня поморщилась и сделала телевизор погромче. Из глубины квартиры на всю мощь орал второй, но Бабаню это никогда не останавливало.
По телевизору говорили о краже опытной установки по производству корма для человека.
Очень взволнованный человек, подписанный внизу экрана как старший научный сотрудник лаборатории, испуганно таращился на ведущего утренних новостей и вздрагивал от каждого вопроса.
– Сам, небось, и украл!, – неожиданно рявкнула Бабаня. Маша с папаней переглянулись: Маша закатила глаза, папаня добродушно пожал плечами. Оба промолчали.
«Итак, вы говорите, что это был самый перспективный проект вашей лаборатории, – говорил ведущий.»
– А?, – научный сотрудник на глазах покрылся красными пятнами, как будто услышал Бабанин комментарий.
– Это не моя лаборатория!, – визгливо вырвалось у него. Ведущий сверлил его невидящим взглядом, как будто считал про себя до 10, чтобы удержать себя в руках. На счете «пять» у него на лице даже образовалась какая-то мимика, как будто отходила заморозка после стоматолога. Он улыбнулся.
– А установка Ваша? Проект-то Ваш был? Расскажите про него, пожалуйста, – и ведущий осел в кресле, готовясь слушать.
Научный сотрудник начал рассказывать: установка должна была произвести переворот в питании. Загружая туда любое сырье, в котором есть углеводы, жиры и белки, установка перерабатывала сырье в аккуратные подушечки корма. Можно было настроить, какое соотношение БЖУ требовалось, установка расщепляла продукты и собирала нужную комбинацию.
– БЖУ?, – встрепенулся ведущий
– Белки, жиры и углеводы, – пояснил научный сотрудник.
– А вкус? Витамины? Клетчатка? Еда – это же не только, как Вы говорите, БЖУ, – уточнял ведущий.
– Витаминизировать, ароматизировать, придать вкус – все это можно было в настройках сделать.
– Что получалось на выходе-то? Мне представляется какой-то собачий корм, – ведущий уже не свисал расслабленно со стула. Ему действительно стало интересно.
Гостю программы тоже уже было интересно, он раскраснелся от тщеславного удовольствия эксперта, которого показывают по телевизору и спрашивают про то, о чем он знает больше остальных.
– Миру интересны новые продукты питания, новые подходы, оптимизация. Soylent, похожий на детскую смесь, например, придумал какой-то айтишник в Силиконовой долине. Это такой питательный порошок, его водой разводят. Его уже можно купить в магазинах. По крайней мере, в Силиконовой долине.
А наша установка умеет делать вкусную полезную еду из любого сырья.
– Умела, – не сдержался ведущий утренних новостей.
Гость программы потускнел. Пошла реклама.
– Машка, школа!, – ахнул Папаня, и, чертыхаясь, усвистел на работу.
Маша задумчиво смотрела на последний оладушек. Ей его хотелось, но если она его сейчас съест, ей придется есть потом себя за то, что у нее нет никакой силы воли.
Бабаня, таращась в экран, подцепила оладушек вилкой, и Маша проводила его печальным взглядом. В конце концов, все к лучшему же, а? Нет оладушка – нет проблемы, решила Маша и стала убирать со стола.
Бабаня, как обычно, ничего не заметила.
***
По дороге в школу Маша размышляла об украденной установке: а если напихать туда крапивы и кузнечиков, это БЖУ? А как ее могли украсть, она же, небось, огромная?
И зачем ее украли? Чтобы люди голодали? Чтобы пользоваться самим в силиконовой долине?
Думать про школу скучно. В мире школ заканчивалась последняя четверть, а это означало невменяемое количество контрольных. Апрель в восьмом классе любимым месяцем у Маши не значится, хоть и скоро лето. Ну и что, что лето? Тоска школьная сменится тоской садово-огородной, пыльной, душной – скушной. Зеленая, зеленая тоска.
Маша поправила лифчик – лямки либо врезались в плечи, либо соскальзывали, никак не получалось отрегулировать, тяжело вздохнула и нырнула под липу, растущую у школы.
Пушкина, 13
Когда в Квашине асфальтировали улицы, одна досталась Ленину, другая Пушкину, а на третьей – Советской – стояла школа. Все они сходились в небольшую, но Центральную площадь, где по воскресеньям был рынок, по субботам свадьбы, а в остальные дни площадь была выходная.
За спиной у типового ДК 60х годов постройки толпились учреждения, без которых город – не город, а одно название. Да, впрочем, и с ними тоже.
Главгорпочтамт, Гороно, Горгаз, Гордез, Главгорсобес и прочие Горглаввсё были распиханы по каменным домам дореволюционной и самой революционной (то есть 90е) постройки, которых в городе сохранилось семь с половиной штук.
А Пушкина, 13 был симпатичным голубым почти особнячком. Таким маленьким, что он не выпирал из ряда потемневших солидных бревенчатых домов улицы. К тому же, липы, тополя, сирень и шиповник здесь так разрослись, что скрывали строения не хуже заборов. Даже не сразу понятно, жив дом или просто каким-то плющом оброс обгорелый домов труп?
И где тут вход? И живут ли здесь вообще?
В Пушкина, 13 сто лет не жил никто, в нем работали. На калитке висел почтовый ящик с чертовой дюжиной, более никаких опознавательных знаков не было. Снаружи не было, а внутри были: были кабинеты, столы, пара старых кожаных диванов, шкафы и папки. И чай здесь наливали в стаканы, горяченный, непроглядной черноты. Чтобы не обжечься, в ходу были подстаканники.
Свеже построенный симпатичный домик был конфискован у не в меру ретиво разбогатевшего купца в 1897 году по навету и достался «царской охранке». С тех пор в доме ничего, в сущности, не изменилось.
Местных среди сотрудников не было.
Олег Анатольевич скривился и встал закрыть окно. Из приоткрытой форточки доносились неприятные, лязгающие звуки: по улице ползла бабка и волокла старую доску.
Листва еще не раскрылась достаточно, чтобы прятать домик от квакшинцев, а квакшинцев от обитателей домика, поэтому Олег Анатольевич мог детально бабку разглядеть. Но не хотел.
Он вернулся к посланию на экране компьютера. Ничего особенного в этом послании не было. Написанное адским канцеляритом, работающим лучше любого шифра, оно взывало адресатов к бдительности и напоминало о долге перед отечеством.
И, увы, в нем не было ни слова о повышении, хотя бы жалованья.
Олега Анатольевича очень интересовало повышение. Он оказался в Квакшине потому, что мог далеко пойти, «но ему не дали» (по его собственному мнению). Он, правду сказать, очень заблуждался на этот счет: начальство выло от его ретивости и надеялось, что надежно «утопило» его в квакшинских болотах. В Квакшине Олег Анатольевич сидел уже пятый год.
Письмо показалось ему поводом заявить о себе. Требовалось что-нибудь «раскрыть», кого-нибудь «закрыть», «всплыть» и нацелиться уже на карьеру и Москву.
«Найди Данилыча и к часу оба ко мне», передал Олег Анатольевич по внутренней связи.
Алёша написал Данилычу в What’sApp, что начальник ждет их в 13:00 и вернулся к описаниям моделей спиннингов. Скоро лето, отпуск, начальник, небось, объявит о командировке, и на работу можно будет вовсе не ходить.
Знает Алёша, что у начальника за командировки – большой он любитель по женской части.
Романы им здесь заводить не рекомендуется, вот он и шляется по «командировкам».
Данилыч появился вовремя и пах плесенью, из чего Алеша заключил, что Данилыч сидел в подвале.
Подвал был рожден, чтобы стать винным погребом: глубокий и вместительный, кажется, даже площадью больше дома. И глухой – ори-не ори, никто не услышит. Этим он и понравился царской охранке в свое время. Так погреб обрел иную судьбу.
Квакшинские застенки славились и в 20е и позже. Говорят, в райцентре до сих пор есть поговорка: «дело глухо, как в квакшинском подвале». Сейчас в подвале находился «архив» – во всяком случае, так было написано на двери в подвал. Там хранились бесконечные ряды старых папок с делами: склеенные насмерть плесенью – не открыть, с размытыми чернилами – не прочитать. Хранились и потихоньку самоутилизировались.
Олег Анатольевич был на удивлении бодр и энергичен, Алеша с Данилычем аж оторопели маленько при входе, стараясь не переглянуться недоуменно – мол, чего это его так разобрало?
А Олег Анатольевич себя накрутил и теперь был в ударе. Он вещал о том, что из Центра пришла депеша с намеком, что в Квакшине что-то затевается. Что от них требуется решительная деятельность. Что это вопрос жизни и смерти государства, и вопрос престижа и признания квакшинского отделения (вот тут стало совсем трудно не переглядываться – честолюбие начальника было общеизвестно).
После пламенной и воодушевляющей (по мнению Олега Анатольевича) речи приступили к мозговому штурму.
Итак, «в Центре» хотели громкого дела в Квакшине и они должны это дело создать. Если покопаться, всегда найдутся люди, замышляющие «контру» – на том стоит голубой особнячок со всеми своими подстаканниками уже второй век, а значит, так оно и есть.
Подпольщики и заговорщики везде, стоит только прищуриться и посмотреть вокруг «особым взглядом». На этом моменте форточка распахнулась от порыва апрельского ветра, неожиданно и эффектно, и внимание присутствующих переключилось на прохожих. Из прохожих в наличии имелась только бабулька, бодро ковылявшая по улице.
На мгновение Олег Анатольевич задался вопросом, та ли это бабка, что тащила доску, или другая? Все они тут одинаковые, оборвал он свои мысли, но тут прилив вдохновения вместе с апрельским ветерком проник и в него и, тыкая пальцем в окно, он начал говорить о том, что «вот такие бабки» могут скрывать очень важные для Центра тайны. Быть сторонниками, укрывателями террористов и тайными агентами.
– Может, поищем кибер террористов?, – лениво прервал начальника Данилыч., – и до лета бы хорошо управиться.
Данилыч был лицом удивительным. Он был здесь, кажется, всегда, как подстаканники, шкафы и папки. На рынке, глядя на него, думали, что он лесничий или охотник: на глаза местным он попадался мало, двигался бесшумно, выглядел неказисто, таскал с собой ружьишко и тем легенду о себе в городе грамотно подкреплял.
Его личное дело Олег Анатольевич так и не нашел, но признаваться в этом было не с руки (быть же не могло, что Данилыч никакой не сотрудник вовсе, верно?), зарплату Данилычу исправно перечисляли (по приличному такому рангу), поэтому Олег Анатольевич с Данилычем держался вежливо и старался лишний раз его не трогать.
– Отличная идея, Данилыч!, – Олег Анатольевич снова воодушевился, – надо проработать несколько разных направлений, потом выберем самое перспективное. Какие еще будут предложения?
Сразу стало тихо и скучно. Муха проснулась и жужжала в закрытое окно, просилась гулять.
Алеша предложил всем выпить чаю, но его предложение Олег Анатольевич не принял, сверкнул глазами сердито и дополнил список стандартным пунктом: подростки – вредные призывы, неправильное поведение, угрозы.
– А что могут бабки?, – Алеша вспомнил про давешний пример Олега Анатольевича.
А может, увидел бабку сквозь колышущуюся перед окном сирень. Скоро расцветет, тихонько подумал Алеша.
– Да откуда ж у нас бабки?, – начал было Олег Анатольевич, но вовремя всё понял и сменил пластинку.
– Вот теперь молодец, бдишь!, – порадовался Олег Анатольевич и внес бабок третьим пунктом., – в общем, действуем так: Алеша сходит к ментам и узнает, что у них творится. Подростки, буянящие бабки, торчки. Данилыч повызнает про студентов и приезжих, может, айтишники какие кибер террористят у нас под носом. И про бабок не забываем. В пятницу устные отчеты по всем пунктам, а я в командировку.
Алёша и Данилыч не хмыкнули и не переглянулись. Орлы!
Олег Анатольевич был воодушевлен и так доволен собой, что его Наполеон Великий радостно возился и щекотался в штанах, как щенок. Олег Анатольевич с нежностью подумал, обращаясь к нему: – мы с тобой заслужили повеселиться, это верно, дружочек. Сейчас же и поедем!
Ню и что?
У входа в школу толпились мальчишки. Маша стояла с видом самым незаинтересованным, отчаянно надеясь встретиться глазами с предметом своих романтических воздыханий, но предмет учился в 10 классе и у входа пока не толпился.
А вот мальчишки двинулись к ней, размахивая желтоватой бумажкой.
Маша повела глазами в стиле «кругом одни идиоты»: она знала, что может быть на такой бумажке. Рисунок голой женщины, спасибо Николеньке.
– Никулова опять позировала!, – гоготали мальчишки и тыкали ей в лицо бумажкой.
Нарисована была брюнетка, и это единственное, что сближало Машу с голой женщиной.
Мальчишки уставились на Машу жадными глазами, сверяя рисунок «с образцом», фонтанируя комментариями и глупыми непристойными идеями. Было очень неприятно и скучно.
Маша с тоской устремила взор за школьную ограду. Вот опять Бабаня доску тащит. И где она их берет только? Навязчивая затея Бабани собрать досок на новый дом была, в общем, безобидной, так как Бабаня доски тырила из домов заброшенных. Но все же ей было уже хорошо за 80, и грабить заброшки в таком возрасте вряд ли полезное занятие.
Надо Папане сказать, чтобы поискал, куда она их складывает, ведь куда-то же она их складывает? Не таскает же она одну и ту же доску (как будто выгуливает, – мысленно улыбнулась Маша). Таскать доски в квартиру Бабане настрого запретили.
Проводив Бабаню глазами (та свернула на Пушкина), Маша вдруг встретилась взглядом с невысоким дяденькой, который выглядел таким приезжим и новеньким, что удивленная Маша уставилась на него самым неприличным образом.
В Квакшине мужчины были, как и везде, разные. Однако все они замечательно вписывались в квакшинские пейзажи – пыльные летом, промороженные зимой, неизменно наводящие тоску и мысли о пьянстве и широте русской души.
Правда, не на Николеньку. Николенька, Машин друг, из-за которого она терпела слюнявые тестостероновые излияния мальчиков, был другой. У него все было красивое.
Он мог в любой момент зависнуть, разглядывая урну у входа в магазин, или пялиться на стену, где художественно облезала старинная штукатурка. Дружить с ним из-за этих его залипаний было сложновато, но зато он объяснял, как надо смотреть на людей внимательно, по-живописному.
Мужчина был живописен и вопиюще чужд Квакшину, как будто его вырезали из новой глянцевой обложки, чтобы наклеить в качестве кулинарного рецепта в старый отрывной календарь. Он бы из него, календаря, торчал.
Например, на нем был кожаный пиджак. Светло-коричневый. Этого вполне достаточно, чтобы смутить любого квакшинца и буквально заставить на себя пялиться. А у него еще и шарфик был темно-красный, что в Квакшине выглядело как карнавальный костюм. Даже немного неприличный. Не удивительно, что тетка, торгующая семечками, вылупилась на него с открытым ртом.
Мужчина (это был только что приехавший Бунин) с досадой смотрел на ошарашенную тетку и мысленно ругал себя на все лады, что выбрал слишком броский вид. Образ режиссера итальянского или французского кино из 80х оказался непонятым. Он бегло осмотрел площадь, мысленно отступая. И тогда он встретился глазами с Машей.
Девочка смутилась до пунцовых пятен на щеках, и Бунин мысленно приосанился. Однако, смущение предназначалось вовсе не ему. Девочка смотрела на подходящего к ней белобрысого увальня с желтым листком в руке. Перебросившись с увальнем парой фраз, она вдруг ринулась в школу со всех ног. Мысленно усмехнувшись (над собой? над ней? над прыщавым юнцом, похожим на теленка?), Бунин исчез из ее головы.
А вот с площади исчезнуть Бунину было уже сложнее. Он должен был поселиться в местной гостинице, но она оказалась «закрытая по причине ремонта», как было напечатано на бумажке, прилепленной к входной двери. Без бумажки, впрочем, было видно, что гостиницу стоило закрывать ради сноса, так как никакой ремонт ее спасти был не способен.
Бунин постоял перед бумажкой, разглядывая пыльные темные окна (как минимум два – еще целых), осмысливая происходящее.
Ведь если в Квакшине вас никто не ждет, значит, вас сюда не звали. А если вас в Квакшин не звали, стало быть, и делать вам тут нечего, убирайтесь-ка подобру поздорову. Бунин ушел поглубже в тень бывшей гостиницы, чтобы тетка на площади, продающая семечки, больше не могла его видеть. А то она разглядывала его так, как будто составляла фоторобот.
Машину Бунин предусмотрительно оставил на заправке перед въездом в город, где он чуть позже и развернул оперативный штаб по поиску квартиры. Поиски показали, что в Квакшине жилье никто не сдает, других гостиниц поблизости на Яндекс-картах не значилось. Высвечивались какой-то ведомственный дом отдыха и женский монастырь. Бунин попытался представить, как он будет звонить Ермилычу по поводу пристройства в женский монастырь и внутренне содрогнулся. Или усмехнулся, что для его мимики было примерно одно и то же.
Пришлось решиться на отчаянный шаг и обратиться к работнику заправки, курившему с каким-то дальнобойщиком. Дальнобойщик предложил подбросить Бунина до гостиницы чуть дальше по трассе, которую «интернет просто пропустил». Работник заправки тоже неуверенно кивнул, мол, есть там гостиница, вроде. Сам-то он в ту сторону не ездил, а что она на картах не высвечивается, так ведь сам Квакшин тоже не то, чтобы очень на картах высвечивается.
В Бунине интересно сочетались решительность и опасливость. Он решительно опасался влипнуть в неприятности, но нужно было как-то устраиваться, и Бунин последовал за этим белёсым и грязноватым мужичком, который назвался Витьком. Тогда Бунин назвался Саньком и внутренне хохотнул. «Витёк» тоже хохотнул, и они полезли в кабину огромного рефрижератора, где большими буквами было написано «в кабину попутчиков брать запрещено категорически».
«У меня камера заклеена», – подмигнул Витёк. И поехали.
Научные достижения
Папин любимый вопрос – «ну и какие у тебя сегодня научные достижения?».
Достижения сегодня были скромные – трояк вот, по географии. Неприятный трояк, теперь у нее получится что-нибудь типа 3,9 в четверти, а ведь было же недавно 4,4. Сраная мерзлота – ее проходили осенью, зачем в апреле-то про нее спрашивать? Сегодня вот вполне тепло уже, и не до мерзлоты.
Маша была дома одна, Бабаня где-то таскается, родители на работе. Маша расстегнула лифчик, проскользнула под одеяло и достала спрятанный в кровати оргазмячик. Это было ее изобретение – Машу зацепила шутка, которую она услышала то ли от мальчишек, то ли в женской раздевалке, что, мол, если Маша Полстенко сядет попой на теннисный мячик, «он там просто пропадет», а у Полстенко будет множественный оргазм.
Речь шла о «второй Маше» в классе, которая действительно обещала вырасти в мощнейшую бабищу. На ее фоне нашу Машу, хоть она тоже не была стройняшкой, дразнить было уже неинтересно, поэтому Маша была Полстенке даже немного благодарна. Как будто та принимала весь огонь на себя.
Как-то в гостях у дяди Вити, папиного друга, Маше попались на глаза небольшие мячики, с которыми играли дети, она вспомнила шутку и умыкнула один. Для экспериментов.
Маша засунула мячик в трусы так, чтобы он лег точно в гнездышко у попы, и начала раскачиваться, изгибаясь. Руками Маша опиралась на кровать, сосредоточилась на ощущениях, меняя направление и силу покачиваний. Она уже умела кончить быстро или, когда надо, тихо, чтобы ни единого звука не доносилось до спящей Бабани.
Это был ее не первый мячик: она экспериментировала с мячиком для настольного тенниса (не продержался и минуты, потому что полый) и даже действительно пробовала теннисный (слишком большой и ворсистый). Этот мячик был идеальным по размеру, упругости и мягкости. Маша его нашла в зоомагазине.
Внутрь его засовывать было не надо (да и не вышло бы), мячик ласково массировал Машину про нежность, и Маша могла заниматься этим часами. Ну, может, не часами, но полчаса-то точно.
Хлопнула входная дверь, и возбуждение просто выключилось, как будто перегорели пробки. Бабаня прошаркала на кухню и врубила телек.
Маша застонала от злости, сбитая с прицела за пару секунд до оргазма. Когда она уже, наконец, сможет просто побыть одна?
У нее никогда не было собственной комнаты, она делила комнату с Бабаней и раздражалась на нее из-за этого, но смерти ей не желала. И не по доброте душевной, а потому, что в двушке они жили впятером, и если бы Бабаня освободила свою кровать, то место досталось бы Бабуле.
Сейчас Бабуля старалась подольше жить на даче, в летнем домике, куда она перебиралась с первыми лучами весеннего солнца и до самых холодов. Зимой Бабуля спала на кухне.
А еще Машу пугала мысль о том, что однажды Бабаня умрет во сне, и Маша будет с ней мертвой в одной комнате спать, не зная об этом.
А если Бабаня начнет хрипеть и содрогаться ночью, а проснется только Маша? Нет, Маша определенно не желала Бабане смерти, ее храп даже успокаивал.
Правда, когда Бабане приспичивало по ночам кочевать по всему городу, та возвращалась под утро и будила весь дом. Или Машу.
Но на Бабаню не было никакой управы. Она уже несколько лет жила словно в другом измерении или параллельном мире, оставаясь видимой остальным, скорее, формально. Она говорила резко, грубо и зло, во всем и во всех видела и подозревала плохое, но обычно была грязновата, молчалива и задумчива, с сердитым видом готовила оладьи и варила суп. От нее пахло плесенью и ветошью, старым деревом – так пахла ее добыча.
Мама время от времени говорила Папане и Бабуле (точнее, орала во время своих скандалов), что бабку нужно сдать в дом престарелых, что она газ оставит – дом взорвет или прирежет кого, потому что у нее сенильный психоз или деменция, «ей на работе так и сказали». Обычно, после этого мама хлопала дверью и гордо уходила «к родителям».
Хватало ее примерно на неделю, так как спать матери приходилось на диване в зале, где ее отец любил смотреть допоздна футбол в компании пива и воблы.
Потом мать возвращалась, Бабаня оставалась и все продолжалось, только Маша становилась все старше и старше, и квартира ей казалась все меньше и меньше.
Еще минуту назад весь мир сузился до рождающейся сладкой теплой дрожи, а сейчас набухал горькой злобной обидой на весь свет. Гормоны, мать их за ногу. И старые бабки.
***
Бабаня шуровала на кухне, грохоча сковородками и посудой. Маша сделала чуть-чуть потише телевизор, шум стоял невообразимый.
– Положь пульт!, – закричала Бабаня
– Да я канал хотела поменять, – заныла Маша, но Бабаня зыркнула сердито и молча поставила перед Машей тарелку супа. Возражать было бесполезно и Маша, тоже молча, принялась за еду.
Телепередача тоже оказалась про еду. Ведущий рассказывал про зеленую революцию, показывал вертикальные сады и разработанные британскими учеными черные помидоры с антоцианами.
Потом пошел разговор про отечественные разработки, и всем показали откормленного красномордого дядьку в костюме. Дядька энергично вертелся на стуле и упоенно рассказывал про свои «фермы замкнутого цикла».
Вот, говорил он, смотрите: мы производим растительное масло из кубанского подсолнечника, а жмых становится основой веганских бургеров. Отходы птицефабрик становятся кормом для кошек, морковная ботва из моих теплиц – кормом крупного рогатого скота. Безотходное производство может быть и экологичным и выгодным!
Ведущий радостно кивал и улыбался: Вы, говорит, дорогой Михаил Борисович, у нас один из самых крупных филантропов. Дядька в ответ закивал и заулыбался с удвоенным энтузиазмом.
– Да какой же это Андропов?, – вдруг гаркнула в удивлении Бабаня.
Маша поперхнулась супом и словами. Откашлявшись (Бабаня тряпкой уже вытирала стол от супа, ворча и качая носом), Маша потянулась к пульту переключить.
Дядька в этот момент говорил о том, что в следующем году у него будет юбилей, 70 лет, и он надеется стать самым богатым и важным человеком на планете Земля, потому что он готовится совершить революцию в питании человека. Маша решила досмотреть, вдруг и правда станет.
– И весь мир будет знать Михаила Борисовича ЕрмИловича, – сказал ведущий и программа завершилась.
Первый подозреваемый
На ужин была вареная картошка с маслом, квашеная капуста и бабулины соленые помидоры. Когда они оставались втроем – Папаня, Бабаня и Маша, котлет быть не могло, их крутила только Бабуля. Поэтому, если нужно было мясо, отрезалась колбаса.
Папаня рассказывал, что любил в детстве вареную колбасу варить – кружок становился серенький и упругий. По легенде поздних советских времен, колбаса серела, потому что делалась из туалетной бумаги. Теперь нужно было добавлять, что туалетная бумага тогда тоже была серая, а то смысл оставался непроясненным.
Нынешняя же вареная колбаса сохраняла свою няшную розовую жизнерадостность, сколько ни вари, но окончательно обнулялась во вкусе, иногда вовсе распадаясь на хлопья. Маша не любила колбасу.
– Колбаса – это корм для людей, – говаривал Папаня, отрезая кружочек потолще.
Бабаня ревниво следила за процессом, она всегда огорчалась, если ее кружок был тоньше. И конечно, когда Папаня отрезал колбасы и ей, начинала с ним препираться согласно древней семейной традиции. Маша эту возню ненавидела и колбасу не ела.
– Хочу корм для людей с разными вкусами, – пробурчала Маша. Квашеную капусту она тоже не любила, но в ней было очевидно меньше БЖУ, чем в картошке и колбасе., – я бы сделала эту капусту со вкусом мороженого.
– В морозилку сунь, – предложила Бабаня.
Задумчиво помолчали. Обычно беседу за ужином создавал телевизор – выбирал тему и развивал ее и сам же с собой ее обсуждал, люди даже не замечали, что молчат весь вечер. На их долю оставались только споры «что смотреть».
Папаня, завладев пультом, искал «какую-нибудь комедию» и глядя на жестоко изукрашенного Шурика, вдруг вспомнил, что Витёк сегодня на работе рассказал ему о том, что в Квакшин приехал какой-то смешной мужик. Витек подбросил его до заквакшинской гостиницы.
– Нервный, говорит, такой, мелкий и шуганый. Сказал Витьку, что он режиссер и ищет живописное место для съемки фильма. Небось, врёт.
– В пиджаке и с шарфиком?, – спросила Маша.
– Точно. А ты откуда знаешь?, – удивился Папаня.
– Видела сегодня у школы, на площади топтался.
– Да ну! Он с тобой разговаривал? Чего ему надо было?, – папин голос сразу напрягся.
– Да ну-у, пап, он далеко стоял. Он с теткой, которая семечками торгует, разговаривал.
– Американский шпион, как пить дать! Я его сразу раскусила, – Бабаня злобно потрясла кулаком с тряпкой и полезла за сахаром.
Маша вспомнила, что Бабаню она и правда тоже видела на площади. Неужели Бабаня его заметила?
Машиной матери никогда не удавалось Бабаню подловить, в маразме та или просто прикидывается. А уж она-то как этого хотела, разговоры заводила что твоя Лиса Патрикеевна: «Анна Васильевна, Анна Васильевна, а что Вы думаете насчет того да этого».
Бабаня злобно зыркала на нее, если вообще смотрела, махала тряпкой да ворчала себе под нос что-то смутно ругательное. Разочарованная мать переключалась на Папаню и дело частенько заканчивалось скандалом. Все привыкли.
Папаня говорил, что матери надо спускать пар и иногда даже ходил «мириться» к ее родителям. А Маше казалось, что это у них такие танцы – типа как в старом итальянском кино, она по телевизору видела. Только мама посуду не била, как в кино – не напасешься.
Засыпая, Маша думала о том, что же именно отца напрягло – что мужичок пытался что-то разузнать или что он мог приставать к Маше? Если отец думает, что к ней может пристать взрослый мужчина, значит, она выглядит взрослой? Интересно, папа считает ее красивой? Он никогда не говорил ничего о ее внешности.
А если она думает об этом, значит, она хочет нравиться мужчинам? Или ей понравился этот мужчина? Может, это любовь с первого взгляда и завтра он будет ждать ее у школы, как бы ненароком, чтобы спросить у нее, как пройти куда-нибудь?
А куда ему может быть надо пройти в Квакшине-то?, – безразличная к лирике реальность резко охолонила Машины фантазии, словно ненароком ливануло за шиворот с крыши талой апрельской воды. – да и с чего бы ему на тебя западать?
Если кино снимать, ему, наверное, в ДК надо, а оно прямо на площади, мимо не пройдешь.
А может, я подхожу на главную роль?, – не унималась уже задремывающая фантазия.
А вдруг он маньяк?!
Маша испугалась и мысли вдруг запрыгали, как вспугнутые лягушата. Ей подумалось, что смотрел он на нее как-то пристально и наверняка запоминал. А что, если он ее выбрал своей жертвой?
Даже во сне Маша никак не могла решить, звезда она или жертва, поэтому получился сон-блокбастер: коварный маньяк-режиссер уговаривает Машу стать звездой его нового фильма, и вот когда уже Маша соглашается и приходит в ДК, чтобы сниматься обнаженной в первой сцене, влетает разъяренный папаня… а, нет, она же голая, не папаня. Влетает Тёма Бобров, тоже очень разъяренный и отвлекается на нее (она же голая), и упускает бандита. Тот все-таки довольно симпатичный и Маша кричит Теме «не трогай его, не трогай», а Бобров ревнует ужасно и гонится за маньяком, но Маша такая голая, что он отвлекается (он и так все время отвлекается) и тут же предлагает ей выйти за него замуж, а Маша смеется и просит принести что-нибудь одеться, а то они всю ее одежду затоптали, Бобров приносит занавес от театра, и тут все-таки влетает разъяренный папа и начинает …почему-то на Машу кричать, зачем она пришла к этому маньяку, и что она опозорила Бабулю и что маме все говорят, что у нее дочь гулящая, и что она такая красивая-красивая и должна себя очень беречь и он ей не разрешает с мужчинами вообще встречаться и сдаст ее в женский монастырь, благо, один есть неподалеку. А тут прибегает маньяк-режиссер обратно (он дорогущую камеру забыл потому что) и говорит, что Маша – звезда, алмаз неограненный, и что отец должен отпустить ее сниматься в Голливуд, а потом он еще рыдает, потому что камера треснула и фильм загублен и никогда им не стать звездами Голливуда в Квакшине этом. А потом Маша оглядывается и видит Николеньку, который все это в уголочке рисует и внезапно во сне Машу охватывает радостное предчувствие, что шедевр все-таки получится. Только это будет Николенькина картина, и она прославится в веках и будет висеть в Третьяковке.
Маша просыпается с улыбкой, и в Квакшине начинается новый день.
Кража с подробностями
– И весь мир будет знать Михаила Борисовича ЕрмИловича, – сказал ведущий и с громким хрустом разлетевшегося об экран пульта передача завершилась.
Ермилыч трясся, как будто плакал, правда, в основном, от злости. Его лицо на глазах приобретало оттенок Пино Гриджио.
Уж как ему понравилось то интервью, как приятно было рассказывать о своих фермах (он грузил ведущего без малого четыре часа, все повырезали, конечно, но все равно приятно), и вот, размякший и разболтавшийся он анонсировал – таки свои секретные разработки.
– Которых теперь нет, – заорал Ермилыч и вдруг задышал размеренно и спокойно: взял себя в руки. Лицо медленно возвращалось к привычному оттенку розе.
Его собеседник обреченно кивнул.
– Итак, Дмитрий Сергеевич, что у нас есть?, – Ермилыч начал загибать пальцы перед носом собеседника:, – за день до презентации из Вашего кабинета пропадает установка, – собеседник вздыхает и кивает.
– На следующее утро на месте установки обнаруживается микроволновка, перевязанная красной ленточкой.
– Подарок на день рождения, – стонет собеседник, – поэтому без коробки.
– Без коробки, именно!, – оживляется Ермилыч
Кивок.
– Предположительно, в коробку от новой микроволновки положили установку и унесли.
Кивок и что-то похожее на всхлип.
– Вопрос!, – толстый ермилычев палец уткнулся в пиджак собеседника., – Хм… неплохой такой пиджак, – Михаил Борисович с интересом пощупал ткань, определяя на глаз ценовую категорию собеседника., – а сколько я тебе плачу?, – поднял он глаза на начальника лаборатории.
Начальник лаборатории начал быстро ужиматься внутри пиджака, как будто глотнул из бутылочки с надписью «выпей меня». Еще немного, и для беседы с ним придется буквально заглядывать в пиджак и кричать в воронку ворота «заяц, ты меня слышишь? Ну, заяц, погоди». Ну или что-то другое кричать и слушать эхо. Из бездн пиджака раздался неразборчивый писк.
– Да ладно, ладно, – Ермилыч похлопал по пиджаку (ну правда же хорошая ткань), проехали, – и развалился на толстокожем диване каретной стяжки, где пуговицы были размером с кофейные блюдца.
Но смотрелось это хорошо, потому что сам диван был таких размеров, как будто ты в бинокль не с той стороны на него смотришь. А еще он был непроглядно черный и у начальника лаборатории вызывал неприятные ассоциации с гробом. Групповым.
– Кто же это мог быть?!, – вернулся Ермилыч к теме разговора.
Дмитрий Сергеевич вздохнул, обреченно кивнул и немножко всхлипнул перед тем, как ответить:
– Они пришли всем коллективом сделать мне сюрприз. Все суетились, бегали по кабинету, распаковывали микроволновку, накрывали стол. Сгрузили в коробку из-под микроволновки, как сказала Тоня, «старую страшную машинку» и унесли на мусорку. Или отдали охраннику, у него подсобка со всяким барахлом. Или отдали кому-то в гараж или на дачу, но никто не признается. А сторож говорит, что сунули куда-то в лаборатории, «там же гарантия 2 недели, как можно без коробки, я бы не взял».
– Искали коробку?
– Искали везде, все перетрясли, нет коробки.
– Что показывают камеры?
– Камеры показывают, что куча народу с коробками подходящих размеров шастают по лаборатории и территории без конца, и нужно найти и проверить трек каждой коробки. В тот день из-за презентации грузили огромное количество коробок с выставочным оборудованием. И вывезли, – беспомощно развел руками начальник лаборатории.
– А камеры в твоем кабинете?
– Они их отключили, – шепчет вконец раздавленный Дмитрий Сергеевич, – сюрприз же.
– О как!, – оживляется Ермилыч и радостно потирает руки.
Обескураженный и пристыженный, но обнадеженный переменой тона собеседник начинает понемножку возвращаться в пиджаковые размеры. Он чувствует, что начальственный гнев утёк в какие-то иные трубы и, кажется, ему не крышка.
– Дмитрий Сергеич!, – торжественно начинает Ермилович
– Я могу всех уволить за халатность!, – перебивает начальник лаборатории.
Получается несколько визгливо.
– Ни в коем случае. Работа проделана изнутри!, – вновь начальственные пальцы загибаются прямо у шеи собеседника, но уже нестрашно: апофеоз пройден, катарсис достигнут, и в воздухе ощущается деятельное предвкушение.
Хотя у Ермилыча перепады настроения как разгон у Черной молнии, спохватывается про себя собеседник и медленно втягивается вместе с шеей назад в спасительный пиджак.
– Какая тонкая работа! В день презентации! Камеры выключены! Переполох! … Кто назначил презентацию на день вашего рождения?
– Вы….
– Хм… А кто выбрал подарком микроволновку? Дурацкий подарок же в кабинет начальника!
– Я.. сам просил. Меня спросил, что мне подарить, я и сказал. Работы много, сходить поесть некогда.
Мозг у Ермилыча работал отлично: передача была записана 10 февраля и вышла в эфир 15 марта. Кто-то смотрел, кто-то понял, кто-то решился на риск. И у этого кого-то получилось. Но у них было очень мало времени, значит, «крот» в лаборатории сидел давно и сейчас еще сидит.
– Никого не нанимать, никого не увольнять, анкеты со всех сотрудников собрать, бланк тебе пришлют. Сидеть тише воды, ниже травы. И воспроизводить! Когда сделаешь второй прототип?
Из Дмитрия Сергеевича раздался свистящий испуганный шепот.
– Михаил Борисович, мы так до конца и не знаем, как это работает.
– Хм?! Кто это мы? В смысле не знаем?
– Ну, про установку знаю я и Саша. В смысле Александр Сергеевич.
– Пушкин?, – Ермилыч начал опасно багроветь.
– Изобретатель, – торопливо заговорил начальник лаборатории., – изобретатель. Остальные не в курсе были, они по кошачьим кормам и вегетарианским шротным бургерам больше…
– С чего ты взял, что он не знает, как это работает?
– С его слов.
– Не хочет делиться технологией…, – Ермилыча одолевало искушение набить морду этим двум задротам, которые удерживали его сейчас от всемирного признания и бессмертия.
Вызвать парней или даже самому, с этого дивана все отлично отмывается, – размечтался Михаил Борисович. Потом прислушался. Начальник лаборатории что-то блеял по поводу стараний все исправить и Ермилычу стало скучно. Он отпустил собеседника и приказал связать его с Буниным.
***
Говорят, Ермилыч поменял ударение в своей фамилии «Ермилович» с «о» на первую «и», чтобы скрыть фамилию одесского происхождения. Но так как рос он простым бугаем из московского дворика (позже – подворотни), то доказать это совершенно невозможно.
Однажды мама попросила Мишу пристроить «куда-нибудь» к себе сына подружки – соседки, и он (тогда – «Ермиша»), насилу припомнил хлипкого мальчонку со двора. Так Бунину очень повезло и он стал личным порученцем олигарха.
Ермилыч никогда не стал бы тем, кем стал, если бы не две свои особенности: он молниеносно разгонялся от слепой ярости до ледяного бесстрастия и обратно, не теряя при этом ясности мысли, и умел (и любил!) действовать парадоксально.
Так Ермилычу очень повезло заполучить Бунина, который выполнял его особые поручения без сомнений и вопросов. Он был настолько оторван от реальности, насколько это вообще возможно без летательных аппаратов.
Бунин мог бы стать чекистом, так как имел внешность крайне неприметную. Глаз на нем не задерживался даже насильно. Маленький, плюгавенький (что бы ни стояло за этим словом) с самого детства Бунин не производил впечатления. Совсем. Но внутренне этот человек бурлил, и основной его страстью были романы. В основном, детективные, но приключенческие тоже подходили.
Так Бунин и Ермилыч нашли друг друга. Ермилыч давал Бунину парадоксальные задания, а Бунин действовал, старательно разыгрывая очередной любимый литературный персонаж. Или кинематографический.
Ермилыч встречался с Буниным всегда лично, поэтому на Бунина опасливо косились и охранники в офисе, и секретарши – личные встречи с шефом всегда были испытанием на выносливость. Таким образом, эффект парадокса возникал сразу – невзрачный Бунин в нелепых, нарочитых образах вызывал не смех и желание покрутить пальцем у виска, но трепет. Ермилович считал Бунина своим успешным творческим проектом.
– Поедешь в Крекшино. По анкетам сотрудников лаборатории выходит, что сторож, он же охранник, жил какое-то время то ли в Квашине, то ли в Кашине, то ли в Калистово, то ли еще в какой-то такой дыре на букву К.
Коробки – по его части. Опять же на букву К. Установку уже не найти, она попала в руки конкурентов, мне нужна история, КАК это произошло.
Тоже на букву «К», – меланхолично про себя отметил Бунин.
– Мне нужно знать, как установка выглядела?
– Нет, но она выглядела как в высшей степени обычная в хозяйстве вещь.
Бунину этого достаточно и он отправляется в Квакшин.
Пришелец
Алеша сидел и уныло дергал ткань на штанах. Скоро лето и штаны придется менять. У Алеши не было штанов на лето, а это означает, что их придется купить.
Алеша не умел покупать штаны.
Когда он попросил Настю купить ему штаны, она расхохоталась: «я тебе не жена!».
Она вообще хохотушка, – с нежностью подумал Алеша, – а когда она смеется, ее большие, мягкие, белые сиськи оживают, и он может смотреть только на них. Его взгляд смешит Настю еще больше, сиськи начинают прыгать как котята в корзинке, проситься на свободу и ласку.
Когда Алеша с Настей, у него случаются провалы в памяти. Он с ней наверное любит разговаривать, но долго не может, потому что когда она говорит, она смеется, а когда смеется, оживают сиськи, и он не помнит, что происходит дальше.
Иногда потом, после секса и бани, он пытается восстановить события по памяти, так сказать, по протоколу, как учили, но не выходит.
Он ей говорит, что она его приворожила и отбила память, она начинает смеяться, и опять получается провал.
Настя живет в соседней деревне и торгует молоком. У нее с матерью хозяйство, коровы. Настина мать, бывает, сидит с семечками на Центральной площади Квакшина, поэтому Алеша всегда обходит площадь стороной (а вы не представляете, как это трудно в Квакшине!). Все для того, чтобы не выдать тайну голубого особнячка: он им не говорит, кем работает.
Алеша гордится своей легендой про работу на складе и не знает, что промеж Настиных подружек он проходит под кодовым именем «Этот Настин смешной чекист».
Алеша подумал о Настиной маме – может, она купила бы ему штаны? У Настиной мамы сиськи еще больше, и наверное, тоже белые, а между ними темно-красный от постоянного загара треугольник морщинистой кожи.
С мамой Насти Алеше разговаривать не легче: она всегда так недоверчиво на него смотрит, заводит разговоры про детей и починку коровника. Алеше от таких разговоров неуютно. Ему все нравится как есть, он в Квакшине не навсегда, и поселяться в их курятнике он не собирается. Он приезжает к ним каждые выходные и исправно привозит колбасу.
Сначала он возил цветы и пиво, но Настя сказала, что раз он ест, как теленок, пусть привозит еду, а из еды Настя с мамой больше всего уважают колбасу.
Это еще с советских времен пошло, когда колбаса была деликатес и ее было не достать. Поэтому колбасы много не бывает, а своих коров они не едят, они у них молочные.
Так что с Настей у них все слажено и налажено, чего цепляться?, – Алеша вздохнул и углубился в гугл: «как купить штаны».
Данилыч возник на стуле, как всегда, из ниоткуда – как будто пересобрался из частиц пыли и света, пока Алеша, испуганный собственной смелостью, складывал в корзину на Wildberries все найденные варианты летних штанов.
Для проверки своей телесности Данилыч поскрипел стулом. Алеша посмотрел на его штаны и не смог понять ни цвета, ни размера, ни фасона. Впрочем, не удивительно – не только штаны, но и весь Данилыч ни под какие фильтры Wildberries не подходил.
– Пижонишь?, – спросил Данилыч, кивая на экран.
– Да это, – смутился Алеша, – лето ж скоро, жара.
Данилыч кивнул. Они посидели с минутку в уютной тишине старого деревянного дома, довольные собой и миром, в котором ничего не происходит. Разве что чайку поставить.
Олег Анатольевич ворвался, разметав испуганную разноцветную пыль, танцующую в столбе солнечного луча. Алеша и Данилыч внутренне переглянулись и вздохнули. Началось совещание.
***
Олегу Анатольевичу показалось слишком тихо, тесно и деревянно здесь. И настроение было поганое, как всегда после Светы.
А все потому, что у Олега Анатольевича не было одной постоянной женщины. А было три.
Номер один была яркая, дерзкая и очень дорогая шалава из районного центра. Олег Анатольевич позволял ее себе только на праздники.
Обычно он ездил на трассу неподалеку к шалаве номер два. Она была тихая, скромная, брала недорого, но тут она сказала, что к ней приехала мама, и пока ей не звонить.
Номером три шла местная горожанка Света. Это был самый выгодный вариант, (достаточно было принести тортик).
Света была глубоко замужняя, глубоко бездетная (и бесплодная, как надеялся Олег Анатольевич). У нее было рыхлое тело, скучный цвет волос, грустно висящая попа и муж с постоянными командировками (или вахтой, Олег Анатольевич в подробности не вдавался).
После секса с ней надо было пить чай на кухонке ее хрущевки: она уныло что-то зудела про работу, поликлинику, соседей и рассаду, белый эмалированный чайник свистел и подмигивал когда-то голубоватыми цветочками, – мол, получил свое – терпи теперь. Олег Анатольевич угрюмо ел тортик.
В этот раз он битый час ждал в кустах, когда разойдутся бабульки у подъезда. Пройти их контроль Олегу Анатольевичу было не под силу – он был мужчина заметный и крупный, вид имел начальственный. Света смертельно боялась бабулек, просила не подходить к окнам, когда он у нее, смазывала маслом все, что могло ритмично скрипеть и лежала под ним нервным бревном.
Теперь он мучился изжогой после сладкого и не питал никаких иллюзий относительно своей мелкой, как бассейн-лягушатник, жизни. Вся эта суета с шалавами, бабками-сплетницами, скрипучими полами, гадкими тортиками из Пятерочки и составляет его, собственно, жизнь. А мечты о Москве, карьере и разгульное веселье с Мариной номер раз – это миражи, передых от ежедневной скучной тоски, пьяный бред.
От этих мыслей делалось совсем горько.
За окном энергично шелестела сирень – у нее были большие планы на эту весну. Дом поскрипывал, как будто почесывался, в солнечных лучах кружились пылинки, от которых хотелось тереть нос и смеяться. Здесь, на Пушкина, 13, царила осмысленная вечность.
Олег Анатольевич глубоко вдохнул и подумал, что грустные мысли навевает ему запах плесени, который Данилыч притаскивает из подвала. А жизнь, пожалуй, права как есть.
И начал совещание.
– Итак, что у нас?, – с деловитым напором Олег Анатольевич навис над сотрудниками.
Алеша полез за своими записями из отделения полиции, зашуршал бумажками.
Данилыч подался вперед и сказал:
– Чужак в городе.
Слова прозвучали веско и значительно. И повисли в воздухе, поддерживаясь игривой домашней пылью.
Олег Анатольевич с внимательным видом кивнул продолжать, и Данилыч продолжил:
– Бунин Александр Витальевич, 1969 года рождения, паспорт московский, прописан в Люберцах, никогда не менял место прописки. Здоров, образование среднее специальное – по специальности токарь, работал в токарном цеху до 1995 года в Москве. Далее в трудовой книжке записей нет.
Остановился в гостинице на трассе, оплатил 10 суток проживания наличными. Не храпит, ест не в гостинице, из вещей – чемодан, но он его держит в машине. Машина Хендай акцент с пробегом 123000, цвет асфальт, в хорошем состоянии, куплена б/у.
Штрафов, алиментов, детей, жен, долгов не обнаружено. Пижон.
Никогда, никогда и никто не спрашивал Данилыча, откуда он берет свои сведения. Зачем все портить? Молча поблагоговели.
Алеша предложил сделать чаю, Олег Анатольевич рассеянно кивнул.
Алеша потопал “ в переднюю» делать чай, и на его шаги дом отзывался ласковым теплым скрипом. Как будто Алеша шел и немножко щекотал дом – половицы, двери, дверцы старого резного буфета из красноватого тяжелого дерева.
Буфет невозможно было вынести из комнаты: он делался на заказ (по легенде – в Италии), собирался в комнате, и им не смогли поживиться судебные приставы, разорившие первого владельца. Привести его в большевистский вид тоже не удалось – наглый резной буфет во всю стену столовой переливался виноградными гроздьями и гранатами на боках. Буфет пережил всех, окончательно отсырел, рассохся и распоясался, но позиций не сдавал.
Буфет, похоже, думал, что живет здесь именно он, а люди так, приходящая прислуга. И ведь был прав.
В свое время ошалевших задержанных проводили мимо всего буфета (комната была проходная) в знаменитый подвал, и резные гроздья красного дерева было последним, что отпечатывалось на сетчатке памяти несчастных.
– А что он здесь делает?, – спросил Олег Анатольевич.
– Всем говорит, что приехал как режиссер выбирать место для съемок фильма. В вещах бумаг не обнаружено. В машине обнаружена книжка, автор Ле Карре, название «Шпион, выйди вон».
Данилыч многозначительно посмотрел на Олега Анатольевича. Олег Анатольевич постарался многозначительно посмотреть в ответ, но так до конца и не уверился, что у него получилось. На всякий случай многозначительно помолчал.
Алеша принес чай, весело громыхая подстаканниками.
– А что у него за штаны?, – спросил Алеша, раздавая чай.
– Кстати да, Данилыч. Ты его видел? Описание внешности есть?, – Олег Анатольевич обжегся, но виду не подал.
– Вида неприметного. Рост средний, чисто выбрит, есть залысины, глаза серые, черты лица невыразительные, особых примет нет. Одет как петух., – Данилыч занялся чаем.
Чаинки могли бы разглядеть усмешку в самой глубине его невозмутимости, – мол, дальше сами.
– А штаны?, – не отставал Алеша.
– Дались тебе штаны. Штаны на нем точно были.
– А почему петух?
– Потому что пинджах на ём был светлый и коришневый как понос – Данилыч на глазах превращался в лешего из дремучих квакшинских мертвых деревень, – и шарфих. Красный. ХитрО повязанный.
Алеше показалось, что сейчас Данилыч перекрестится, плюнет через левое плечо и прискажет «Чур меня». Стоило моргнуть и морок исчез.
Олегу Анатольевичу никак не удавалось представить себе взрослого мужика в пиджаке цвета поноса и с красным шарфиком в Квакшине. Не хватало воображения.
Он сказал: – похоже на приманку. Что за хмырь такой, с гладкими документами, машиной как у всех и шарфиком как у никого?
– Взять и допросить бы его, – решительно мечтательно сказал Алеша. Он хотел посмотреть на штаны этого Бунина и узнать, где тот их покупал.
– Нельзя, мы на улице людей не хватаем. Сейчас повод нужен.
– Этот пришелец – приманка для нас. Не заметим, – спишут!, – заметил Данилыч.
– Верно говоришь, Данилыч. Его надо раскрутить грамотно, чтобы не прикопались потом к нам. Все как по нотам. Предлагаю наблюдать, постараться свести знакомство, но аккуратно крайне – засветимся, спишут как пить дать.
Данилыч кивнул. Продолжать совещание не было смысла, оставаться втроем им было неуютно. На Олега Анатольевича снова начала наваливаться тоска, и он отодвинулся от Данилыча.
Осталось решить, писать ли сразу наверх про этого Бунина или пока погодить. Если это проверка, ретивость отметят, а если никакая не проверка, засмеют или даже «спишут» – паникерство начальство очень раздражало.
Договорившись с собой написать про Бунина, но в следующем еженедельном отчете, Олег Анатольевич раздал оперативные задания и ушел.
Данилычу тоже надоело поддерживать свою телесность, и Алеша остался наедине с буфетом и особнячком.
Один золотой зуб
– Бабань, а куда ты доски складываешь?, – спросила за ужином Маша.
Папаня заинтересованно поднял брови.
– В сарай во дворе.
– Но во дворе нет сарая, – удивился Папаня.
Семь гордых девятиэтажек были построены в 80-е с современными дворами, детскими площадками по последнему слову техники, песочницами и лавочками. Сараев им не полагалось.
Бабаня не удостоила его ответом, а после ужина Папаня с Машей нашли во дворе сарай. Справедливости ради придется заметить, что он находился в непроходимых кустах и на сарай был не похож, однако из него торчали старые доски, а Бабаня, следившая за ними из окна, грозно махала руками, чтобы ничего не трогали.
Маша лучше всех понимала Бабанино горе об утраченном доме. Сама она в нем никогда не жила, дом был продан в 90е, когда Бабаниным дочерям понадобились деньги – Бабуле на сад с домиком, а ее сестре на отъезд в другой город.
Папаня тогда только в школу пошел. Много позже, когда Маша была маленькой, а Бабаня – поадекватней, каждый раз, когда они шли мимо этого дома, Бабаня начинала причитать (а по правде говоря, голосить), что дочки оставили ее без дома на старости лет.
В одну из таких прогулок Маша увидела за забором светлоголового мальчика. Она сердито сказала ему: «Это наш дом!», а мальчик посмотрел на нее очень внимательно, подумал и спокойно ответил: «Не похоже. Я – Николенька. А ты кто?».
И вот Николенька ее лучший друг, и она проводит уйму времени в доме, когда-то принадлежавшем ее семье.
Маша отлично понимает, чего лишилась Бабаня. Дом был старый, большой и теплый.
Внутри него был воздух прошлого, как будто дом вдыхал обычный воздух снаружи и выдыхал его, уже переработанный, внутрь. Им было интересно дышать.
Двухэтажный, да еще с большим мансардным чердаком, который полностью заняли дети, дом хранил множество вещей, историй и отметин – следов жизни, шрамов и татуировок.
Николенька и Маша читали по стенам, гадали по теням, исследовали пыльные залежи, доставшиеся чердаку как от Машиных предков, так и уже от более поздних жильцов.
Просторный и теплый чердак подходил для любых игр, тихих и шумных, а маленькой лампочки у потолка почти хватало, чтобы зимними вечерами читать, делать домашку и, в Николенькином случае, рисовать.
Машины подружки и по сей день никак не могут ей простить, что Николенька – мальчик. «Так ведь он же живет в НАШЕМ доме! Это же как родня!», – убеждает она девчонок.
Дом был большой, крепкий, на важной улице Пушкина, и в народе назывался «Дом Сторгиных». Однако с тех пор, как Василий Сторгин сгинул на Отечественной Войне, а сын его, последний Сторгин, замерз по пьяни в лесу в 1965, Сторгины в Квакшине перевелись.
Бабаня, Сторгина в девичестве, все убивается по дому, как по покойнику: она в нем родилась и выросла, и жизнь прожила, и дочек вырастила.
А сейчас в нем живут Николенькины родители – врачи, приехавшие в Квакшин «откуда-то с Сибири». Машина мама, хоть и работает в регистратуре поликлиники, с ними не общается, а Папаня и вовсе незнаком. Так что остальной Машиной семье вход в дом Сторгиных заказан.
Несколько лет назад Бабаня перестала оплакивать дом и начала таскать доски с заброшек. Говорит, собирает на новый. И хотя квакшинцы считают Бабаню психованной маразматичкой, на ее фокусы с досками не реагируют. Морщатся и отворачиваются, когда она скребет доской дорогу. Жалеют.
***
В Бабанином сарае досок оказалась целая прорва, с удивлением обнаружил Папаня. Можно сделать большую собачью будку. Маша потянула какую-то тряпочку с василёчками, тряпочка развернулась и выронила бабанин схрон. С круглыми глазами Маша подняла с земли золотой зуб.
– А ну отдай! Это моё!, – Бабаня неслась со всех ног, размахивая тряпкой. Прыть у нее обнаружилась удивительная.
– Да у тебя сроду не было золотых зубов, – сказал Папаня, забирая у Маши зуб и тряпочку с василёчками.
Что тут началось! Бабаня впала в форменную истерику, завыла, замахала руками на Папаню и Машу, ругаясь и плача одновременно. Маша сердито забрала у отца зуб, завернула его обратно в тряпочку и отдала Бабане, убаюкивающе что-то приговаривая.
Папаня возмутился – мол, надо же разобраться!, – но Маша строго посмотрела на него, махнула (потом, позже!) и повела Бабаню обратно к сараю.
Пока Маша росла, а Бабаня потихоньку выживала из ума, Маша научилась ладить с Бабаней и лучше всех ее понимала.
– Бабань, а где ты его взяла?, – невзначай спросил Папаня.
– А тебе-то что?, – Бабаня уже спокойно копалась в тряпочке, угнёздывая зуб понадежнее.
– А там еще есть?
– Золотых-то? Золотых-то больше нету, – простодушно ответила Бабаня и почапала к сараю, оставив Машу и Папаню размышлять над незаданным вопросом: а какие тогда есть?
Маша потянула отца в кусты поглубже: – Надо зуб на экспертизу отнести!
– Так что ж ты тогда не дала его забрать? Сейчас его Бабаня перепрячет или с собой унесет, не найдем.
– Не перепрячет, она ж не вспомнит потом. Обратно положит. А когда она домой пойдет, мы проверим.
Темнело. Бабаня с довольным видом прошелестела мимо кустов, и когда она скрылась в подъезде, Папаня с Машей рванули к сараю. И точно, тряпочка с василёчками лежала ровно там же, зуб тоже. Папаня потянулся забрать зуб, но Маша не дала: «Убить ее хочешь? Никуда он не денется.»
– А может, и правда ну его?, – задумчиво спросил Папаня., – Ну зуб и зуб. Мало ли.
Он был человеком мирным и бесконфликтным. На работе его звали «Потеченцем», но без обидности, просто обозначая факт Папаниной беззубости.
Папане в детстве повезло с друзьями. Когда в лето первых школьных каникул умер его любимый дедушка, заменивший отца, разъезжавшего по всем союзным стройкам (особенно тем, что подальше от Квакшина), Витек и его семья – крепкая на слово и быстрая на оплеуху задорная мать, два старших брата и большой быкообразный батя, – стали осиротевшему Сереже вторым домом. Бабуля (тогда еще просто Лена, «у которой муж – инженер, а по-квакшински «попрыгун из Воронежа») смирилась, а Витек с братьЯми помогали Папане там, где требовалось показать зубы.
Дома у Папани царили женщины.
Лежа в постели, Маша спросила в темноту:
– Бабань, а где ты нашла этот зуб?
– А он в стеночке блестел.
– А что за дом?
– Да от Верушки через два в сторону оврага. Красный такой.
Маша по What’sApp отправила Папане Бабанины ответы. Ни Маша, ни Папаня не поняли, что это за дом.
***
Папаня проснулся внезапно и резко, как будто ему кто-то крикнул в ухо. Один он спал хуже, чем с женой, а тут еще ему снились какие-то жуткие неразборчивые сны, от которых просыпаешься в поту и недоумении, как после погони.
Во сне он вспомнил, кто такая была эта Верушка – когда Бабаня была молодой девицей, у Верушки единственной в городе была швейная машина, то ли Сингер, то ли Фингер. После войны у ней шился весь, почитай, город. Вспомнил и Бабанино свадебное платье на чердаке, сшитое этой Верушкой. И вспомнил, как Бабаня показывала ему дом этой Верушки, в котором уже никто не жил.
Светать только-только начинало. Не удавалось ни заснуть, ни до конца проснуться – как будто он проснулся не в сегодня, а в том дне, когда он порезал на рыцарский плащ бабушкино свадебное платье, и бабушка плакала, мама ругалась, а дед смеялся и обещал сделать ему меч под стать доспехам.
Папаня встал умыться, и от ледяной воды заныли зубы. Какое-то полупроснувшееся чувство (любопытство? интуиция?) гнало его туда, за два дома от Верушки в сторону оврага. Ругая себя за идиотический романтизм, но не умея ему сопротивляться, Папаня оделся и вышел в бодрящий апрельский рассвет на поиски дома с золотыми зубами.
Папаня крался по городу. Разумеется, он не крался – это был его город, знакомый с детства, но его не отпускало ощущение, что это не его время дня, что Квакшин рассветный совсем не его Квакшин, а другая версия, написанная для других людей. А его версию загружают в реальность после 7:30.
Петухи будили зарю и заливались самоупоенным кукареканьем. Пару раз на него гавкнула сонная собака. Ближе к главным улицам стали попадаться люди. Кто-то шел домой спать после ночной смены, кто-то бежал спать в ранний рейсовый автобус до райцентра – на работу. Кого-то еще разбудило ледяное апрельское утро.
Папаня не мог не заглянуть в окошко: в доме Сторгиных загорелся свет. Мелькнуло лицо – и Папаня кивнул ему, как будто передал эстафету. Теперь этот мальчик может быть маленьким Сережей. Теперь этот мальчик вырезает свое имя (Николенька) на нижних венцах дома, а дверные косяки рассказывают о том, как быстро он растет.
Как и остальные дома в этой части улицы, Верушкин дом, да и сама улица, клонились к оврагу так, словно вприпрыжку бежали купаться. Некоторые дома даже размахивали полотенцами на бельевых веревках.
Папане захотелось зайти в Верушкин дом, вдруг там еще стоит эта машина – Фингер? И в этот момент Папаня понял Бабанину любовь к необитаемым старым домам. Он не мог воскресить их, он их не помнил живыми, а Бабаня – могла. Для нее, наверное, думал Папаня, этот грязный кусок тряпки становился кружевной занавеской, а за занавеской была комната, где пили чай, и была вазочка с вареньем, и в сахарнице были непременно щипцы. Ей лишь оставалось заглянуть в комнату поискать щипцы, чтобы на мгновение вернуть себе молодость и нетронутое жизнью будущее.
От этих мыслей щипало в горле, но недолго, так как Папаня нашел дом. Нашел и стеночку. Стеночка была внутренней перегородкой, сделанная из чего-то белого, типа гипса. И из этого гипса проглядывали, как ископаемые окаменелости, зубы. И кусок челюсти. Свисали какие-то тряпки, вместе со старыми обоями, отставшими от стеночки. У стеночки лежали ломти гипсовой штукатурки, отвалившиеся и обнажившие спрятавшуюся в стеночке тайну. В торчавшей челюсти было отчетливо видно пустое зубье гнездо. И Папаня был уверен безо всякой экспертизы, что в этом-то гнезде когда-то жил Бабанин золотой зуб.