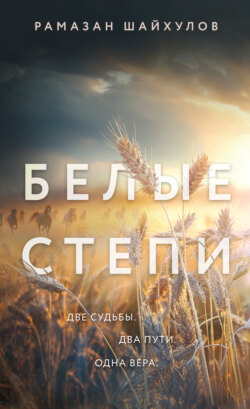Читать книгу Белые степи - - Страница 7
Часть I
Свет и сумерки века
Глава II
Фатхелислам
Оглавление1
Зухра проснулась от того, что какая-то птичка уселась на конек крыши сарая, задевая крылышками настил из дранок, и стала шумно чистить перышки. Царапая коготками дранки, попрыгала, походила, несколько раз невнятно что-то просвистела и так же шумно взлетела и, свистнув крылышками, улетела… «Счастливая птичка, – думала сквозь мучительную дрему Зухра, – летает где хочет, везде у нее пища, копнула лапкой чернозем, под ним червячок. На ветках осины и в кустарниках гусеницы, на лету и мухи, слепни. Поклевала – и сыта, лети дальше… Попила водички из чистой лужицы… Вольготно, сытно и легко…» Птички залетали, и небо в прощелинах крыши порозовело, значит, скоро рассветет, значит, скоро опять за работу. Что сегодня придумает хозяйка, за что надо будет до изнеможения рвать жилы, чтобы не умереть от голода?..
– Лентяйка, лежебока, дармоедка, вставай! Чтобы ты сдохла, объедаешь нас, лентяйка, иди бегом на речку, белье стирай! И чтоб все чистеньким было у меня! – других слов от нее Зухра и не слышала.
Голод мучил, издевался над ней все последнее время. Желудок уже не урчал, как бывало в детстве, когда заиграешься на улице, забегаешься, а растущий организм требует еды, и желудок смешно урчит, и кажется, что если сейчас не съешь что-либо, то так и упадешь замертво. Теперь урчать желудку было нечем. Если бы не изнуряющий труд, усталость, то от голода и не засыпала бы. Страшно завидуя этой улетевшей сытой и довольной птичке и со злостью наблюдая за светлеющим небом, Зухра с содроганием во всем исхудавшем, изможденном теле стала ждать, когда хозяйка лающим голосом разбудит ее и, понося всем, на чем свет стоит, снова погонит на работы. Хозяйкой же была та самая мачеха Гайша, державшая в черном теле их противника по детским играм, сироту Асхата, который ушел с белыми.
Зухре уже казалось, что вовсе и не было той прошлой жизни в чистом, уютном доме отца, не было жарких объятий Шакира. Что она так и жила в опустевшем сарае и спала на досках яслей, прикрытых только старой рогожей. Что рядом, через дощатую перегородку, еще живет единственная выжившая корова хозяев, которая тоже от голода жалобно мычит и грызет древесину сарая на доступных для ее зубов уголках.
Все тело болело, как от побоев, потому как от работы не было продыху. Боль добавляли корявые доски, впиваясь в бока неровно отесанными основаниями сучьев. Хозяйка давала есть только остатки от скудного семейного стола, эти объедки лишь поддерживали организм, не давая умереть. Она делала черновую работу, как мужик или несколько женщин в старые времена.
Все переменилось после ухода Шакира с башкирским войском. Через некоторое время война между своими докатилась и до них. Сначала были слышны лишь уханья дальних взрывов, затем они стали четче – слышался свист летящих снарядов, их треск при разрыве, стали слышны пулеметные очереди и одиночные выстрелы винтовок.
Через их село проходили то белые, то красные. С красными уходили босяки, так как агитаторы большевиков обещали им равенство после победы над белыми, да и с винтовкой в руках можно было неплохо нажиться, пограбить богатеев. Они заходили в село и первым делом забирали все съестное, уводили коров и овечек. Угрожая оружием, отбирали добротную одежду, обувь. И все объясняли революционной необходимостью.
Белые приходили хорошо вооруженными, в чистом, новом обмундировании. И еду покупали за деньги. С ними уходили сынки богатеев и те, кто польстился, без всяких идей, за хорошую провизию или просто – за пару новых сапог.
Но страшнее стало позже, когда обескровленные, обозленные и те и другие приходили не только забирать последние припасы, но и мстить – белые выявляли семьи красных, красные – ушедших с белыми. Так белые повесили прямо на перекладине ворот родителей Тимербака – дядю Ишмурзу и тетю Рабигу, так как Бака, несмотря на хромоту, ушел с красными. При этом солдаты согнали всех жителей полуопустевшего села, и, показывая на связанную пару, высокомерный белый офицер, сидя на гарцующем боевом скакуне, картавя, произнес речь:
– Сельчане, вы сами видите, в какой ад пгевгащается наша Ггоссия под властью большевиков! Они безбожники и газбойники! Они только и умеют, что газгушать и ггабить, и много несознательных сыновей вместо того, чтобы идти воевать за цагя, за нашу самодегжавную Ггусь, уходят к кгасным! Мы не можем это пгостить, мы богемся за спгаведливость, за цагя, а они убивают нас и потом пгидут ггабить и гасстгеливать вас! Вот пегед вами отец и мать такого выгодка, их сын воюет на стогоне кгасных. Будет вгемя, мы покончим и с ним, а сегодня мы казним его годителей в назидание остальным. Так будет со всеми, кто будет сотгудничать с большевиками! – И он, небрежно махнув рукой, отъехал.
Дядя Ишмурза держался по-мужски, прямо смотрел в глаза своих земляков, но страх мелькал в глазах, когда косил на веревочные петли, привязываемые прямо на перекладины их ворот. Тетя Рабига, и так уже от старости ополоумевшая, ничего не понимая, лишь глупо скалилась, как будто стесняясь сосредоточенного внимания такого количества людей. Только когда лысый, беззубый подобострастный татарин-толмач, шепелявя, перемешивая башкирские слова с русскими и татарскими, перевел речь офицера и ее поставили на лавку рядом с мужем, накинули на шею петлю, до нее дошел смысл происходящего, – она неистово, дико завопила. Когда бравый казак пинком свалил лавку, ее дикий визг перешел в сиплый хрип… До сих пор перед глазами дрыгающиеся тела ни в чем не повинных соседей. Белый офицер приказал не трогать их под страхом наказания, не хоронить. Так они и провисели до прихода красных. Посиневшие и объеденные мухами тела снял сам Тимербай…
Красные расправлялись с не успевшими сбежать сторонниками белых, с несознательными, укрывающими хлеб, одежду, конскую упряжь от «экспроприации».
Как-то белые и красные с разных сторон подошли к селу и через село же перестреливались. Жители попрятались кто куда. Зухра с родителями Шакира отсиживалась в погребе, что был вырыт в конце огорода. Долго они сидели, кончились припасы, мучила жажда, и Зухра ночью вызвалась сбегать за водой, надеясь на темноту, мол, никто не увидит. Когда бежала обратно, видимо, хорошо просматриваемая на фоне неба фигура была замечена, и со стороны белых щелкнул выстрел, и, обдав лицо жаром и пороховым дымом, прямо перед носом просвистела пуля. От страха она упала, и тут же над ней просвистела вторая пуля… Если бы не упала…
От разрывов снарядов загоралась почти поспевшая пшеница, а что не сгорело, было вытоптано конницей. В мельнице прятались и отстреливались красные, белые артиллерийскими выстрелами снесли запруду, попали по мельнице, она сгорела…
Все переменилось в жизни села и Зухры. Как-то ранним утром Гадыльша запряг лошадь, открыл ворота и уже уселся на телегу, но что-то его остановило. Зашел в дом соседей, со всеми поздоровавшись, обнял Зухру.
– Времена настают плохие, доченька. Если что, держись брата, хоть и увечен он с войны, но все равно еще хозяйничает. Сестренку береги, она у тебя одна.
– Да что ты, папа, как будто прощаешься…
– Нет, слушай. Всему, что нужно в жизни хозяйке, ты научилась, хорошо справляешься. В сарае я припрятал мешок муки, не все унесли солдаты. Если что, найдешь…
И еще раз крепко обнял ее и, смахнув слезу, быстро развернулся и уехал по делам в село Архангельское. Ни к вечеру, ни на следующий день он не вернулся. Никто не видел ни его тела, ни лошадь, запряженную в телегу. Никто не знал, что с ним стало. Сначала Зухра забрала сестренку Зулейху в дом родителей Шакира; отцовский дом и двор опустели – не стало кобылы, корову давно увели красные, попропадали куры, оставшиеся были съедены.
Как-то красные пришли и стали растаскивать для укрепления окопов вокруг села бревна так и не собранного в дом сруба Ахата. Сабир-агай, во что был одет, выскочил из дома стал умолять солдат не делать этого:
– Ребятки, сынки, не разоряйте нас. Сына это сруб, вот придет он с фронта и поставит дом. Не надо ребята, ох…
Сначала его отгоняли прикладами, нещадно били в плечи, в живот, и когда он, вырвавшись, подбежал и лег, раскинув руки поперек на уже посеревшие бревна, его просто закололи штыком, стащили тело на траву и окрававленные бревна все до одного отвезли на позиции. Там они, прошитые пулями, расщепленные разрывами гранат, сгорели.
Постепенно колчаковцы, отступая, окончательно разоряя сельчан, уходили на восток. За ними шли обозы красных, насаждая советскую власть. В селе установился относительный мир, только теперь красные, уже утвердившись во власти, окончательно расправлялись с врагами большевизма. Обозы со связанными ненадежными сельчанами уходили в сторону Архангельского.
Вернулся от белых в дом Гайши израненный Асхат, но его, сопротивляющегося, нелепо размахивающего большими ладонями на тонких руках, вытащил на улицу Тимербака. На шум и возню, на хриплые возгласы дяди Асхата Накипа собралась толпа:
– Что вы делаете! Тимербай, пощади Асхата! Вы же вместе все детство были, вместе росли и играли. Зачем тебе его жизнь?!
Тимербай, высокомерно глядя на молчавшую и спрятавшуюся за плечом худого мужа Гайшу и обращаясь к окружившим сельчанам, подражая речам пламенных коммунистов, размахивая наганом, заговорил:
– Да, дядя Накип. Мы вместе росли, вместе играли. И Асхат немало в детстве нахлебался горя в вашей семье. И он должен был быть вместе с нами. Вместе с теми, кто пошел против белых за справедливую власть большевиков, за власть бедных. А он продался за красивую форму и сапоги. Он не наш! Он убивал моих друзей, и ему нет пощады. Белые казнили моих родителей, а он белый!
И, дав команду держащим за руки Асхата отпустить его, оставив у плетня дома Гайши, поднял наган.
– Тимер! Стой… – только заговорил весь дрожащий Асхат, как Тимер почти в упор выстрелил в него, и тот, сразу обмякнув, упал на плетень, его тело в судорогах мягко покачалось на плетне и упало под ноги Тимербаю. Тот же с омерзением отпихнул худое окровавленное тело и, сорвав траву у плетня, обтер окровавленные сапоги.
Зухра, ничего не знавшая о том, где ее Шакир, стала выспрашивать о судьбе валидовцев. Говорили, что они, сначала воюя на стороне белых, были сильно побиты под Стерлитамаком, отступали с белыми, но когда они уже покидали пределы родных земель, Заки Валиди вступил в переговоры с большевиками, и его войско перешло к ним. Про то, что стало с Шакиром и Ахатом, никто не знал. Никто из ушедших с ними еще не вернулся. Но она все ждала. Ведь были случаи, когда с германской войны через годы возвращались живыми оказавшиеся в плену бедолаги.
Зиму Зухра с семьей Шакира прожили хоть и впроголодь, но еще сносно. Помог припас отца. Всю зиму и так скудные закрома сельчан опустошала продразверстка. Вместе с пустыми подводами с красноармейцами и комиссарами в кожанках в село приходила беда. Они бесцеремонно врывались в амбары, протыкали штыками дощатые полы, сеновалы и выгребали все, вплоть до припрятанного на семена.
Весной нечем было сеяться. Если раньше в неурожайные годы выручали запасы Султанбек-бая и других крепких хозяев, то теперь не к кому было пойти за семенами в долг. Сам бай ушел с белыми, его запасы были полностью выпотрошены, в его добротном доме восседала новая власть. Не было ни справных лошадей для вспашки, ни мужчин.
Постепенно на сельчан надвигался голод. Все запасы закончились, нового урожая не было, да и следующее лето двадцать первого года было засушливым, и зимой начался самый страшный мор, который унес жизнь каждого четвертого башкира, и народ прозвал эти годы «Ҙур аслыҡ», «Йоттоҡ йылы» («Большой голод», «Год проглот»). Вместе с голодом пришел и сыпной тиф. Первой ушла из жизни оставшаяся без хозяина-добытчика Сарбиямал-апай. Родители Шакира умерли так же смиренно, как и жили. Умерших некому было хоронить. Их просто прикапывали на кладбище.
Жизнь вокруг Зухры менялась стремительно. Сестренку Зулейху забрал к себе брат Забир:
– Зухра, идем и ты с нами. Вместе легче будет, не чужие же мы.
– Спасибо, брат, нет. Придет с войны мой Шакир, куда он пойдет, где будет меня искать? – И она осталась совсем одна. После скитаний и заработка на еду тяжелым трудом оказалась в доме Гайши.
Как только к власти пришли коммунисты, мечети закрыли, беднота растащила по домам молельные коврики, большие ковры разрезали на части и поделили между собой. Самого муллу с женой Галией выселили из их большого дома, и они приютились в маленьком заброшенном домике, чуть приведя его в порядок. А в их большом доме устроили школу. Позже Мухаметшу обвинили в связи с Заки Валиди, который, полностью разочаровавшись в советской власти и национальной политике коммунистов, в это время возглавлял басмаческое движение против Советов на юге Казахстана и Узбекистана. Ссылаясь на борьбу с религией, муллу забрали на следствие, и оттуда он уже не вернулся.
Абыстай Галия из дома ушла ни с чем, ей разрешили взять лишь самую малость. И лишенная каких бы то ни было запасов Галия голодала. Узнав про это, Зухра пришла к ней. Та лежала вся высохшая, как мумия. Пожелтевшая кожа обтягивала скулы, но на почти голом черепе еще светились жизнью ее большие глаза:
– Галия-апа, как же так? – сквозь слезы еле выдавила Зухра. – Вы всю жизнь всем помогали, многим не дали умереть с голоду, раздавали пищу и одежду…
– Не плачь, Зухра… Спасибо, что пришла…
– Апа, я ничем не могу вам помочь…
– Помощь не обязательно в подношении, то, что ты пришла, уже милость Аллаха и для меня радость. Слушай меня внимательно. Ты была моей лучшей ученицей. Живи, ты крепкая, умная. Держись за жизнь и никогда никому не кланяйся, знаю, что сейчас живешь на то, что с огромным трудом зарабатываешь. Так и нужно. Не отчаивайся. Сейчас время не для духовных, новая власть отринула веру. Но не всегда так будет, и ты должна выжить, чтобы нести людям веру. Что бы ни случилось, мусульманам будут нужны несущие свет Корана, и ты сможешь это сделать.
Галия, устав, прервала речь, затем достала из-под настила нар небольшую истрепанную тетрадку:
– Вот… Возьми это… Только никому не показывай. В эту тетрадь я сама переписала основные суры Корана, кое-как сберегла. Прочитай внимательно и выучи наизусть суру тридцать шесть «Ясин», мы с тобой не успели это сделать. Когда выучишь, спрячь ее подальше, не навлекай на себя беду. Пророк Мухаммад про эту суру говорил: «Кто прочитает суру «Ясин», стремясь к Богу, тому будут прощены прежние прегрешения. Читайте же ее возле умерших и умирающих людей». Мой Мухаметша всегда говорил об этой суре: «Всякий раз, когда в сложной ситуации читается эта сура, обстоятельства преобразуются, облегчаются с Божественного на то благословения. Чтение ее рядом с умирающим способствует нисхождению милости и благодати Творца, облегчает процесс выхода души из тела…» Ты понимаешь меня, почему я прошу тебя выжить и выучить эту молитву?
– Не совсем, апа, объясните…
– Ты же видишь, сколько вокруг смертей, люди мрут как мухи. Их прикапывают в землю как собак – без обрядов и молитв. А ты выучи эту суру и все время читай, произноси имена умерших, хотя бы так ты сможешь облегчить им уход в мир иной… Скоро уйду и я… Мне будет легче, если буду знать, что моя Зухра, заботясь обо мне, читает «Ясин»…
Так и случилось… Когда через два дня Зухра пришла к ней со свертком припрятанных, оторванных от себя кусочков засохшего хлеба, никто из темной избы не отозвался. Некогда стройная, беленькая абыстай Галия лежала, устремив к потолку остекленевшие, помутневшие глаза…
День ото дня силы и сознание покидали Зухру, но только одно удерживало от спасительного ухода – Шакир. Вот сейчас придет он, а ее нет. Не встречает она любимого, долгожданного. Этим и жила все лихие годы, только вера заставляла работать до потери сознания, чтобы заработать на еду, чтобы выжить, чтобы встретить его…
Как-то по дороге за водой для уборки и стирки в доме Гайши встретился Нурлан – мальчик из команды Асхата по игре с обручем. Увидев и кое-как признав в нем озорного, подвижного мальчика из беззаботного детства, а теперь лысого, израненного, с костылем, Зухра чуть не потеряла сознание и вместо приветствия и расспросов выпалила:
– Нурлан, где мой Шакир?! Вы же вместе уходили! Где он, когда вернется? Не молчи!
Нурлан, потупив взгляд, долго молчал и, заикаясь, глядя мимо нее, сказал:
– Здравствуй, Зухра… Рад видеть тебя живой… Три дня брожу по селу и никого из наших не встречаю. Папы с мамой нет, и даже не знаю, где их могила…
– Где Шакир?!
– Смело он воевал… Он был своим, нашим муллой. Без его молитв никого не хоронили. В бою под Белой церковью нас сильно покрошили, много наших полегло… Погиб он или живой, не скажу, но живым я его не видел, а погибших там мы не смогли похоронить. Уж очень жаркая была битва. Мы отступили…
2
Очнулась Зухра в незнакомом доме, в мягкой постели… Долго лежала, соображая, где она, как сюда попала. Последним в ее сознании всплывало, как хозяйка Гайша, когда и в их дом пришел голод, стало нечего есть, просто выгнала ее из сарая. Боялась, что Зухра здесь и помрет. Зухра долго шла, качаясь, не зная, куда и зачем. Дом отца стоял без окон, полуразобранный на дрова. Опустевшая деревня, в которой не было слышно ни ржания лошадей, ни мычания коров, ни даже лая собак и кудахтанья кур, гогота гусей, улицы, на которых не бегали и не голосили дети, уходила в ночь. Зияли пустыми окнами опустевшие дома, значит, здесь все вымерли, не вернулись с проклятой войны или ушли в поисках пропитания в большие поселки и города. Редко где загоралась лампа: керосина не стало, как и лавок, в которых его продавали. Она шла, не зная куда, хотелось просто лечь у любого забора, закрыть глаза и уйти в небытие…
Перед глазами все расплывалось, и вдруг ей показалось, что ее зовет Шакир. Сквозь шум в голове, сквозь полудрему умирающего сознания: «Зухра! Я здесь, спаси меня…» И ей привиделась картинка: он, раненый, лежит на берегу реки Мендым, истекает кровью, зовет ее. Надо бежать туда! Закрыть руками его рану, дать ему напиться! Но все стало меняться. Вдруг Шакир превратился в того цыпленка, подбитого коршуном и которого «похоронили» здесь. Цыпленок бьется в ее руках, истекает кровью. То вдруг дорогу ей преграждает огромный, как великан, Ахат – вот-вот он, отступая от напора Зухры, наступит на Шакира и раздавит его! Но опять она видит только Шакира – белое лицо, сияющие одухотворенные глаза, полные любви к ней… Она бежит, нет, не бежит, а уже летит к нему. Так стало легко, свободно, вот сейчас она снова будет с ним…
– Зухра, – незнакомый мужской голос вернул ее к действительности. Над ней с деревянной плошкой, от которой вкусно пахло хлебом, наклонился мужчина. – Это я, Фатхелислам-агай, узнаешь меня?
Сквозь пелену, шум в голове и непонятные видения она увидела сначала неясные очертания лица, напряглась и разглядела. Да, это был Фатхелислам-агай…
С германской войны он вернулся с Георгиевским крестом на груди – редкой наградой среди простых солдат. Высокий, статный, с горделивой походкой. Его благородное лицо с неярко выраженными азиатскими чертами обрамляли кудрявые черные волосы. По традиции он не мог отпустить бороду, так как его щеки и подбородок испещрила оспа. Взгляд его карих глаз был цепким и проницательным.
Его род не отнесли бы к состоятельным, одни были в середняках, а кто-то и вовсе бедствовал. Но ходила в округе легенда про одного из дедов Фатхелислама – Кагармана. Мол, он был настолько воинственным и изобретательным, что однажды из дуба выдолбил ствол, как у пушки, из высушенных опилок и каких-то смол и добавок сделал подобие пороха и метким выстрелом снес макушку церкви в селе русских заводчиков Сосновка, что у реки Мендым в сторону Богоявленского завода.
Но уж совсем не приспособленным к этой жизни был его родной отец Фахрислам – ничто не срасталось в его руках, как бы он ни старался. Рассказывали, что однажды в урочище он что-то рубил и, собравшись домой, не нашел свой топор. Долго искал, весь изнервничался и, плюнув на потерю, пошел домой. Когда ему что-то помешало пройти в калитку, зацепившись за ее стойку, только тогда он обнаружил, что топор у него за спиной, подоткнут за пояс. Но одно их объединяло и выделяло среди других – трепетное отношение к родне, за своих они были готовы разорвать других. Не зря их подрод назывался Кансойер, что в прямом переводе – «любящий кровь», в смысловом – любящий кровь как родство, любящий родню.
Все его братья, отцы и деды пели и прекрасно играли на курае. Когда в какой-либо поездке они въезжали в чужую деревню, то уже с околицы запевали старинные протяжные песни, подыгрывая игрой на курае. Рассказывали, что однажды хозяйка, доящая корову, так заслушалась въезжающих в деревню братьев, что не заметила, как корова отошла от нее, а она продолжала «доить» воздух. Они пели так, что восторженные и околдованные жители выходили к ним навстречу, приглашали в свои дома и могли несколько дней подряд поить и угощать певцов, лишь бы слушать их песни.
По возвращении с войны Фатхелислам, повидав мир, посмотрев быт и хозяйство европейцев, с умом взялся и за свое хозяйство. А побывал он в самой Варшаве и всем рассказывал, что это самый красивый город из тех, через которые ему пришлось пройти за время войны. Навоевавшись, ни к красным, ни к белым не пристал. За деловитость и боевой опыт его избрали старостой села, и ему удавалось дипломатично находить общий язык и с белыми и с красными. Многих он спас, взяв под свою опеку.
Однажды село окружили красные, расставили вокруг пулеметы, они чернели, как вороны на поле после вспашки, виднелась и артиллерия. Они поставили ультиматум: если в селе есть хоть один враг и прозвучит хоть один выстрел, то они разнесут село в щепки вместе с жителями. И тогда староста Фатхелислам привязал к палке белую тряпку и пошел к красному командиру и уверил его в том, что никого из белых нет и никто стрелять не будет. Говорят, что его связали, приставили к горлу шашку и так и продержали, пока в село не вошел последний красный.
Но в одном ему не повезло… По древнему обычаю в младенчестве его родители «обвенчали» с девочкой из другой уважаемой семьи. Еще неразумный Фатхелислам, по увещеваниям окружающих взрослых, укусил ухо такой же еще ничего не понимающей девочки, и это было обрядом-подтверждением договоренности. И когда он живой и здоровый вернулся с войны, родители напомнили ему о взятом обязательстве, сосватали и провели «никах» – обряд мусульманского венчания.
Но когда утром он попросил жену полить на руки из кумганчика, то был удивлен тем, что она льет воду мимо рук. Оказалось, что еще подростком она постепенно слепла и сейчас различает лишь свет и тени. Ее родители скрыли эту ущербность, мол, договорились же. И раз никах состоялся, Фатхелисламу ничего не оставалось, как примириться и жить с незрячей женой, выполняя по дому часть женских работ.
– Зухра, ты слышишь меня? – все приговаривал Фатхелислам, осторожно маленькой ложечкой вливая ей в рот мучную кашицу. – Все будет хорошо, не дам я тебе умереть. Вот и щечки твои розовеют, скоро на ноги встанешь…
Через несколько дней, когда утром к ее постели шел хозяин дома, она резко одернула одеяльце, прикрывая обнажившиеся ножки. Фатхелислам от души рассмеялся:
– О, вижу, идешь на поправку!
Через неделю Зухра стала сама передвигаться по дому, удивляясь тому, что в таком добротном хозяйстве нет порядка, и взялась за работу. Расставила по местам хозяйственную утварь, отскребла полы, они заблестели и задышали, постирала грязное белье. К приходу хозяина приготовила еду. Кормила с ложечки уже лежащую на смертном одре слепую жену Фатхелислама. Голод не так сильно коснулся этого дома, так как его хозяин всегда был в поездках, занявшись торговлей, удачно менял товары из степей на товары с уральских заводов.
Между делами Зухра надолго застывала у окна, по привычке глядя на дорогу, ведущую в село: вдруг покажется ее Шакир, вдруг он живой. Вот упустит она его возвращение, и он не будет знать, где ее искать. Шли дни, выученный наизусть «Ясин» она постоянно читала, упоминая имена всех умерших. И надеясь, что эта молитва изменит все в лучшую сторону, – она все еще не верила в смерть любимого Шакира. Но время шло, и, понимая, что уже неудобно здесь больше задерживаться, дождалась возвращения Фатхелислама и сказала:
– Спасибо вам, ага, за спасение. Если бы не вы, давно бы уже лежала в сырой земле… Но я не могу больше вас затруднять и пользоваться вашим гостеприимством и добротой. Уйду я завтра утром…
– И куда же ты собралась, к кому пойдешь? Везде голод, и никому не нужен лишний рот. Чем плохо тебе у меня? Живи, а если неудобно, то считай, что я нанял тебя на работу.
Через год умерла его жена. После сорокадневных поминок у ворот дома Фатхелислама остановился какой-то путник верхом на лошади. Всадник не спеша привязал лошадь к коновязи и, стряхнув с одежды налипший первый мокрый снежок, вошел в дом. И только когда гость, поздоровавшись с хозяином, снял треух, Зухра узнала родного брата Забира – так он сильно изменился за последнее время. Хоть и горькие события последних лет надолго разлучили их, но они никогда не забывали друг о друге. Только когда Зухра в осенний темный холодный вечер чуть не умерла у чужого забора, сам Забир лежал при смерти от тифа. Но чудом выжил, встал на ноги и снова взялся за хозяйство. Неспешно попив с хозяином чай, Забир сказал:
– Фатхелислам-ага, спасибо вам большое за Зухру, не дали вы ей помереть. Всем тогда худо было, и сам я чуть не отдал богу душу, но я не забывал о ней. Наша сестренка Зулейха у меня, тоже чудом выжила, крепкой оказалась, и ей нужна сестра. Разреши мне забрать Зухру в Каранелгу… Да и негоже молодой женщине жить одной у мужчины…
Фатхелислам надолго задумался. Что уж говорить – привык он к ней за это время. И как без такой хозяйки жить, когда он только-только развернулся в торговле.
Голод, обезлюдивший половину села, к этому времени прошел. Вернулись с войн с окраин России сельчане. Коммерсантам, торговцам и крестьянам дали волю, и Фатхелислам стал богатеть на глазах, начал строить новый дом. Все время был в разъездах, отсутствовал неделями. У него появились друзья-компаньоны во всех окружающих селах, и их дом никогда не пустовал – всегда кто-нибудь да ночевал по дороге по своим делам.
Он покупал у сельчан зерно, менял его на заводах на изделия из железа и продавал это потом в степных селах. Народ после войн, разрухи и голода постепенно строился, и весь этот товар был сильно востребован. Зухра не покладая рук работала по дому, обеспечивая Фатхелисламу надежный тыл, и часто он говорил ей: «Сам Аллах послал тебя умирать у моего дома…» И ему казалось, что Забир пришел отбирать у него правую руку. И тут решение само по себе пришло ему в голову:
– Забир-кустым, ты остался за отца Зухры, и поэтому я прошу: отдай мне в жены свою сестренку…
Забир, немного растерявшись от предложения такого уважаемого хозяина, помолчал и, немного подумав, сказал:
– Надо у нее самой спросить…
– Эх, молодежь, забываете вы обычаи предков – если мы сейчас с тобой ударим по рукам, то куда уж она денется. Ну да ладно, время сейчас другое, давай спросим у нее. – И они позвали возящуюся у самовара на женской половине дома Зухру. Неожиданное предложение Фатхелислама застало ее врасплох. Она уже не надеялась на чудо, но все же с каждым годом со все угасающей надеждой продолжала ждать своего Шакира.
– Ладно, вы подумайте, поговорите. А я схожу к Насыру, он хотел мне что-то заказать с Зигазинского завода.
Долго проговорили брат с сестренкой. У каждого из них были свои доводы. Трудно было ей решиться начинать новую жизнь со взрослым мужчиной в качестве жены, но, с другой стороны, за это время она успела привыкнуть к этому дому, много сделала для порядка в нем, и как все это бросать? И к возвращению Фатхелислама у Забира был готов ответ.
Так Зухра после долгих колебаний, переживаний от того, что предает Шакира, стала женой Фатхелислама. Через время он как куколку одел молодую жену, дарил ей недорогие сережки, браслеты, бусы.
Через год случилось то, что полностью перевернуло ее жизнь, сделало ее осмысленной и содержательной – под ее сердцем забилась новая жизнь… Теперь она знала, для чего нужно жить, знала, что все, что она пережила, перетерпела, было именно для этого. И щемящая боль утраты той детской светлой любви к соседскому мальчику, юноше, мужу отошла на второй план. Ее сердце наполнилось материнской нежностью и в то же время ответственностью. Она радовалась тому, что, потеряв столько близких, она даст жизнь новому человеку, восполняющему те большие потери от войн и голода. Ведь так было всегда – погибали воины, мор сжирал тысячи и тысячи, а женщины снова и снова наполняли землю жизнью. И она почувствовала свою сопричастность к великому круговороту жизни… Первой у них родилась дочь – Зайнаб, через два года и сын – Ислам.
Казалось, что во все окружение пришли мир и согласие, что, наконец, новая власть утвердилась и наступила стабильность, но недолго это продлилось. Зухре не забыть тот день, когда в село приехало партийное руководство из Красноусольска, так теперь называли Богоявленский. Всех собрали в клубе – бывшем доме Султанбек-бая, который был увешан красными флагами и лозунгами. На самом главном месте над столом с трибуной висел портрет Ленина. По стенам развешаны печатные плакаты. Зухра давно не видела всех сельчан вместе, и ее поразило то, что состав жителей сильно изменился – из прошлого окружения остались единицы; подросла молодежь, уже полностью преданная коммунистам, и называли их комсомольцами. Они с воодушевлением делали все, к чему призывала их партия, бурно отмечали новые революционные праздники. Самое страшное, что они сделали вместе с руководством, – снесли все мечети в округе, ничего святого для них, кроме Ленина и идеи равенства, не было.
Вожаком этих комсомольцев был высокий, статный рыжеватый Хабир. Сейчас он важно сидел в президиуме, рядом с секретарем партийной ячейки. Зухра узнала его, это был самый младший сын Гайши, у которых она жила в сарае. Тогда ему было лет семь. Отличался он непоседливым характером. Несмотря на голодное бессилие, он лез во все дыры. Не раз снимала его Зухра с крыши: залезет, а слезть не может. И ревет на весь двор – дранки крыши были занозистыми. Снимет его Зухра, сама еле передвигающаяся, и вытаскивает из его худой задницы занозы. А однажды он чуть не захлебнулся в помоях – увидел в грязной жиже какой-то кусочек, похожий на корку хлеба, и полез доставать. Зухра успела увидеть уже мелькнувшие над кадкой босые пятки. Вовремя вытащила его, уже успевшего хлебнуть вонючей жижи. И вот теперь он – вожак комсомола.
Говорили, что никто не соглашался на снос минарета – башенки мечети, в котором долго служил Мухаметша; он еще гордо возвышался и мозолил глаза коммунистам. Но все-таки со временем нашлись такие люди из соседней деревни…
Был хмурый дождливый день, долина реки Мендым была в тумане, горы вовсе исчезли в призрачной белизне, лишь чуть просматривалась гора Караульная. «Бригада», вооруженная лестницами, веревками, топорами и ломами, возглавляемая комсомольцами с красными флагами и лозунгами, торжественно, распевая революционные песни, прошла по затихшей деревне. Вслед им хмурые старушки шептали проклятия:
– Безбожники, чтоб вам пусто было. Мало им тех мечетей, и эту надо порешить. Чтобы вам в аду гореть…
Бригада с песнями и речевками окружила мечеть.
– Столетиями безграмотные и темные муллы обманывали и обирали простой народ, пугали наших отцов и дедов божием наказанием за неподчинение их надуманным законам. Но советская власть дала нам свободу от этого мракобесия, и сегодня мы снесем последний оплот невежества и обмана. Вперед, друзья! – так Хабир, как и положено в таких случаях, произнес свою пламенную речь.
Бригада расставила вокруг мечети лестницы, но они не доставали до высокой крыши. Повозившись, кое-как присоединив несколько лестниц друг к другу, залезли на крышу и первым делом на коньке укрепили красный флаг.
Затем скучковались вокруг башенки, решая, с чего начать. Через время раздался первый стон мечети – они поддели под обшивку минарета лом и стали отдирать доски. Крепкие гвозди, вбитые в просмоленный и высохший каркас из ели выдирались со страшным, визгливым скрежетом, напоминающим надрывный плач. И этот плач, эхом прокатившись по крышам домов, проплывал над всей деревней, отдаваясь болью в сердцах верующих. Башня стонала с каждым выдернутым гвоздем, да еще падающие вниз сухие доски громко хлопали друг об дружку, добавляя трагичности происходящему.
А молодежь хлопала в ладоши и визгом восторга встречала каждую доску, скинутую сверху. И когда от башни остался лишь голый каркас, случилось несчастье. У парня, выдирающего гвоздь, сорвался гвоздодер, он отшатнулся, потерял равновесие, ноги поехали по сырой от дождика крыше, и с самой высоты он упал на доски с торчащими вверх гвоздями…
Но все равно башня за несколько дней была разобрана, крыша как попало залатана, и теперь большое здание мечети использовалось для хозяйственных нужд. Так село лишилось самого высокого и красивого сооружения, потух свет, исходящий от священного полумесяца. И теперь привычный восторженный взгляд на красивый силуэт стройной мечети натыкался на обезображенную крышу. То, что сельчане возводили всем миром, радуясь и торжествуя, было уничтожено группкой безбожников-бездельников. Говорили, что все они позже поумирали от болезней или несчастных случаев.
Когда на следующий день комсомольцы пришли к мечети, чтобы решить, что делать с железной верхушкой минарета с полумесяцем, то оказалось, что среди кучи досок ее нет. Кто за ночь смог унести это тяжелое металлическое сооружение и куда, так и осталось для всех загадкой.
Приезжий важный коммунист в кожаном плаще перед сельчанами держал такую речь:
– Товарищи коммунисты и комсомольцы, селяне! Наша коммунистическая партия, выполняя завещания вождя мирового пролетариата великого Ленина под руководством его верного последователя Сталина семимильными шагами идет к строительству справедливого социалистического общества. Партия взяла курс на индустриализацию страны. Это значит, что во всех городах будут строиться гиганты-заводы, мы будем сами производить машины, трактора, станки и другое оборудование. Скоро во всех деревнях, и у вас тоже, загорится электрический свет. Но для этого нужно увеличить производство зерна и сельскохозяйственной продукции. Наши города задыхаются от недостатка хлеба, мяса, молока и овощей. Индустриализация может не состояться, если мы не обеспечим город в полной мере этими продуктами. А частные хозяйства хоть и производят эту продукцию, но не в достаточной мере, так как они не могут себе позволить покупать дорогую современную технику и все делают по старинке.
Поэтому наше правительство решило избавиться от частных хозяйств и поставить сельхозпродукцию на производственный лад. Для этого принято решение объединить все хозяйства под одну крышу – создать коллективные хозяйства, сокращенно – колхозы…
По залу прошел недовольный ропот и откровенные выкрики против, и лишь молодежь обрадованно захлопала. Оратор дождался тишины и, сверкая стеклами круглых и выпуклых очков так, что казалось, будто у него вовсе нет глаз, продолжил:
– Мы ожидали такой реакции – все новое всегда встречает сопротивление. Но мы не дадим свернуть с пути, намеченного партией. Естественно, первыми будут против кулаки. Они, воспользовавшись новой экономической политикой, мудро введенной великим Лениным, обогатились и продолжают эксплуатировать своих же сельчан. А как мы знаем, наша революция и состоялась для свержения эксплуататоров. Так вот, коллективизация в первую очередь предполагает избавление от этих мелких эксплуататоров. Поэтому все должны сдать все имущество для производства хлеба, весь скот колхозу. Все будет общим! – По залу опять прошел недовольный ропот: «Как это общим, когда такое было?» – Да, да. Все будет общим. Общим все хозяйство, общим труд и урожай, который после сдачи государству будет распределяться по справедливости, по всем семьям.
– Так как это получается? Я работаю не покладая рук, пашу и день и ночь, и поэтому у меня в доме достаток, а сыновья Кельдебая будут лодыря гонять, а получать мы будем одинаково! Не-еее. Я так не согласен!
– Правильно говорит Насыр! Не будет никакой справедливости! Не все одинаково работают!
– Ха, не нравится вам, мироедам! Хватит наживаться за чужой счет, натерпелись мы до революции от Султанбек-бая и его приспешников! Не для этого мы в гражданскую кровь проливали, чтобы нас опять загнали в рабство. Колхозы всех уравняют!
Долго спорили сельчане, но точку поставил приезжий:
– Эта линия партии не подлежит обсуждению. Противники коллективизации будут уничтожены, кулаков-мироедов больше не будет. Вам нужно выбрать председателя колхоза.
Все стали наперебой предлагать своих. Выдвинули и Фатхелислама, мол, был старостой села, толковый и крепкий хозяин. Фатхелислам же сидел в глубокой задумчивости. Он понимал, какие изменения грядут в их жизни – кончилась свобода. Если возьмутся за кулаков, значит, не станет и крепких хозяев, а значит, и его товары будет покупать некому. Советы теперь и коммерцию, торговлю к своим рукам заберут и сделают делом государства, значит, и его дело прогорит. А со слов этого партийца, дело поставлено серьезно, и он слышал в поездках о начале такой работы повсеместно. Поэтому, когда ему дали слово как кандидату в председатели, он тихо и спокойно сказал, мгновенно приняв для себя решение:
– Земляки, спасибо за доверие! Партии виднее, как управлять страной. Наверное, это правильное решение, время покажет. Но среди нас есть люди и моложе, и грамотнее меня, выбирайте из них. Я же сдам свой скот и инвентарь колхозу, но дайте мне заниматься делом, которое хорошо знаю – торговлей для колхоза.
Наконец, выбрали председателя – фронтовика-красноармейца, сына Кельдебая Нурлана.
В конце приезжий сказал:
– Много еще врагов затаилось среди нас, сельчане. Предстоит большая работа по чистке наших рядов, по раскулачиванию. Поэтому вам нужна сильная рука. Я вам представляю уполномоченного ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление) сына Ишмурзы, казненного белогвардейцами, Тимербая. Он возглавит эту работу…
Все затихли. Тимербай встал, он был в кожаной куртке, перетянутой широким кожаным ремнем, на котором висела кобура с наганом. Его возмужавшее лицо, с которого не исчезли жабьи черты, теперь выглядело еще более устрашающим, а его хромота всеми воспринималась как следствие его участия в гражданской войне. Он стал важным и неприступным, и теперь никто не смел называть его обидным «Тимербака». Война научила его жестокости. Особенно он озверел после казни родителей и мстил за это непрестанно. Женился он на Фатхие, выросшей большеглазой, но с несколько нескладной фигурой девушке.
3
Через несколько дней по дворам во главе с председателем колхоза Нурланом, уполномоченным ОГПУ Тимербаем под руку с женой Фатхией, с комсомольцами во главе с Хабиром стала ходить комиссия. Они описывали имущество, чтобы хозяева не утаили от обобществления ни одну единицу скота и ни одну штуку сельского инвентаря. И обязывали сельчан все это сдавать колхозу. Сельчане, сквозь зубы подчинившись новым властям, с плачем расставались с коровами, бычками, телятами и с нажитым добром.