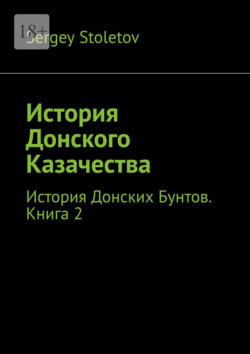Читать книгу История Донского Казачества. История Донских Бунтов. Книга 2 - - Страница 6
ГЛАВА 3
Основные причины
ОглавлениеПриродные богатства и доходные промыслы Донского края привлекали к себе не только беглых из центральной России, на привольные Донские земли устремлялось и духовенство и помещики, что русские, что украинские. Еще с давних пор монастыри на летнее время высылали своих крестьян на ловлю рыбы по берегам Дона. К 17 веку светскими и духовными феодалами успешно и довольно таки плотно были заселены Воронежский и Тамбовский край. К началу века 18, крестьян становится больше и им там становится тесновато и помещечье – монастырская колонизация, как ее именовало большинство советских историков, при поддержки царского правительства стала надвигаться на Дон, оттесняя беглое население все дальше в верховья Дона и к его основным притокам, Хопру, Бузулуку и Медведицы. Немного позднее владения крупных тамбовских землевладельцев князей Репниных, бояр Романовых и Нарышкиных стали соприкасаться с землями донских казаков. По реке Медведице, служилым людям стали раздаваться вотчины «дачи». В Борисоглебском уезде были сплошь помещичьи деревни. Само наступление феодалов помещиков на земли казаков постоянно сопровождались мелкими с ними стычками и столкновениями локального характера.
С 1701 года Посольский царский приказ стал отправлять на Дон, войсковым атаманам грамоты следующего содержания: «сказать казакам городка, что хоперские вотчины епископа ныне отписаны на Великого государя и чтобы казаки в лесные угодья и рыбные ловли этих вотчин не въезжали и шкоды никакой там не чинили, в реках и озерах рыб не ловили, в лесах на зверя не охотились и пчелиных роев не выдирали, леса не рубили и скотины в те угодья не пускали». Примерно с 1704 годов начались открытые столкновения казаков с крестьянами. Так несколько вотчин было отдано на оброк торговому человеку Ивану Анкудинову, где начались постоянные стычки из – за спорных с казаками вотчин. Казаки Пристанского городка предъявили документы на эти земли и потребовали, чтобы Анкудинов со своими людьми их покинул. Тот отказался, тогда казаки приехали вновь сформированную деревню с названием Русская поляна и учинили ему казачий круг. Казаки потребовали, чтобы все крестьяне со своими женами детьми и пожитками убирались с казацкой земли. Самого Анкудинова били и угрожали «кинуть в воду», завладев его вотчиной и разными находящимися там припасами. Из – за растущих сословных разногласий столкновения стали происходить все чаще. Так стычки казаков стали частыми и с азовскими жителями и с «зимовыми» солдатами из крепостного гарнизона. Одно время казаки не давали им ловить рыбу в низовьях Дона, тогда те стали писать челобитные просьбы в Москву, что не могут выезжать далеко на рыбные промыслы по соображениям личной безопасности. Правительство стало на их сторону, а вышедший в скором времени царский указ, запретил казакам заниматься рыбной ловлей в приазовской местности. Наиболее крупное столкновение интересов произошло на Бахмутских соляных промыслах. Там Донские казаки еще издавна, как говорилось «исстари» владели крупными угодьями по рекам Бахмуту, Красной и Черному Жеребцу. Постоянно в той местности донцы не жили, но бывали там наездами и лишь на, то время когда добывали для своих нужд соль. Позднее те земли царской волей были пожалованы полковнику Изюмского полка Шидловскому и конфликт не заставили себя ждать. Начались открытые столкновения казаков с Дона с представителями Изюмского полка из – за добычи соли. Сами изюмцы стали жаловаться на казаков, что те их из городка выселяют, бьют, отбираю имущество, разоряют жилища и отобрали у местных все соляные варницы. Правительство вмешалось в эту распрю и распорядилось составить подробную опись всего Бахмутского городка, всех его соляных заводов и переписать всех его жителей. Позднее было установлено, что Изюмский полк действительно имеет жалованную царскую грамоту от Великого Государя на урочища расположенные по указанным выше речкам. Донские же казаки наезжают в эти угодья, без каких бы то ни было документов, и пользуются солеварнями, полагаясь лишь на право предков. На этом основании было решено спорные с солеварнями земли, оставить за Изюмским полком, а казаков с Дона туда и вовсе не пускать. Такими административными мерами казаки были полностью отстранены от столь выгодного и так нужного в хозяйстве промысла на Бахмуте. Сей акт царского правительства вызвал бурю негодования и протеста по всему Дону.
В 1705 году отстроенный Бахмутский солеваренный завод был полностью разорен и сажен казаками. В это самое время в русской истории и появляется имя донского атаман Кондратия Афанасьевича Булавина организовавшего и возглавившего бунт возмутившихся соляных добытчиков и всю окружную голытьбу, в основном кормившиеся за счет заработков на соляных промыслах. Со следующего 1706 года все Бахмутские соляные промыслы были отписаны на имя самого Государя Петра и переданы в управление Семеновской канцелярии его Величества. На Бахмут был прислан приказной дьяк Алексей Горчаков с поручением описать все убытки, понесенные с пожаром соляных варниц. Донские казаки не только не допустили Горчакова к описи, но и держали его некоторое время под арестом.
К тому времени, как мы писали выше, казачество только формально оставалось не зависимым от правительства и находилось в ведении Посольского приказа. Финансовая политика также стала накидывать ярмо на некогда вольную и беспошлинную торговлю Донского казачества. Так, в Посольский приказ, было направлено обращение, с просьбой упорядочить, сбор пошлин с Донских казаков приезжающих в Астрахань и Царицын с товарами. Так при новых Петровских преобразованиях некогда вольный Дон оказался сосредоточением острых столкновений и противоречий. В этом кипящем от накала страстей котле, переплелись и спутались интересы всех слоев и сословий. Были затронуты традиционные интересы и старого родовитого низового казачества и права и свободы новых верховых казаков и беглого, угнетенного крестьянства, а вместе с ними и корыстные интересы феодалов – помещиков, и духовенства, и правительственных административных чиновников пытавшихся держать все эти нити разнородных интересов в своих цепких руках и по своему усмотрению пытаться контролировать всю эту кипучую людскую деятельность. В общем, к самому началу 18 века, на юго – востоке государства сложились все предпосылки способствующие в полной мере к тому, чтобы классовый антагонизм смог принять открытую форму вооруженного восстания.
2 сентября 1707 года в главный город Донского казачества Черкасск, прибывает царский полковник Ю. Долгорукий, собираясь с Черкасска начать розыск беглых и устроить перепись всего городского населения, для уточнения количества старых казаков. Войсковой атаман Лукьян Максимов со старшинами отклонил перепись, как и сыск новопришлых в самом Черкасске, вручив Долгорукому своего рода оправдательный документ, в котором подробно излагалась причина в недопущении царского полковника к розыску в административном центре Войска Донского. Содержание того письменного отказа было следующим: «в самом Черкасске учинять розыск пришлых людей не возможно, так как до сего времени от Великого Государя на то указа никакого не было, как и не было указа на то, чтобы пришлых людей с Руси на Дон не пускать». Таким образом оградив сам Черкасск от переписи местных и розыска беглых, войсковой атаман со своим старшинами оказали полную помощь и поддержку Ю. Долгорукову в поисках беглых и новопришлых людей вверх по Дону и по его притокам прикомандировав к его отряду знатных старшин. Общая численность царского отряда прибывшего на розыск была около 200 человек, атаман выделил к ним семь старшин и с ними порядка ста рядовых казаков. В таком составе, 6 сентября отряд полковника Долгорукова двинулся по Дону в верховые казачьи городки. Прибыв в Мелихов городок, где Долгорукому удалось задержать порядка 20 беглых людей, он разделил свой отряд на четыре равных группы и разослал их по разным направлениям для дальнейшего сыска. Одну из групп отправленную по Хопру возглавил капитан Н. Тенебеков, а другую отправленную по Бузулуку и Медведице капитан С. Хворов. Сам полковник Ю. Долгоруков отправился с оставшимся отрядом уменьшившемся примерно на половину вверх по Северному Донцу. Пройдя в таком составе десяток новонаселенных городков, он снова отелил от основного отряда группу и с двумя офицерами во главе отправил их далее вверх по реке. Таки образом отряд полковника дробился, а негодование и общее возмущение населения связанное с переписью и сыском усиливалось не по дням, а буквально по часам. Сама деятельность происходила следующим образом, полковник переписывал по станицам и городкам всех наличных старых казаков, саму опись казаки заверяли своими руками, так составлялся список старожилов. Все новопришлые, таким образом, были на лицо и так же заносились в особый список, после чего вместе с семьями под конвоем отправлялись туда, откуда они переселились. Как сам полковник, так и его младшие командиры вели себя с местным населением крайне грубо и даже жестоко. Так капитан С. Хворов ведя розыск по Бузулуку и Медведице пройдя порядка 30 населенных пункта и выслав новопришлых на прежние их места проживания на обратном пути в станице Алексеевской на Бузулуке получил от полковника Долгорукова послание повернуть обратно и возобновить поиски более усердней, так как количество задержанных тот посчитал неудовлетворительным. Хворову пришлось выполнять приказ и возвращаться, за что он впоследствии и поплатиться своей головой. Позднее у полковника Долгорукого иссякли ресурсы в конвойных отправлять всех задержанных пришлых, а наличие их все увеличивалось. Поэтому он стал оставлять пришлых в станицах «до указу». Вероятнее всего полковник, и сам стал, понимать в какие, опасные обстоятельства он сам себя загоняет и какую гремучую смесь из возбужденных и озлобленных людей считавших себя уже новоиспеченными вольными казаками, он оставляет вокруг себя. При столь накаленной обстановке царский полковник, потомственный князь Юрий Долгоруков дошел с отрядом до Шульгинского городка находящегося на речке Айдар. Карательные отряды Ю. Долгорукова производили розыск именно «новопришлых людей», тех, же, кто проживал на Дону более десяти лет и считающих себя казаками старались не трогать. За самой же формулировкой «новопришлые люди» подраумевались различные слои населения со всей территории огромной уже к тому времени страны. Под этими скобками скрывались и служилые люди, и бывшие мелкие посадские служащие, и беглые крестьяне, будь то помещичьи, либо царские, либо монастырские, и бурлаки, и вновь набранные в рекруты солдаты. К началу 1700 года массово строятся и разрастаются городки по Дону и его притокам и густонаселенны они именно новопришлыми, в некоторых из них было ничтожное количество старых казаков, в то время как новопришлые составляли по 90 -95% от общего числа жителей. Бегство с военной царской службы в те годы стало массовым и стихийным явлением. Например, военная служба под Азовом для центральной России считалась особенно ненавистной и большинством населения рассматривалась как место ссылки. Оттуда на Дон, солдаты разбегались целыми толпами. Укрывавшиеся на Дону рекруты, с началом бунта с охотой стали пополнять ряды восставших.
Наиболее активные вольные люди еще с сентября стали собираться в Ореховом Буераке. Во главе них с самого начала стал казак Булавин, тот самый, который еще три года назад, в виде протеста сжег Бахмутские соляные промыслы, отнятые царским правительством у Донских казаков, тот самый ареста которого требовал Долгорукий за историю с дьяком Горчаковым. Булавин в Ореховый буерак созывал казаков с многих городков «думку думать».
В ночь на 9 октября 1707 года Булавин с отрядом в 200 человек, атаковал Шульгинский городок, в котором находился Долгоруков и вырезал практически всех, включая и самого царского полковника. Так началось Булавинское восстание.
В ту ночь 9 октября повстанцы пытались покончить и с казацкими старшинами, сопровождавшими отряд Ю. Долгорукова и оказывавшие ему непосредственную помощь в поимке и переписи новопришлых людей. Повстанцы кричали, ища их по городку: «Черкасских старшин бить до смерти!», так – те старшины «в одних рубахах выскоча из окон едва живыми ушли». За ними было организовано преследование, но под покровом ночи их так и не нашли. Позже восставшие узнали, что бежавшие старшины скрываются в Старом Айдарском городке, за ними ринулись туда, но старшинам и на этот раз удалось избежать расправы. Все, же позднее, а именно через полгода в мае 1708 года все они были казнены по решению собранного в Черкасске военного казачьего круга. Особенно ненавистно для восставших было имя старшины Ефима Петрова, убежденного и ярого приверженца царского правительства. Еще при подготовке к восстанию, будучи в Ореховом буераке его участники уже называли имя Петрова наряду с именем полковника Ю. Долгорукова, как заранее приговоренных на смерть. О самом намерении Кондрашки Булавина напасть и вырезать отряд Долгорукова узнал один из шульгинских атаманов и послал письмо об этом с казаком Новиковым к одному из старшин, находящемся при полковнике. Новиков сообщил, что письмо доставил старшине Савельеву, но сам перешел к восставшим, передал письмо одному из булавинских есаулов и сам участвовал в нападении. Вместе с полковником Долгоруковым было убито 17 человек, среди них князь Семен Несвицкий, капитан Арсеньев, майор Булгаков и другие правительственные военные. Как позднее извещали Посольский приказ уцелевшие от расправы войсковые старшины, а так же офицер Арсеньев брат погибшего капитана из отряда Ю. Долгорукова в Азов губернатору Толстому о гибели своего начальника, что убийцами были «новопришлые люди, которые бежали из разных городков от розыска». Нападение на отряд Долгорукова в Шульгинском городке произвели «многие гулящие русские люди» во главе коих, был Кондрашка Булавин с товарищами своими Иваном Лоскутом и Григорием Банниковым. Воевода Волконский заявлял, что бунт этот начался от беглых крестьян, которые убегают из своих волостей из – за гнета помещиков, но больше всего от военной мобилизации и службы. Анализ документов первого месяца восстания, а именно октября 1707 года подтверждает, слова войсковых офицеров из отряда Ю. Долгорукова, что основной силой восставших являются «новопришлые люди», бежавшие из казачьих городков от начатого Долгоруким розыска, и множества «гуляющих русских людей предались бунту». В ту же ночь 9 октября восставшие не задерживаясь покинули Шульгинский городок.
К 12 октября Булавин пришел в Старый Боровский городок, где был встречен хлебом, вином и медом и проведен в станичную избу к атаману и его старшинам. Там Булавин произнес перед собравшимися речь, обрисовав широкий план всего восстания, наметив с наступлением весны поход на Воронеж и Москву, когда сил для столь славного похода соберется достаточно. Во время горячих, застольных речей не случайно и не раз вспоминали Степана Разина, тем самым официально и публично подчеркивая общую связь двух народных движений с сорокалетней разницей. Тем более с восставшими был и некогда разинский сподвижник пожилой Иван Лоскут, который с досадой говорил, что Степан Тимофеевич «без ума своего, свою голову потерял», надеясь учесть при этом пережитый горький опыт и помочь восставшим в избегании и недопущении прошлых ошибок в великом будущим деле. Именно ненависть к представителям и хранителям крепостнического строя и к правительственному, карательному аппарату ярко выраженного феодального государства вылилось в убийство Ю. Долгорукова, сопровождавших его офицеров и в последующие казни казачьих старшин. Будучи не в силах понять основу социальной природы царской власти как таковой и отражая лишь патриархальные настроения преимущественно крестьянства, восставшие руководствовались в своих поступках обычным, даже примитивным моральным мерилом, а именно, «добрые люди» и «худые», «неправильные», «злые супостаты». Отсюда и холопско – царистская психология, а именно вера и надежда в доброго царя, которая загубила не одно к тому времени народное негодование против притеснителей. К сожалению, эту психологию не поможет перепрошить и живой, деятельный свидетель прежних пережитых им ошибок и великих неудач. Было ведь если помните уже и не раз:
Грешен тем, что в мире злобства был я добрый остолоп.
Грешен тем, что враг холопства, сам я малость был холоп.
Грешен тем, что драться думал за хорошего царя.
Нет царей хороших, дурень… Стенька, гибнешь ты зазря!
Собравшиеся бунтовать казаки еще не понимали или не хотели осознать того, что после взятия Азова при их непосредственной помощи, царским правительством уготовано новое для них государственное положение, а именно статус военных рабов и с их былой волей считаться никто не намерен, а их переформация из людей вольных в закабаленных служак лишь вопрос времени, пусть и по бюрократически растянутый, медлительный и тягучий. Да, бесспорно казаки являлись основной движущей силой всего булавинского восстания, но само казачество к тому времени было уже давно не единым социальным пластом. Среди них были, и богатые и бедные и это расслоение с годами только увеличивалось. Можно с уверенность сказать, что если домовитые казаки и участвовали в восстании, то только как душители и усмирители проявления воли угнетённых, при чем наравне, и ни в чем, не уступая, а особенно в жестокости правительственными войсками и царскими карательными отрядами. Вот они то и усвоили для себя уроки прошлых лет, когда домовитое казачество, убедившись в том, что движение «гулящей голытьбы» напрямую угрожает их шкурным интересам выдали Степана Разина палачам на растерзание.
Основными участниками и движущей силой восстания помимо основного рядового казачества были и станичные атаманы. В основном они не принадлежали к старшиной группе, из лиц, которых избирались общие войсковые атаманы, но являлись как бы администрацией на местах, связанные с управленческим центром, расположенным в то время в самом городе Черкасске. К этой группе атаманов изначально относился и сам Кондратий Булавин, который с 1704 года был бахмутским атаманом. Восставшим сочувствовала основная, большая часть населения Дона, но многие из атаманов сочувствовали, но колебались в своем отношении и участии в самом восстании. Например, атаман Матвей Медведев собрав около 500 человек, так и не решился примкнуть к Булавину.
После того как был учинен разгром и убийство Долгорукова, отряд капитана С. Хворова находящийся в то время в станице Алексеевской на Хопре, запросил защиты у ее атамана Игнатия Крючка. Тот отвез весь отряд в Усть – Бузулуцкий городок, но бузулуцкие казаки отказались у себя принять капитана Хворово с его отрядом и недвусмысленно советовали, атаману с ними расправится. Они ему говорили так: « у нас по Хопру реке ездили такие розыщики, так мы с ними уже управились, отвезли их вон в монастырь так с ними и князь их Долгоруков не хуже убран. А к нам – то их накой возить?!» Игнатий Крючок повез бедолаг обратно в Алексеевскую станицу, но не решался расправиться с капитаном С. Хворовым и другими офицерами из карательного отряда Ю. Долгорукова уклонившись от своего в том участия. Солдат он предупредил: «учинится ночью возмущение и крик… бегите и укрывайтесь в лесу». Крик действительно учинился и солдаты разбежались. Позже Хворов был убит в станице Акишевской вместе с войсковым старшиной Василием Ивановым, поручика Беднякова вновь вернули в станицу Алексеевскую и там утопили.
Весьма осторожничал и атаман станицы Федосеевской, Федор Дмитриев, изначально взявший под свою защиту царских офицеров Тенебекова и поручика Ладыгина, но не смог их уберечь от разъяренных казаков и они были изрубленными утоплены. За это дело позднее был арестован сам атаман Дмитриев и замучен в застенке Преображенского приказа. Не знал, как поступить и к кому примкнуть атаман Шульгинского городка, Фома Алексеев, у которого в городке и вспыхнул изначально вооруженный мятеж. Его сын еще в сентябре ушел к Булавину, а сам атаман к восставшим так и не примкнул, но и отказался ехать по приглашению Ю. Долгорукова, на выслушивание государева указа обязывающего производить сыск и перепись беглых людей на Дону. Атаман станицы Акишевской, Прокофий Никифоров, погиб вместе с офицером Хворовым из отряда Ю. Долгорукова, пытаясь защитить его от расправы, так и не разобравшись, сам в себе, на чьей он стороне.
На самом первом этапе восстания, открыто в нем участвовало порядка 200 человек. Буквально через каких – то три – четыре дня, когда Булавин вошел в Старый Боровский городок, у него в отряде насчитывалось порядка 1000 бойцов и войско продолжало расти. Малые казацкие городки по верхнему Дону стали активно переходить на сторону повстанцев. Однако войско еще не было настолько сильно. 18 октября приняв первый бой на речке Айдар, с походным войском атамана Максимова и Петрова укрепленное многочисленной калмыцкой конницей близ Закотенского городка потерпели поражение, хоть и бились до самой поздней ночи. Тогда часть восставших, в основном недавних крестьян разбежалось, другая часть сдалась атаману Лукьяну Максимову, некоторые были захвачены в плен калмыками. Сам атаман Булавин с Лоскутом и Банниковым, вырвавшись из окружения, пойманы не были и скрылись на Хопре. Оттуда они перебрались в Запорожскую Сечь и часть зимы провели в крепости Кодак на берегу Днепра. Той зимой с Кондратием Булавиным находились всего 12 верных сподвижников. В начале февраля к нему приехало еще около 40 человек с Дона.
Сама расправа над взятыми в плен повстанцами носила зверский устрашающий характер. Как доносил сам войсковой атаман Лукьян Максимов « носы срезали более чем 100 человекам иных плетьми били нещадно и в города русские под конвоем выслали, некоторых из зачинщиков порядка 10 за ноги на деревьях повесили для устрашения перед их станицами еще 10 к себе в Черкасск отвезено для казни». Как докладывал в Москву Максимов со своими старшинами, что «воровство Кондрашки Булавина мы искоренили, теперь будет во всех казачьих городках смирно» Так они видимо действительно считали, но восстание далеко не было подавлено, а взяло паузу для зимовки.
ВТОРОЙ ЭТАП БУЛАВИНСКОГО ВОССТАНИЯ.
После того как Булавину удалось выйти из окружения на Айдаре, он с близкими ему людьми октябрь – ноябрь скрывался в лесных чащах Хопра, Бузулука и Медведицы, оттуда удалось перебраться в Запорожье, где кошевой Тимофей Финенко с куренным атаманов предложили Булавину перезимовать в Кодаке. В январе Булавин отправился в Запорожскую Сечь, поездка та была видимо связана с грамотой Мазепы, который требовал от кошевого атамана выдачи Булавина. На войсковой раде было решено выдать Булавина, но на следующий день войсковая рада переменило свое решение «бросили и изодрали» гетманскую грамоту и говорили, что в войске Запорожском никогда такого не бывало, чтобы выдавать властям бунтовщиков. За то, что кошевой атаман Финенко пытался задержать Булавина в Сече, его с атаманства скинули и выбрали атаманом Константина Гордеенко, который разрешил в свою очередь набирать Булавину «охотников» для продолжения своей борьбы. В Москве получив тревожные известия от воеводы киевского Д. Голицына, что Булавин собирается с единомышленниками своими и хотят идти на Русь бить бояр опечалились. Мазепа так же сообщал, что Булавин находится близ Самары, и сделал там крепость, которую невозможно разорить ружьем, а необходимы пушки. Центром движения восстания стал Пристанский городок, куда со всех сторон и стали стекаться восставшие. Сам Пристанский городок находился на берегу Хопра. Позднее, после подавления восстания, жителей мятежного городка как в принципе и большинства других населенных пунктов по Хопру будет ждать печальная участь. Многие будут казнены, основная масса населения принудительно расселена по обширным донским степям или угнана обратно в Россию на возделывание помещичьих наделов. Сам городок сравняют с землей, на его месте будет отстроена крепость Хоперская, с царским гарнизоном, позднее преобразуясь в город Новохоперск.
К марту в Пристанском городке собралось многотысячное войско, как описывают очевидцы, были сформированы отряды повстанцев в основном по 500, 300 и 200 человек. Пока отряды в схватки не вступали, а занимались в основном, как сейчас бы сказали, диверсионной деятельностью, а именно «отгоном лошадей» с государственных дворов под Тамбовом, ездили с агитационными целями по селам и деревням, разбивали воеводские дворы и приказные избы, всячески препятствовали снабжению основных правительственных войск.
До подхода Булавина к городку, там энергично и довольно таки успешно действовал атаман Хохлач, находившийся в постоянной с ним переписке. На письмах и на агитационных посланиях или как их называли в то время «прелестных письмах» остановимся более подробней, так как они играли огромное значение и действовали убедительной пропагандой и на казаков, и на крестьянское население во многих уездах центрального Черноземья России. Воззвания к казакам призывали их вставать «сыну за отца, брату за брата и другу за друга, стоять и умереть за одно, ибо супостаты зло на нас помышляют, жгут нас и казнят напрасно…». Восставшие взывали, чтобы половина казаков с каждого куреня была готова к походу и чтобы казаки из станиц съезжались на совет в Пристанский городок. Среди зажиточных, домовых казаков предпринимались, ответные попытки объединится против восставших и в противовес булавинским агитационным письмам они рассылали по казачьим городкам свои, в которых предлагалось высылать по 110 человек от каждого городка в станицу Усть – Медведицкую для сборов на борьбу с ворами и смутьянами.
Сами воззвания по казачьим городкам и по русским деревням и селам были полны ненависти к угнетателям, к злым боярам и царским прибыльщикам. Так помещичьи и монастырские деревни Тамбовского и Козловского уездов были полностью охвачены восстанием. В деревнях восставшие крестьяне хватали обученных грамоте подьячих и заставляли читать во всеуслышание «воровские письма», призывавшие местное население к аресту дворян и тех же подьячих и отправки их в центр восстания.
Повстанцы, что в письмах своих, что в словесных агитациях всегда подчеркивали, что им нет дела до солдатни и драгун, их дело воеводы и начальные люди. В литературных архивах еще сохранились живые тому свидетельства, например «Воззвание от Кондратия Афанасьевича Булавина и всего съездного войска» из Пристанского городка «к посадским торговым людям и всяким черным людям» Съездное войско заверяет вас люди посадские, торговые и всякие черные работяги, обиды от нас никакой не опасайтесь, мы призываем вас лишь стоять с нами за одно, «между собой вражды никакой не чинить, напрасно никого не бить, не грабить и не разорять».
В письме к воеводе С. Бахметьеву, Булавин вновь упоминает: «нам нет дела до торговых людей». Атаман Донецкого городка Колычев, так же заявляет, чтобы купеческие люди шли в Черкасск и на Дон и вели там торговлю без всякого на то опасения.
Не менее 15 —ти писем было обращено и к самому царю Петру от повстанческого Войска Донского, именно от Булавина с его соратниками, но целью их были благородные мотивы, а именно спасти Дон от полного разорения. Булавин, как и Хохлач, и Колычев просили царя отозвать полки и карательные отряды, выдвинувшиеся на Дон для их усмирения.
Изначально в своих письмах казаки ставят вопрос о защите своих прежних укладов и традиционных порядков на Дону. Эта тема затрагивается в девяти сохранившихся письмах, полных стремления утвердить в казачьем Войске, все по-прежнему, по казачьим обыкновениям, по старинке, «Чтоб у нас в Донском казачьем Войске было все по-прежнему, как при дедах и отцах наших». В одном из последних писем скрыто условие, при котором казаки согласны оставаться верноподданными Государя, а именно если царь подтвердит соответствующим указом и милостивой грамотой не только свое милосердное прощение, но и казачье право «жить по-прежнему», по казачьим традициям и обычаям.
Еще одним оплотом восставших стал город Борисоглебск, в Воронежском уезде, расположенный на реке Вороне. Повстанцы туда зашли в начале апреля, Борисоглебский воевода не стал дожидаться расправы и бежал из города еще в марте. До их прихода городскими делами управлял Филимон Катасонов. Повстанцы собрали всех жителей на городской площади и «учинили казачий круг», на котором из местных жителей, самими жителями был выбран городской атаман. Главой Борисоглебска стал Кондратий Кожевников, а его есаулом избрали Семёна Поробина. С этого времени в городе стали начальствовать выборные атаманы и есаулы. Борисоглебск после этого еще долго считался «бунтующим городом», так в октябре, воевода Г. Волконский писал А. Меньшикову: « городок Борисоглебск, как и весь уезд до сих пор с ними с ворами в бунте пребывает». После взятия Борисоглебска восставшие двинулись на Тамбов. Воевода Д. Голицын писал царю Петру, что, мол, восставший вор Хохлач, с множественным войском разорил все прилегающие к Тамбову села, а сам город взял в осаду. Многочисленное городское население, получив для защиты города порох, не осталось в городе, а вышло из него и разбрелось по деревням и селам. Вероятно, на них подействовала словесная агитация казаков и общая сложившаяся к тому времени обстановка. Хохлач держал Тамбов в осаде порядка двух недель, после чего был вынужден от города отойти, так как к нему в экстренном порядке стягивались правительственные полки воеводы С. Бахметьева и курского воеводы А. Гагарина. Большинство крестьянского населения Тамбовского уезда было на стороне или сочувствовало восставшим. Многие крестьяне из тех мест еще годом ранее бежали на Медведицу и не Хопер, где в то время укрывали и не выдавали беглых. Так в 1708 году практически все жители села Талецкого перешли к Булавину, оставшиеся же крестьяне были весьма доброжелательно к восставшим настроены.
К 1708 году Булавинское восстание Донских казаков стало приобретать все основные признаки крестьянской войны. Очаг восстания разрастаться с огромной скоростью и охватил не только Дон и Придонье, но и Украину, Поволжье и большинство уездов центральной России. Во всех приграничных с Доном областях крестьяне стали выступать совместно с булавинцами. Затрепетали помещики по Воронежским, Тамбовским, Козловским, Симбирским, Белгородским, Пензенским и Шацким уездам. Самостоятельно выступают отряды под командованием крестьянских атаманов Гаврилы Старченко на Волге, крестьянские отряды Боровиченко, в Каширском и Ярославском уездах. Активно действуют отряды атамана Сеченого в Галицком уезде, а также огромное множество малых партизанских отрядов. Самостоятельный крестьянский атаман Гаврила Старченоко в течение нескольких лет оставался грозой на Волге в районе от Костромы до Нижнего Новгорода. Воеводы жаловались в своих челобитных царю: «Старченко захватил все дороги по Волге и по суши, от чего нет проезда, ни на ладьях, ни на лошадях». Помещики бежали из своих разграбленных поместий, ища спасения и защиты от своих восставших крестьян за стенами укрепленных городов. Отряды Гаврилы Старченко вступали в бесстрашные вооруженные столкновения и с войсками вотчинной администрации и с правительственными подразделениями. Десятитысячное войско восставших выступало по всем правилам военной мысли того времени, используя и пушки и знамена, а приказы командиров дублировали барабанщики грамотным барабанным боем. По Волге Старченко ходил впереди своей флотилии на раскрашенном казацком струге и близ Нижнего Новгорода, напав на караван царских судов, захватил крупный полковой арсенал.
Сам царь Петр весьма опасался того, чтобы Булавин «не возмутил и азовских солдат», о чем не раз писал В. Долгорукову, а губернатора Азова спрашивал в письмах: «Ежели Черкасский городок не удержится, имеешь ли надежду на своих солдат?» Насколько далеко распространились отголоски казачьего восстания от его центра, может служить тот исторический факт, что кто – то ночью в мае «воровскими призывами» исписал ограду Нижегородского Кремля. Все эти надписи красовались на заборе Кремля больше месяца и волновали умы местного населения, так как растерявшийся городской воевода Никита Кутузов не знал что – предпринять, кроме как приставить к надписям часовых и ждать распоряжений из центра, как ему поступить. Царь Петр писал по этому поводу: «воровские подписи… не мешкав стереть», «а ты воевода Кутузов дурак… надо бы учинить тебе наказанье…» Да видно с замиранием сердца ждать директив из центра, есть основная профессиональная черта русского чиновничества на все времена.
ПОХОД на ЧЕРКАССК
На основном казачьем круге, было принято решение выдвигаться походом на Черкасск, через Паншин городок, как сухим, так и водным по Хопру путем.
Готовясь к походу на Черкасск, Булавин рассылал письма и призывал хоперских, бузулукских и медведицких казаков и бурлаков собираться в Пристанском городке. Хохлач так же писал письмо в станицу Усть – Бузулуцкую чтобы всех пришлых туда бурлаков отсылали к нему в Пристанский городок. Оттуда к нему явилось множество казаков, и бурлаки, среди которых были и пешие и конные были присланы все поголовно. Около Булавина еще с самого начала 1707 года собралось множество бурлаков, как их называли, «бесконных, безоружных и безодёжных».
Правительство стало принимать ускоренные меры по борьбе с восставшими. В Москве были созданы крупные военизированные подразделения для усмирения бунтовщиков и отправлены под Тамбов. Командующим над отрядами был поставлен воевода С. Бахметев. По пути следования к нему было еще прикомандировано около 500 драгу и примерно столько же солдат из Воронежа. Ну и этих мер царю Петру показалось не достаточно, и он в экстренном порядке, а именно в апреле вызывает гвардии майора В. Долгорукова приходившемуся младшим братом убитого казаками Ю. Долгорукова. Все наличные полки Бахметева поступали в распоряжение нового командира Долгорукова, к нему из Москвы было направлено еще два драгунских полка. Так же на борьбу с восстанием была отправлена бригада Шидловского, по половине Ахтырского и Сумского полков. Мазепой был послан Полтавский и Компанейские полки. Позднее царь Петр отправил на восставших дополнительно драгунский полк Кропотова, Ингерманландский и Бельсов полки и батальон Преображенского полка во главе с майором гвардии Ф. Глебовым. Кроме всего прочего правительство провело мобилизацию среди служилых людей, освобождая от нее лишь престарелых и калек. В. Долгорукову было предписано набирать себе дворян и царедворцев сколько их, возможно, сыскать в Москве. Правительство в целом возлагало не малые надежды именно на дворянское ополчение. Будучи непригодными вследствие своей технической отсталости в войне со шведами, дворяне являлись грозной силой в войне гражданской, благодаря своим шкурным интересам, на почве коей возникала классовая их сплоченность на общем фоне страха и ненависти перед восставшими. Под начальством В. Долгорукова была собрана внушительная вооруженная сила в количестве около 32 тысяч человек. Столь внушительное количество показывает, насколько серьезно правительство оценивало масштабы восстания. Для сравнения в то самое время, а именно в начале Северной войны вся русская армия насчитывала менее 40 тысяч военнослужащих.
В самом Черкасске войсковой атаман Максимов так же провел мобилизацию среди низового зажиточного казачества, к ним для усиления прибыл военный отряд полковника Васильева из Азова и отряды конных калмыков. В таком составе объединенный отряд выступил из Черкасска навстречу восставшим. Встреча двух воюющих сторон произошла 8 апреля немного выше Паншина городка, на реке Лисковатке. Верховые казаки не ринулись сломя голову в бой, а решили провести с восставшими казаками переговоры. На следующий день к ним в стан явился от Булавина парламентер и от его имени предложил избежать напрасного кровопролития разобраться и найти виновных. При внезапной атаке передовой булавинской конницы, верховые казаки практически в полном составе перешли на сторону восставших. Остальные были разбиты и рассеяны. Сам Лукьян Максимов отошел в Черкасск, а Васильев с остатками отряда укрылся в Азове. После той победы, путь на Черкасск был открыт и восставшие Булавинские отряды, двинулись в главный город Великого войска Донского.
Узнав о победе Булавина и его походу к Черкасску, царь Петр пишет В. Долгорукову, чтобы тот как можно быстрее спешил на Воронеж и следил за тем, чтобы ничего не случилось в Азове и Таганроге. Положение было настолько серьезным, что решили распустить слух о личном походе царя против восставших. Это было нужно, прежде всего, как определенного образа тактическое действие с расчетом оказать идеологическое воздействие на восставших. Как бы устрашая их царским гневом внести в их ряды раздор и распри.
28 апреля передовые булавинские отряды вышли к Черкасскому так называемому острову. Само географическое расположение города с его укреплениями, усиленные башнями и артиллерией делали его практически неприступной крепостью. Но брать штурмом город не пришлось, так как еще до этого Булавину было направлено письмо от казаков «Милости просим. Когда ты изволишь к Черкасскому приступить?» Письмо означало, что путь к Черкасску для него открыт. В самом городе к этому времени произошел переворот, сместили атамана Лукьяна Максимова и 1 мая вошедшему в город Булавину выдали его вместе со знатными старшинами, сопровождавшими Ю. Долгорукова и оказывавшими ему всяческую поддержку при розыске пришлых по донским городкам. Множество знатных старшин было арестовано и посажено «на цепь», а некоторых вместе с семьями разослали по самым верхним городкам.
9 мая 1708 года на общем казачьем сходе Кондратия Булавина выбирают войсковым атаманом. Первый этап восстания закончен. Главный город Войска Донского взят, ненавистные старшины, предавшие, новопришлых и беглых – казнены, избран новый повстанческий атаман, который устроит чаяния и надежды и рядового казачества и новопришлого населения, так мечтающего о донских вольностях.
Булавин решает попробовать укрепить свое новое положение законно выбранного войскового атамана в глазах московского правительства и царя. К тому времени он развивает кипучую административно – организационную деятельность, которая отражена в содержании его майских писем. Он спешит укрепить связи Войска Донского с Запорожской Сечью, с Кубанью и с калмыками. Он пишет царю, пишет в Посольский приказ, а так же многим царским воеводам. В качестве войскового атамана он требует, чтобы с Воронежа ему доставили казацкое жалование, а из Донецкого городка прислали артиллерийский запас. Посылает азовскому губернатору Толстому ультиматум о выдачи имущества казненных старшин находящиеся на хранение у определенных лиц в Азове. Пишет ультиматум, Киевскому губернатору предлагая немедленно отпустить из Белгорода арестованных жену и сына.
Сподвижники Булавина не бездействуют, а так же рассылают множество писем. Так атаман Колычев сообщает в письме воеводе Тевяшову о исполнении приговора казачьего суда и казни старшин и о законном избрании Булавина, изображая тем самым события на Дону как «ссору между собою», и просит сообщить в Москву, чтобы не предпринималось никаких репрессий со стороны правительства, так как Донские казаки желают служить великому государю Московскому и чтобы правительство отправляло «государевы припасы» на Дон и чтобы торговые люди без всякого опасения приезжали торговать со своими товарами.
Между тем восстание растет и ширится и повстанческое руководство отдает приказ 13 мая выступать на защиту донских городков и населения, на которые с разных сторон надвигаются правительственные войска. На совете было решено разделить силы восставших, так Некрасов пойдет в направлении Хопер – Волга, Драный выдвигается по направлению к Изюму, Голый, на линию Острогожск – Воронеж. Между атаманами идет постоянная переписка и согласование общих действий. Так атаман Иван Павлов, осадивший Царицын, обращается за поддержкой к камышенцам, другой атаман Носов сообщает Некрасову о выдвижении воеводы П. Хованского.