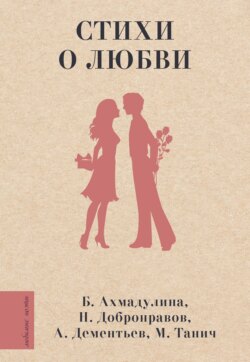Читать книгу Стихи о любви - Роберт Рождественский - Страница 3
Белла Ахмадулина
ОглавлениеНежность
Так ощутима эта нежность,
вещественных полна примет.
И нежность обретает внешность
и воплощается в предмет.
Старинной вазою зелёной
вдруг станет на краю стола,
и ты склонишься удивлённый
над чистым омутом стекла.
Встревожится квартира ваша,
и будут все поражены.
– Откуда появилась ваза? —
ты строго спросишь у жены. —
И антиквар какую плату спросил? —
О, не кори жену —
то просто я смеюсь и плачу
и в отдалении живу.
И слёзы мои так стеклянны,
так их паденья тяжелы,
они звенят, как бы стаканы,
разбитые средь тишины.
За то, что мне тебя не видно,
а видно – так на полчаса,
я безобидно и невинно
свершаю эти чудеса.
Вдруг облаком тебя покроет,
как в горных высях повелось.
Ты закричишь: – Мне нет покою!
Откуда облако взялось?
Но суеверно, как крестьянин,
не бойся, «чур» не говори —
то нежности моей кристаллы
осели на плечи твои.
Я так немудрено и нежно
наколдовала в стороне,
и вот образовалось нечто,
напоминая обо мне.
Но по привычке добрых бестий,
опять играя в эту власть,
я сохраню тебя от бедствий
и тем себя утешу всласть.
Прощай! И занимайся делом!
Забудется игра моя.
Но сказки твоим малым детям
останутся после меня.
* * *
Ни слова о любви! Но я о ней ни слова,
не водятся давно в гортани соловьи.
Там пламя посреди пустого небосклона,
но даже в ночь луны ни слова о любви!
Луну над головой держать я притерпелась
для пущего труда, для возбужденья дум.
Но в нынешней луне – бессмысленная
прелесть,
и стелется Арбат пустыней белых дюн.
Лепечет о любви сестра-поэт-певунья —
вполглаза покошусь и усмехнусь вполрта.
Как зримо возведен из толщи полнолунья
чертог для Божества, а дверь не заперта.
Как бедный Гоголь худ там, во главе бульвара,
и одинок вблизи вселенской полыньи.
Столь длительной луны над миром не бывало,
сейчас она пройдёт. Ни слова о любви!
Так долго я жила, что сердце притупилось,
но выжило в бою с невзгодой бытия,
и вновь свежим-свежа в нем чья-то власть
и милость.
Те двое под луной – неужто ты и я?
* * *
О, мой застенчивый герой,
ты ловко избежал позора.
Как долго я играла роль,
не опираясь на партнёра!
К проклятой помощи твоей
я не прибегнула ни разу.
Среди кулис, среди теней
ты спасся, незаметный глазу.
Но в этом сраме и бреду
я шла пред публикой жестокой —
всё на беду, всё на виду,
всё в этой роли одинокой.
О, как ты гоготал, партер!
Ты не прощал мне очевидность
бесстыжую моих потерь,
моей улыбки безобидность.
И жадно шли твои стада
напиться из моей печали.
Одна, одна – среди стыда
стою с упавшими плечами.
Но опрометчивой толпе
герой действительный не виден.
Герой, как боязно тебе!
Не бойся, я тебя не выдам.
Вся наша роль – моя лишь роль.
Я проиграла в ней жестоко.
Вся наша боль – моя лишь боль.
Но сколько боли. Сколько. Сколько.
* * *
Дождь в лицо и ключицы,
и над мачтами гром.
Ты со мной приключился,
словно шторм с кораблём.
То ли будет, другое…
Я и знать не хочу —
разобьюсь ли о горе
или в счастье влечу.
Мне и страшно, и весело,
как тому кораблю…
Не жалею, что встретила,
Не боюсь, что люблю.
* * *
Из глубины моих невзгод
молюсь о милом человеке.
Пусть будет счастлив в этот год,
и в следующий, и вовеки.
Я, не сумевшая постичь
простого таинства удачи,
беду к нему не допустить
стараюсь так или иначе.
И не на радость же себе,
загородив его плечами,
ему и всей его семье
желаю миновать печали.
Пусть будет счастлив и богат.
Под бременем наград высоких
пусть подымает свой бокал
во здравие гостей веселых,
не ведая, как наугад
я билась головою оземь,
молясь о нем – средь неудач,
мне отведенных в эту осень.
* * *
Я думала, что ты мой враг,
что ты беда моя тяжёлая,
а ты не враг, ты просто враль,
и вся игра твоя – дешёвая.
На площади Манежной
бросал монету в снег.
Загадывал монетой,
люблю я или нет.
И шарфом ноги мне обматывал
там, в Александровском саду,
и руки грел, а всё обманывал,
все думал, что и я солгу.
Кружилось надо мной враньё,
похожее на вороньё.
Но вот в последний раз прощаешься,
в глазах ни сине, ни черно.
О, проживёшь, не опечалишься,
а мне и вовсе ничего.
Но как же всё напрасно,
но как же всё нелепо!
Тебе идти направо.
Мне идти налево.
* * *
Не уделяй мне много времени,
вопросов мне не задавай.
Глазами добрыми и верными
руки моей не задевай.
Не проходи весной по лужицам,
по следу следа моего.
Я знаю – снова не получится
из этой встречи ничего.
Ты думаешь, что я из гордости
хожу, с тобою не дружу?
Я не из гордости – из горести
так прямо голову держу.
* * *
Мы расстаёмся – и одновременно
овладевает миром перемена,
и страсть к измене так в нём велика,
что берегами брезгает река,
охладевают к небу облака,
кивает правой левая рука
и ей надменно говорит: – Пока!
Апрель уже не предвещает мая,
да, мая не видать вам никогда,
и распадается иван-да-марья.
О, жёлтого и синего вражда!
Свои растенья вытравляет лето,
долготы отстранились от широт,
и белого не существует цвета —
остались семь его цветных сирот.
Природа подвергается разрухе,
отливы превращаются в прибой,
и молкнут звуки – по вине разлуки
меня с тобой.
* * *
По улице моей который год
звучат шаги – мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход
той темноте за окнами угоден.
Запущены моих друзей дела,
нет в их домах ни музыки, ни пенья,
и лишь, как прежде, девочки Дега
голубенькие оправляют перья.
Ну что ж, ну что ж, да не разбудит страх
вас, беззащитных, среди этой ночи.
К предательству таинственная страсть,
друзья мои, туманит ваши очи.
О одиночество, как твой характер крут!
Посверкивая циркулем железным,
как холодно ты замыкаешь круг,
не внемля увереньям бесполезным.
Так призови меня и награди!
Твой баловень, обласканный тобою,
утешусь, прислонясь к твоей груди,
умоюсь твоей стужей голубою.
Дай стать на цыпочки в твоём лесу,
на том конце замедленного жеста
найти листву, и поднести к лицу,
и ощутить сиротство, как блаженство.
Даруй мне тишь твоих библиотек,
твоих концертов строгие мотивы,
и – мудрая – я позабуду тех,
кто умерли или доселе живы.
И я познаю мудрость и печаль,
свой тайный смысл доверят мне предметы.
Природа, прислонясь к моим плечам,
объявит свои детские секреты.
И вот тогда – из слёз, из темноты,
из бедного невежества былого
друзей моих прекрасные черты
появятся и растворятся снова.
* * *
Какое блаженство, что блещут снега,
что холод окреп, а с утра моросило,
что дико и нежно сверкает фольга
на каждом углу и в окне магазина.
Пока серпантин, мишура, канитель
восходят над скукою прочих имуществ,
томительность предновогодних недель
терпеть и сносить – что за дивная участь!
Какая удача, что тени легли
вкруг ёлок и елей, цветущих повсюду,
и вечнозеленая новость любви
душе внушена и прибавлена к чуду.
Откуда нагрянули нежность и ель,
где прежде таились и как сговорились?
Как дети, что ждут у заветных дверей,
я ждать позабыла, а двери открылись.
Какое блаженство, что надо решать,
где краше затеплится шарик стеклянный,
и только любить, только ель наряжать
и созерцать этот мир несказанный…
Прощание
А напоследок я скажу:
прощай, любить не обязуйся.
С ума схожу. Иль восхожу
к высокой степени безумства.
Как ты любил? – ты пригубил
погибели. Не в этом дело.
Как ты любил? – ты погубил,
но погубил так неумело.
Жестокость промаха… О, нет
тебе прощенья. Живо тело
и бродит, видит белый свет,
но тело моё опустело.
Работу малую висок
ещё вершит. Но пали руки,
и стайкою, наискосок,
уходят запахи и звуки.