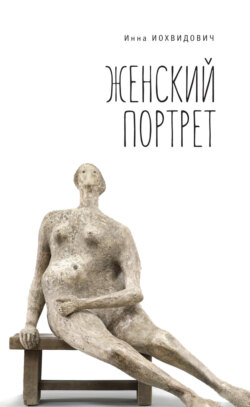Читать книгу Женский портрет - - Страница 4
Хроника насильственной смерти
ОглавлениеМы никогда не задумываемся над тем, как произошедшее событие порождает другое, себе подобное.
Так, казалось бы, забытая за своей далёкостью насильственная смерть человека, каким-то приглушённым эхом звучит в повседневной жизни его семьи и не только семьи, но и всех остальных людей, входящих в эту семью или оказавшихся в опасной близости к ней.
Итак, всё началось в 1937-м, приснопамятном году, образованием первичной ячейки советского общества – созданием семьи энкаведиста Василия Плюева и заочной слушательницы Промакадемии, выдвиженки в советскую торговлю, Клавдии Селиверстовой. Правда, собирались они пожениться через год или два, да Клава забеременела, и ячейку пришлось создавать досрочно.
В помощь своей Клаве привёл Василий деревенскую девушку, ровесницу жене, Матрёну, называть её стали Мотей. Он не сказал жене, что девушка из «раскулаченных», и что паспорта у неё пока нет.
«Когда многое жене известно, это плохо!» – иногда думал Василий. Естественно, он не сообщил и того, что отнял у беспомощной Моти её девство, и теперь имел в квартире как бы и двух женщин – жену и полюбовницу.
Родился сын – плотный крепыш, отец назвал его Олегом, уж больно ему нравилось, как в ДК НКВД читал артист из филармонии пушкинского «вещего Олега».
Малыша, в просторечии, по-домашнему звали Алькой. Василий жил, не тужил, со своей Клавой, и с Мотей, которая возилась с подраставшим Алькой. Сынишка к ней даже больше привязался, чем к матери.
Войну семья провела за Уралом, в эвакуации. Каждый трудился на своём «участке» – он в НКВД, она в советской торговле, Мотя по дому – и домработницей и нянькой.
В 1944-м вернулись в Харьков, а в феврале 1946-го Клава снова родила. И как по заказу, на этот раз, девочку, для полного комплекта. Василий хотел назвать её Светланою, как и дочь И.В. Сталина, но Клава заупрямилась, она хотела по-особому, по-иностранному.
А тут ещё, во время беременности исторический роман ей подсунули про Жанну д’Арк. И решила Клава назвать дочку Жанной. Муж сначала ни в какую, это ещё чего, на фоне-то борьбы с низкопоклонством перед Западом. И хоть он мужик суровый был, да Клавдия Сергеевна своё селиверстовское упрямство да силу выказала.
И снова, как некогда Альку, бросили Жанну на руки Моте.
А Клавдия Сергеевна умчалась на свою уже ответственную работу – старшим товароведом промторга.
Мотя души не чаяла в девочке, ведь Олежка вырос, уже и в школу ходил, и Моти стеснялся, платочка у неё на голове, того, как она по-своему, по-деревенски, звала со двора.
А Василий Петрович, как его по имени-отчеству продолжала именовать Мотя, тот уж давно поостыл к ней, у него были другие, городские, шикарные крали, и Мотя не обижалась. На что? Да и куда уж ей!
Так шли годы, пока в 1952 беда не случилась. Дело-то было тёмное, никто ничего наверняка не знал, гроб на похоронах вскрывать не разрешили. Клавдии Сергеевне плюевское начальство принесло соболезнования, сообщив, что супруг её погиб при исполнении служебного долга, и что несовершеннолетним сиротам его, Олегу и Жанне, до их совершеннолетия пенсия назначена.
Клавдия сохранила спокойное достоинство, как и полагалось вдове погибшего «при исполнении служебных обязанностей» работника Министерства государственной безопасности.
На кухне, у плиты, тихо плакала по убитому Мотя, по нему спасителю (от Сибири ведь охранил) и благодетелю, единственному, в конце концов, мужчине в её незадавшейся жизни.
К тому времени для окружающих она уже превратилась из Моти в Платоновну. Так величали её по отчеству не только соседи и Клавдия Сергеевна, но и дети – Алик с Жанной.
Время текло.
Как-то и не заметили, как к их дому прибился человечек небольшого роста, с намечавшимся брюшком, Леонид Григорьевич Зегермахер, еврей. Хоть Платоновне и не впервой было видеть еврея, да так близко не случалось никогда. И хоть раньше не только покойный Василий Петрович, да и сама Клавдия Сергеевна нацию эту не жаловали, и анекдоты в гостях любили порассказать, да и за глаза вовсе и не евреями называли, а иначе, по-другому, обидно, а вот, поди ж, ты, взяла себе этого…
Леонид Григорьевич, как и Клавдия Сергеевна, был торговым работником, и познакомились они на курсах повышения квалификации ответственных работников совторговли.
Зегермахер был женат и имел детей, но Клавдию Сергеевну это не смущало. Твёрдой рукой увела она его из семьи, чтобы восстановить неполную свою.
Леонид Григорьевич не мог противиться Селиверстовскому напору, он и в прежней семье был подкаблучником, да Клавдия Сергеевна оказалась намного властней его бывшей жены, и её натиску он ничего не мог противопоставить.
Альку, наконец-то, благодаря хлопотам Клавдии Сергеевны, забрали в армию. А то ведь несколько лет уклонялся он от армии, скрывался, исчезал… Но недаром Клавдия Сергеевна была женой, вернее вдовой, работника Органов. Именно она выследила своего непутёвого сына, именно она «сдала» его в руки милиции. Когда перед армией прощались, сказала она ему: «Это твой долг перед Родиной! Не позорь покойного отца!» Он ничего ей не ответил. А Клавдия после его отъезда вдруг залилась слезами, когда услыхала на Алькиной пластинке – рентгеновской плёнке, любительскую запись приблатнённой песенки: «Моя милая мама, я тебя не ругаю, что меня ты так рано под закон отдала». Леонид Григорьевич потрясённый смотрел, как рыдает его «железная» Клавдия, а Жанна в обнимку с Платоновной испуганно косились на неё.
Алька пошёл по родительской стезе, во внутренние войска, может по анкете прошёл, а может это Клавдия Сергеевна постаралась, кто знает, в охрану ИТК. Он даже фотографии присылал, со сторожевой овчаркой, и на вышке. Клавдия Сергеевна, показывая фото, хвасталась сыном перед немногочисленными знакомыми.
Жанна вошла в отрочество сексапильным, хоть и неоформленным подростком. И стала влюбляться почти во всех знакомых ей мальчишек подряд, но что небезинтересно, и они влюблялись в неё.
Каждый вечер, в любую погоду, уходила Жанна гулять, чтобы ровно в 22:30 быть дома. В своём подъезде вытирала она ватой накрашенные глаза и ресницы, размазывала слюной пудру и румяна, чтобы предстать обыкновенной ученицей пред грозные очи своей родительницы. Матери Жанна боялась больше всех на свете, об отце воспоминания были по-детски смутными. Впрочем, Клавдию Сергеевну побаивались и остальные домашние – Лён (так называла его Платоновна) Григорьевич, и сама Матрёна Платоновна. Алька был далеко, он всегда был далеко, наверное, и потому, что тоже матери боялся.
Жанна не то, чтобы полюбила любовные игры, она просто жить без них не могла. Наслаждение от них было ни с чем несравнимо, и в эти мгновения она забывала даже о материнском гневе.
Это случилось в то лето, когда перешла она уже в 10-й класс.
Он был очередным её парнем, крепкий, рослый, он очень нравился ей, но ненамного сильней, чем нравились ей другие. Они занимались её любимым занятием, любовным «баловством».
Это много позже она узнала, что название этому её занятию – «глубокий петтинг», то есть неполный сексуальный контакт.
Неожиданно Вовка, так звали его, резко изменил ход движения своего фаллоса, ласкавшего её гениталии, вероятно, ему надоело играться.
– Что ты делаешь, Вовка? – закричала она, – мы же так не договаривались! Мне же больно, идиот! – она изо всей силы дубасила его кулаками по спине.
Но ничего не помогло…
Плача, она размазывала кровь по внутренней поверхности бёдер, и сквозь слёзы, как заведённая, повторяла: «Что я теперь маме скажу?!»
Вовка же Калугин, что был старше её, ему было в осеннем призыве в армию идти, лишь довольно посматривал на неё, и вдруг, удивляясь самому себе, сделал предложение.
– Жанна, если хочешь, мы можем пожениться перед армией. Ты ж знаешь, я тебя люблю. Ну, не плачь. Хочешь, поедем сейчас к тебе домой, а потом ко мне и объявим о нашем решении?
– Нет, – Жанна решительно покачала головой, представив свою, разъярённую этой новостью, мать или калугинского отца, из старых большевиков, он тоже, как и её отец, раньше в Органах служил, а нынче был персональным пенсионером союзного значения.
– Нет, – ещё раз повторила она, – мы никому ничего не скажем, э т о будет только нашей тайной.
Внутренне содрогаясь перед ужасной возможностью забеременеть, они с Вовкой, занимались этим почти ежедневно, помногу часов кряду, до самого его ухода в армию. Жанна входила во вкус.
Проводы были шумными и невесёлыми. Выпивши, бывший сотрудник Органов кричал: «Мы (было непонятно, о ком это он ещё кроме себя говорит) виноваты в смерти Павлика Морозова. Мы не уберегли мальчика, а ведь это был наш долг!»
С сыном, на следующий день, у военкомата он попрощался сухо. Зато Жанна отрыдала своё, как законная, то ли жена, то ли невеста. Она и сама толком-то не знала, чего так плачет, ведь Вовка ей малость и поднадоел своей ласковостью, да слюнявостью, как заладит: «люблю, люблю…»
В армию письма она писала исправно, да встречалась и «любовью занималась» с другими ребятами. Но всё что-то не те попадались. Со всеми с ними было как-то одинаково, механически, словно все они близнецами были. Она не знала, кого или чего хочет, знала только – необычного, захватывающего, всепоглощающего.
Она себе и не представляла, каким зазывающим, ищущим, жадно страстным стал её взор. Даже Клавдия Сергеевна поняла, что дочке её пора пришла, да некогда ей было об этом задумываться за приготовлениями к свадьбе сына, а рождение внука, Серёжки, будто и вовсе преобразили «железную» Клавдию.
Оставшаяся как бы без присмотра, Жанна наконец нашла того, кого искала. Она познакомилась с ним случайно, на одном из вечеров интернациональной дружбы. Высокий, совершенно чёрный, с танцующей походкой, и всеми африканскими чертами: толстогубый и приплюснутоносый малиец.
Мамаду стал первым из её негритянских любовников. С ним было л е г к о. И таким же, непрерывно танцующим, влекомым одному ему слышными ритмами, он оставался и в любви, когда вёл её за собою в любовном танце. С ним, под его руками, со звенящими серебряными цепочками-браслетами, она познала своё тело, ей открылись ранее неведомые тайны, обитавшие внутри него, желания и устремления. И, если в последний год поглощённая сексуальными открытиями она продолжала так же панически бояться матери, то нынче в любовном дуэте с Мамаду исчез страх…
Но вскоре Мамаду закончил подготовительный факультет в университете, и его направили в другой город, в институт. На перроне горько рыдала Жанна над обретённым, и тут же теряемым суженым.
Но, как оказалось, в Харьковских вузах и на подготовительном отделении университета учились, кроме Мамаду, много негров, которые тоже, как и Жанна, жаждали любви.
Жанна поступила на факультет иностранных языков университета, на французское отделение. Поэтому ей ещё легче было контачить с выходцами из бывших французских колоний. Но почему-то особенно много дружков у неё оказалось из бывшего Руанда-Урунди, потом королевства Бурунди, крохотного, пятнышком на карте, государства.
Даниэль и Эммануэль, Венеран и Поль, все они были оттуда, и все они, поочерёдно, были её любовниками. Но она вновь, как и до уроженца Мали Мамаду, искала его, своего. И он появился, и имя ему было – Этьен, друг её дружка, на тот момент, Венерана.
К тому времени Жаннины похождения с неграми не были для Клавдии Сергеевны секретом, но какие бы действия мать не предпринимала, всё было безуспешным. Жанна и не подумала отказываться сначала от «них», а позже от Этьена.
Клавдия Сергеевна не только устраивала скандалы и угрожала, она попробовала и запугивать дочь (через первый отдел университета), и старалась действовать не только «кнутом», но и «пряником» – покупала в «Берёзке» для Жанны различное дорогостоящее шмотьё, меха, обувь, косметику, парфюмы, и, напрасно, ничего не получалось!
Этьен оказался для Жанны всем – заменой погибшему отцу; внимательным и заботливым другом; великолепнейшим любовником (давшим фору всем-всем!) Она полюбила его, не только прекрасно сложенное, грациозное, гибкое, как у балеруна или акробата, чёрное тело его, но и лицо с тонкими, практически европейскими чертами, и удлинённые пальцы, и голос его тихий, и осторожность повадки, и утончённость манер. Всё в нём для неё было милым, родным, ничего не вызывало раздражения, отвращения, чувства чуждости или чужества… Она сама хотела быть им, перевоплотиться в него, существовать внутри него или под кожей его, самой иметь такой же цвет кожи; в конце концов, слиться с ним воедино и навсегда.
В Этьеновой гибкости пробивалась бережность, и Жанна любила засыпать в его объятиях.
Чтобы быть хоть чуточку схожей с ним, она стала принимать сеансы кварца у знакомой физиотерапевтши. И теперь всегда, даже зимой, среди знакомых и сокурсников она, загоревшая, налившаяся счастьем, бросалась в глаза, как апельсин своей оранжевостью на снегу. Это был пик, кульминация, зенит её молодости…
Правда, дома, все, кроме Платоновны, воспринимали происходящее супертрагично. Скандалы с криками, визгом, битьём различных предметов были практически всегда, стоило Жанне переступить порог.
– Я бы с ним на одном гектаре ср…ь не села! – истерически вопила железная Клавдия, – как тебе не противно, фу, черномазый, черножопый… С ними ж только проститутки связываются. Да и то те, кто уже в «тираж» вышли, никому не нужные, – уже вяло ругалась она.
Жанна предпочитала не отвечать, чтобы не вызывать у матери новых приступов ненависти. Мать же, почти всегда говорила одно и то же. Много такого же приходилось им с Этьеном выслушивать и на улице в свой адрес. Оказалось, что до появления африканцев никто и не подозревал о залежах нашего, хоть и доморощенного, но оголтелого, расизма. А мы то, ничтоже сумняшеся, считали нашу многонациональную страну традиционно антисемитской! А неграм ещё тяжелее наших евреев пришлось! Те хоть форму носа у пластического хирурга изменят; «отрихтуют» позвоночник, чтобы не сутулиться; да глаза будут прятать, чтоб не выдать себя взглядом, полным вековечной тоски.
А неграм что прикажете делать? То-то и оно, что ничего! Жанна почувствовала себя беременной как раз тогда, когда Этьен собрался на каникулы домой.
Уже два года были они вместе, и она, с какой-то непонятной для себя горячностью умоляла и уговаривала его – не ехать! О ребёнке они уже договорились, что она будет рожать. Он мягко, но настойчиво отстаивал своё право на отъезд, на встречу с родителями и с Родиной.
Он не захотел, чтобы она поехала его провожать, а она-то собиралась поехать с ним в Москву, и дождаться посадки в самолёт.
Через неделю от него пришла открытка из Каира, ничего не значащие милые слова…
Больше ей не довелось его увидеть.
Он исчез в этом громадном мире, и от него не осталось н и ч е г о, потому, как от плода, Жанна с помощью матери избавилась.
С матерь стали они лучшими подругами! Она поддерживала дочь в те минуты, когда от горя молодая женщина, не знала ни где она, ни что с нею. Она не находила себе места ни в квартире, ни на даче, ни у самого Чёрного моря, ни в кругу вожделеющих кавалеров. Внутри неё всё было, как будто выжжено и пусто, так же пусто, как и в абортированной матке.
Жанна не могла даже на него, на Этьена сердиться, злиться, ненавидеть за то, что бросил, оставил, обманул. Зато уж Клавдия Сергеевна и Платоновна отводили душу, называя его и мерзавцем, и подонком, подлецом и изменником… Да к тому же, они никогда не забывали ещё и пройтись по его расовым признакам.
Жанна, если бы даже и захотела примкнуть к их хору, она бы физически не смогла сделать это, изнурённая своим несчастьем. В ней только беззвучно проносились и произносились вопросы: «За что? Как? Почему?» И не слышала она их проклятий.
Что было ей делать? Как жить дальше? И можно ли было жить, после любви? И стоило ли жить п о с л е? Что мог дать ей этот мир п о с л е? Или она миру? Ведь собственными руками, пусть и с материнской помощью, уничтожила она плод своей любви, их любви. Но предстояло жить там, где не было его, и где ничего не напоминало о том, что он и был? Иногда, в прострации, она спрашивала себя: «А был ли он?» И думала, что сходит с ума.
И снова выручала мать, что была подле, оказывалась рядом всегда. И если б не она, кто знает, что бы с Жанной произошло. Вполне вероятно, могла бы в изнеможении и руки на себя наложить, чтоб не длить эту боль.
– Мама, мамочка, прости меня, глупую меня… – расплакалась она, полгода спустя после его отъезда, – а я ещё, идиотка, хотела сбежать от тебя с ним.
Клавдия Сергеевна, железная Клава, рыдала вместе с дочерью, радуясь её выздоровлению и мучаясь неизбывной перед нею виной. Ведь «исчезновение Этьена» было делом её рук. Измучавшись, в бесплодной борьбе с дочерью она пошла в Органы просить о помощи. Во имя погибшего при исполнении мужа, во имя тех «услуг», которые, пусть время от времени, но уже давным-давно оказывала она им, просить пустячка: чтоб не выдали этому черномазому въездную визу в СССР. И. ещё, чтобы ничего не объясняя намекнуть тому, что и писать сюда некому и незачем. «Там» пошли навстречу просьбе Клавдии Сергеевны, так как ценили многолетнюю опытную секретную сотрудницу, к тому же ещё и «родственно» с «ними» связанную…
Клавдия Сергеевна не предполагала, что дочь отреагирует столь отчаянно, и что горе её будет столь безмерно…
Это ещё раз убедило Клавдию Сергеевну в собственной правоте – дочь жила чувствами, а не разумом, и потому она, Клавдия Сергеевна, должна была «руководить» её жизнью. Сама она – Селиверстова К. С. поступила правильно, и не о чем было сожалеть!
Вскоре, и тоже не без помощи Клавдии Сергеевны, сыскался первый Жаннин мужчина, отвергнутый ею после прихода из армии Вовка Калугин, это было в пору их с Этьеном любви. Жанну он по-прежнему обожал, а вскоре и свадьбу сыграли.
Отец Калугина, старый большевик и гепеушник, незадолго до свадьбы умер, похороненный по «чину», через панихиду в ДК УВД им. В.И. Ленина и могилой на почётной аллее. Потому и свадьба прошла без его пьяных выкриков о судьбе Павлика Морозова, а с музыкой «Битлз» на бобинном магнитофоне.
Клавдия Сергеевна сияла. День этой свадьбы был днём её победы над треклятым негром, днём её торжества над дочерью, днём её правоты… Её, на самом деле, днём!
Жанна с мужем жили в небольшой коммуналке, только с одним соседом. Жанна отходила душой в калугинской ласке, и в нежности, покое, и какой-то беспечной надёжности, она была почти счастлива…
Единственным, что нарушало, почти идиллию, было пристрастие мужа к спиртному. И Жанна для того, чтобы он выпивал меньшую дозу, начала пить с ним вместе.
Через год у них родился мальчик, Павлуша, ведь покойный Калугин, приходившийся новорожденному дедом, звался, как и его кумир, Павлик Морозов, Павлом тоже.
Жанна занялась разменом квартиры, чтобы жить им в изолированной, с мужем начались у неё нелады.
Как-то пьяный муж замахнулся на неё, а протрезвев, на коленях вымаливал прощение. В следующий раз, тоже пьяным, случайно разбил вазу богемского стекла, и Жанна, пытавшаяся его как-то образумить, оказалась от его толчка на полу, сидящей на осколках.
А уж апофеозом их неудавшихся семейных отношений стал Жаннин ожог – когда пьяный муж (трезвым он уже не бывал никогда) обварил ей кипятком ногу. К тому времени его уже выгнали не только с заочного отделения политеха, но и из таксопарка, где он таксистом работал.
Жанну забрала «скорая», а с Павлушей осталась вечная нянюшка – Платоновна. Клавдии Сергеевны к этому моменту уж полтора года как не было. Пожалуй, сразу, после памятного для неё дня свадьбы, стало ей худо. Сильно болеть начала она. Позже обнаружили у неё одну из редких форм рака, и она всё бессилела и бессилела, и ничего не могла поделать не только в судьбе сына, брак его распадался из-за его бесконечных похождений, но и в жизни любимой дочери, которую уже не могла ни оберечь, ни защитить. Следовало, по мнению умирающей, бросить это пьяное ничтожество, пусть даже остаться одной с ребёнком на руках. Платоновна в конце концов есть, выдюжит. Но сама она только и могла, что с тревогой наблюдать, как постепенно и для дочери спиртное становится необходимостью (женский же алкоголизм – мгновенный!) И если она станет зависимой от алкоголя, думала, содрогаясь, Клавдия Сергеевна, то это будет ещё большим злом, чем её влечение к дикарю-негру.
Сжавшись от боли, уж непонятно и какой, смотрела Клавдия Сергеевна в затуманенные глаза дочери и сожалела о содеянном.
Клавдия Сергеевна, хоть и была «железной», последних земных испытаний болезнью, болью, семейными напастями, не выдержала.
Она «ушла» сама.
Леонид Григорьевич, наверное, переживал больше всех в семье. Алька – сын, был занят своей новой любовницей и хлопотами о разводе. Жанна с мужем запили на пару и безостановочно, по поводу смерти матери и тёщи. Платоновна вся была поглощена ребёнком, а ей уже трудно было, немолодой, управляться с ним.
На похоронах рыдающий Леонид Григорьевич собственноручно порезал джерсовый костюм своей покойной жены, чтоб никакой бандит-гробокопатель на него не позарился.
Однако уже через два месяца Леонид Григорьевич жил с женщиной, очередной властной натурой и был в «контрах» со своими бывшими пасынком и падчерицей по поводу раздела имущества. Его новая «руководящая» супруга требовала, чтобы подлецам-детям – распутнику и пьянчужке, бывшей негритянской «подстилке», ничего не досталось.
Брат с сестрою затеяли было с Леонидом Григорьевичем судиться, да и полугода не прошло, как сам Л.Г. Зегермахер лежал в гробу, закрытом, как и когда-то их отец. Оказалось, что Леонид Григорьевич ехал в рыбпромхоз, договариваться о продаже свежей рыбы магазину, где он директорствовал.
В «бобик», в котором он ехал на всей скорости врезался, то ли «Камаз», то ли «Белаз», и все в машине мгновенно погибли, невредимым остался лишь баллон с живыми зеркальными карпами, который Леонид Григорьевич держал у себя на коленях. Он хотел рыбкой новую супругу побаловать.
Жанна всё занималась обменами, они с мужем, ребёнком и Платоновной жили уже в четвёртой квартире.
Обмены на какое-то время отвлекли Жанну от прекраснодушия после бутылки, стали чем-то вроде азартной игры. А мужа своего она презирала. Он всё больше в сексе хотел, и всё меньше мог, и она не могла сочувствовать ему в его мужской слабости. Кроме того, он не мог заработать даже себе на стакан, и крал деньги у неё или умудрялся выпрашивать у Платоновны.
Жанне только осталось констатировать, что была права покойная мать: он оказался пьяным ничтожеством.
Стала Жанна развлекаться на стороне. Дома её раздражало всё и все – и пьяный муж, и вечный беспорядок, Платоновна не справлявшаяся ни ребенком, ни с хозяйством, вечно канючащий сын… и, решила Жанна, не зная, что идёт по стопам покойной матери, сдать своего благоверного в ЛТП (лечебно-трудовой профилакторий для алкоголиков). Что благополучно и сделала, избавившись, хоть на какое-то время, от постылого. Она и представить себе не могла, что избавилась от Владимира Калугина навсегда, что после ЛТП он исчезнет, растворится в миллионной армии бомжей, кочующих по Союзу, а может и быстро погибнет, кто ж про то знает? «Там» в «антимире» смерть имеет хороший покос.
Хоть и стала Жанна «соломенной» вдовой, но не опечалилась, правда в рюмку заглядывать стала чаще.
Но и на этот раз от алкоголизма её спасло увлечение, на этот раз не обменом квартир, и не какой-либо игрой, и вообще не чем, а кем!
Был это интересный мужчина, лет на семь младше. И Жанна вроде как влюбилась?! Мужчины, понятное дело, не переводились у неё никогда, но чтоб влюбиться, для неё, это «после того» – сложно было. А тут возьми и случись! Прямо-таки – солнечный удар, и она отдалась этой своей уже запоздалой страсти, и смогла увлечь его.
Несмотря на противодействие, и активное, его матери, они поженились.
Жанна страстно хотела детей от любимого, до бешенства хотела. Павлушка, сын её от Калугина был не в счёт, да и скорей он приходился то ли сыном, то ли воспитанником престарелой Платоновне.
Но обе её беременности, одна за другой, оказались внематочными, и после операций она родить не могла, но ещё и как бы уже не – женщиной осталась.
Муж устроился работать в пуско-наладочное управление, и чаще отсутствовал, в командировках, чем бывал дома.
Жанна всё больше душевно тяжелела и вымещала свою неприкаянность и маяту на старухе Платоновне да на, волчонком глядящем, сыне.
Чаще и чаще напивалась она в одиночку, и сама уж не помнила, что́ с нею и было.
Как и почему это «страшное» произошло она толком и припомнить не могла.
Мальчишку, как он не упирался, она отправила на две смены в пионерлагерь, на весь свой отпуск, она тогда работала воспитателем в «группе продлённого дня». Они остались в квартире с Платоновной вдвоём. По отпускному обыкновению она напивалась с утра, и на весь день укладывалась спать, а перед ночью или посреди ночи заглатывала очередную порцию, и снова засыпала.
Почему она вдруг решила поехать к бывшей однокурснице, она бы и сама объяснить не смогла. Смутно только припоминала, что поссорилась со старухой, наказать её захотелось, оставить одну-одинёшеньку, чтоб знала! Чтоб не бурчала, чтоб ей «лекций», безграмотная, не читала, чтоб место своё – прислуги – знала! Забыла уже, как тебя когда-то подобрали, не дали сдохнуть голодной смертью неблагодарная! Вот тебе, вот тебе, вот тебе… – она не смогла бы сказать, с точностью, как ударила, и сколько раз проделала «это», только знала, что было!
И, выходя, на пороге крикнула старухе: «Подыхай, как собака!» И, когда закрывала дверь на ключ, желала ей, ох, как желала, смерти!
Вернулась Жанна домой через три дня, успокоенная, решив помириться с противной старухой, ведь они не почти же, а родственники, ведь Платоновна и её, и Альку, и Павла вырастила.
Недолго искала Жанна в притихшей квартире Платоновну, та лежала утопленницей, в ванне. И когда Жанна с криком схватила старуху за руку, то увидела, как набухла кожа на её пальцах, в точности как после стирки белья.
Жанна после смерти Платоновны будто очнулась. Прониклась вниманием к мужу и к сыну, и стали они вроде бы нормально жить. И обменяла она страшную квартиру на другую, и муж ушёл с работы, связанной с командировками, а Павлик учился хорошо, и с ним не надо было делать уроков.
Однако недолгим было затишье, муж начал заикаться о том, что может им лучше разойтись, а Жанну снова начала одолевать тоска, и она поначалу по чуть-чуть, только чтоб пригубить, потом же пошло настоящее питиё… И мужа, всё ещё любимого, стала помаленьку приучать. Не самой же пить, раз до беды дошла.
Сначала он не хотел, а заводил разговор, как бы разбежаться им в разные стороны, а всё ж, по её получилось, заставила она его пить. И постепенно муж и возлюбленный, отец не рождённых ею детей стал типичным алкашом. Недаром в день их свадьбы его мать истошно кричала, что быть беде, что на собственную погибель повстречал он эту Жанну, что околдовала она его, что конец ему пришёл…
Как накаркала, старая карга, так и случилось!
В один прекрасный день болтался он в петле и своим вывалившимся языком, будто дразнил Жанну, будто показывал, что смог уйти от неё, ускользнуть, сбежать…
После такого удара Жанна даже видимости нормального существования не создавала, она пустилась во все тяжкие. Стала путаться с пьяным молодняком, чуть ли не с подростками.
Поломала ногу, та неправильно срослась, и она хромала с палкой в руке и с бутылкой в сумке.
Она уже не думала ни об уважении, самоуважении, чувстве собственного достоинства и прочем, а желала только бутылку на день да мужика на ночь.
Если мужчина её и не удовлетворял, она не обижалась, знала, что́ самой нужно сделать – для достижения оргазма.
Во время наступившей после перестройки смуты её разбил паралич.
И, умерла бы, так не дали. Очнулась Жанна в палате интенсивной терапии. Не разбирала она, ни где это она, ни что с нею, а главное – кто она?
Навещать её в больнице было некому.
Алька-брат, как когда-то и первый муж, Вовка Калугин, пропал, словно сгинул в бескрайнем пространстве России. Оказался он бизнесменом-неудачником, неполадившим с доморощенными, но скорыми на расправу мафиози. Вот и в бега бросился, а скорей всего его уже и в живых не было.
Сын же Павел, названный когда-то в честь деда-гепеушника, давно был законченным наркоманом.
Персонал и администрация больницы, через милицию, настояли, чтобы он навестил мать.
Вот и встретились ещё живые, мать и сын, взглядами одинаково невидящими и неузнававшими…