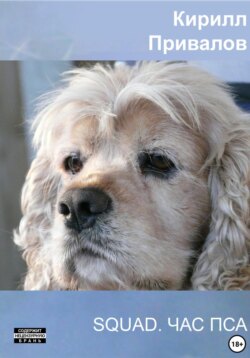Читать книгу SQUAD. Час Пса - - Страница 2
Гошкин дом
Оглавление«Хорошему человеку бывает стыдно даже перед собакой»
А.П.Чехов
«Страшное захоронение обнаружено в Завейске, в Северо-Западном федеральном округе, при строительстве многоэтажного здания в черте города. Когда стали вскрывать грунт для укладки фундамента, рабочие наткнулись на многочисленные останки животных. Эксперты по костям и черепам без труда определили забитых собак. Сотни тушек! Начато следствие по делу о кладбище собак. Вероятнее всего, злоумышленники массово охотились на бродячих псов с целью снятия с них шкурок, которые в дальнейшем шли на меховую переработку. Следственное управление СК РФ по Северо-Западному федеральному округу проводит проверку по факту случившегося, сообщили в пресс-службе ведомства. Редакция «Криминального патруля», как всегда, будет держать вас в курсе расследования…»
Гошка добрил «жилетом» правую щеку и перешёл к левой. Из некогда дефицитного, почти музейного (кто-то сегодня звучно скажет: «винтажного») вэфовского приёмника, стоящего на полке в ванной комнате, плотным потоком, как фарш из мясорубки, лезли новости. Какая дурацкая привычка: непременно слушать ленту новостей, когда бреешься! Но разве хозяева мы нашим привычкам?.. После порции рекламы – неестественно сладкий голос зазывал взять заманчивый кредит «всего-навсего под 18 процентов в год!» в банке с красиво звучащим псевдоевропейским названием – вновь пошла водопадом свежая информация.
Дежурная хроника, неизбывная часть жизни в обществе, почему-то называемом «демократическим». «Ложь успевает пройти полмира, пока правда надевает штаны», – утверждал Уинстон Черчилль. Нобелевский лауреат по литературе был прав лишь наполовину: постправде, которой нас пичкают сегодня, одеваться вообще не нужно – голые факты нам давно заменили комментариями.
«…В Завейске, в пригородной зоне, найден труп мужчины, умершего – по предварительной оценке криминалистов – от полученных им многочисленных укусов. Тело жертвы предельно обезображено. Характерная деталь: у погибшего, видимо, ставшего добычей стаи диких собак, перекушено горло. Данный случай, увы, не единичен. Напомним, что подобным образом за последние месяцы в том же самом Завейске и другие люди – всего около десяти человек – были убиты таким же образом. Стаи бездомных собак замечены в разных районах города и терроризируют жителей. Полицией возбуждено уголовное дело по фактам преступления…»
Гошка, конечно, не обратил бы на эту макабрическую всячину никакого внимания, если бы не одно весомое «но». В сообщениях назывался как место преступлений город Завейск. Можно было бы этого факта не замечать. Но Гошке вечером предстояло ехать, согласно купленному им железнодорожному билету, в этот самый «преступно-собачий» Завейск. И отвертеться от этого вояжа невозможно. Дело было семейное. Как говорят на Кавказе: вопрос крови.
Кроме того, в Гошке едва заметно для него самого заиграло профессиональное ретивое: чем не заход для многообещающей сюжетной интриги – чуть ли не нравы диких джунглей в центре не самого малого промышленного города? По давней репортёрской памяти Георгию вдруг захотелось разобраться в деталях обвала смертей в Завейске. Почему бы не тряхнуть стариной, в конце концов? Тема-то ведь классная! В двадцать первом веке звери терроризируют людей, подумать только… В конце концов, не в саванне же живём.
Сколько журналистских расследований на его счету! Он всегда считал, что любая мало-мальски интересная тема существует только для того, чтобы он, Гошка Распоров, взялся за ее раскрутку. Встречаются же иногда люди, жадные до работы! Особенно, когда дома тебя никто уже не ждёт, а работа сопряжена с командировками и к тому же захватывающая, нестандартная. Распоров принадлежал именно к этой не столь уж и редкой в наше сумасшедшее время дикого посткапитализма человечьей породе. Свободный – с недавних пор – от супружеских обязательств, охочий до новых встреч и впечатлений, финансово независимый… Марш в поход, труба зовёт! Тем более что с годами он научился доверять своей интуиции. Что она, скажите на милость, если не наше второе «я»? Надо лишь уметь найти и включить в себе, как повернуть тумблер генератора, это альтер эго.
В приёмнике зазвучал аккордеон с узнаваемой мгновенно бархатной французской мелодией, и приятный мужской голос с едва заметным «авторским» пришепётыванием принялся повествовать о странном феномене:
«С двенадцати лет Альбер Дадас из Бордо убегал из дома. В конце девятнадцатого столетия он шёл куда его глаза глядят до тех пор, пока не лишался сил и не терял сознания. Обнаруживал себя потом в незнакомых местах и спрашивал у прохожих, где он и как туда попал. Дадас – совершенно без документов – обошёл так не только всю Францию, но и соседние страны. Дошагал однажды аж до России, где его задержала полиция за оборванный вид и неспособность объяснить по-русски, кто он и откуда. Когда же власти обнаружили, что у него, иностранца в Российской империи, нет паспорта, Альбера Дадаса посадили за решётку как подозрительного «нигилиста». История умалчивает о том, как он тогда спасся.
И во Франции, когда Дадаса призвали в армию, он ушёл прямиком из призывного пункта, за что после поимки был сослан на исправительные работы на каторгу в Африку, откуда – в конце концов – тоже убежал. Ушёл этот странный человек и из мэрии, за несколько минут до заключения им акта бракосочетания с любимой женщиной… Альбер объяснял всем своё более чем странное поведение тем, что он болен и не способен совладать с охватившем его недугом, но никто из окружавших не верил ему. До тех пор, пока странным пациентом не заинтересовался известный врач-психотерапевт и гипнотизёр Филипп Тисье.
Эскулап подверг Дадаса сеансу гипноза, и больной во сне признался, что в детстве упал с дерева и сильно ударился головой. После чего и стал страдать …одержимостью путешествий! Мэтр Тиссье назвал происходящее с Дадасом «синдромом странника» и посвятил этой болезни, расценённой им как инфекционная – вслед за «французиком из Бордо» начали уходить в неизвестных им направлениях и другие люди в разных странах, – свою докторскую диссертацию, которую успешно защитил в 1887 году. На основании исследований Тисье профессор Питр, руководивший госпиталем, в котором лечился Дадас, вынес вердикт: «Альбер Дадас, конечно, серьёзно болен, страдает очень редкой болезнью, диагноз которой почти определён… Причины её кроются в тягостной обстановке, в которой жил пациент, и в окружавшей его душной атмосфере».
Распоров решил не ждать, пока радиожурналист, закопавшийся в сомнительных архивах, дойдёт до критической точки и расскажет, как печально завершил жизнь в обители скорби чудной бегун Дадас, и выключил приёмник. Георгию вдруг стало не по себе: слишком явно происходившее с далёким свихнувшимся французом-супермарафонцем напоминало ему то, что недавно свалилось на него.
Итак, бежать или не бежать? Вот в чём вопрос. К тому же Распоров нутром чувствовал, что в Завейске его ждёт нечто из ряда вон выходящее. А «чуйке» своей он привык доверять.
Значит, бежать. Безусловно, бежать!..
Весёлой раскраски уютный поезд с именем мирового литературного классика, некогда регулярно курсировавший в экс-нейтральную Финляндию, а теперь следующий по укороченному, исключительно отечественному, маршруту, вёз Георгия Распорова в завейские дали.
Все, казалось бы, происходило вполне нормально (какое бесцветное, рыбье слово, так агрессивно вошедшее в наш лексикон, но в нём – привычность текущих дней и наша неспособность воспринимать перемены в них). Однако Гошу не покидало ощущение некой неловкости, какого-то неудобства, что ли… Нет, это было не волнение – такую едва ощутимую внутреннюю дрожь он когда-то испытывал по молодости лет перед каждой очередной командировкой, предчувствуя новые приключения. В последнее время он, журналюга до мозга костей, остро ощущал, что застоялся. Промозг, затюрился, застыл, замариновался в текучке буден: редакция с её бесполезными, формальными, совещаниями, занудные столичные пресс-конференции исключительно для галочки, казённые интервью со скучными – на одно лицо – лощёными политиками и самодовольными олигархами, редакционные статьи на неосязаемые, трусливо обтекаемые темы…
А ведь как здорово бывало раньше, в молодые годы! Рванул в одну командировку, а там, уже на месте событий, накопал для редакции сразу несколько тем на другую! И в Москву возвращаться не надо. Новые люди, свежие лица в огромной, неделимой стране! То ты на Дальнем Востоке, то в горах у братьев-вайнахов, а потом еще и на Алтай махнёшь, оттуда – в соседний Казахстан… Горячая информация сама собой вырастает в репортаж, а тот возьмёт и подвигнет тебя позднее на целый очерк. Насыщенный, полносюжетный, прочувствованный, с живыми, незабываемыми людьми… Не то что нынешние так называемые «мультимедийные лонгриды», пёстрые, тяжёлые, анемичные, дроблёные… Прав был незабываемый литературный провокатор Борис Виан: «Как часто ты гложешь меня, госпожа Ностальгия!».
И вот всё легло для Гошки на картах бытия так, что предвидеть завтрашний день уже категорически невозможно. Опасливого человека непредсказуемость надвигающихся событий пугает, а смелого – возбуждает. Гоша имел все основания относить себя ко второй категории. Он устал послушно и угодливо плыть по течению, тем более что его уже нет и в помине, как он догадался не столь давно… А Завейск – так ему почему-то твёрдо казалось – обещал в самом скором времени прервать цепь банальностей в однообразном и заунывном существовании последних лет. Оставалось лишь убедиться в справедливости проклюнувшихся предчувствий.
Кто куда, а Распоров – в Завейск.
* * *
Его глубоко утопленные в густые, длинные волосы глаза были грустными как осенний сад. И всё понимающими. Он долго и пристально смотрел на Гошу, прежде чем заговорить.
– Отвернись, пожалуйста! Не смотри, не надо.
– Почему? – спросил Гошка.
– Начнешь меня разглядывать, и не будешь расти, поздно научишься говорить. Если сейчас же не отведешь от меня взгляда, не познаешь любовь, не обретешь друзей и рано встретишь старость. А значит – слишком быстро уйдешь туда, откуда не возвращаются.
– Но я давно уже взрослый, безвозвратно взрослый. Хочу верить, не совсем ещё старый и немощный. Да, я одинок, но уже не страдаю от этого. Привык. Ну и что из того, если бываю счастлив только во снах, хроника которых меня пока что увлекает?.. Я самодостаточен и стал себе главным другом. Даже заслужил право изредка ошибаться. Всё, что у меня есть, умещается в один чемодан. Но я его стараюсь не открывать. Это чемодан воспоминаний… Сегодня мне нечего никому доказывать. Я не нуждаюсь ни в похвале, ни в больших деньгах – только во внимании и в уважении, если нет ласки и любви.
– Ты заблуждаешься, брат мой… Человеку всегда хочется казаться значительнее, заметнее на фоне других. Он рождается беспомощным, бессловесным младенцем, таким же слабым и беспомощным этот ветхий Адам уходит на Восток вечный. «Немовля», – знаешь, есть такое старое славянское слово. Истинная сила – увы! – не в словах, не в обещаниях. Это дар, ссужаемый свыше на весьма короткий срок. Настоящей же силой обладают только звери – могучие псы, яростные волки! Правда, жизнь этих героев безжалостно быстротечна. Их счастье, что они этого обычно не знают.
– Видимо, ты прав… Тот, кто не выделяется в хоре, никогда не станет солистом.
– Сильные умирают дважды. В первой жизни они по-настоящему живут, во второй – по-настоящему стареют. Зато успевают между этими двумя жизнями сполна познать наслаждение от ощущения собственной мощи. Нет ничего сладостнее!.. Хочешь приблизить это опьяняющее состояние, стань одним из нас. Не думай, не сомневайся, не опасайся, не борись с самим собой! Просто стань зверем! Не рассуждающим, порывистым, взрывным – истинно свободным!.. Желаешь ли этого ты?
– Хочу! – С нетерпением выдохнул Гошка.
– Тогда посмотри еще раз на себя и забудь, что ты только что видел. Заблуждаются те несчастные, которые думают, будто сны не возвращаются, не повторяются. Враньё! Они ярче самой жизни, они – сама жизнь. Особенно – если это чужие сны, чудом доставшиеся тебе.
Георгий Распоров взглянул в старое, с фацетами темной обнажившейся амальгамы ртути с металлом зеркало и в мгновение все понял. Боже милостивый, Боже праведный, он понял та-а-акое!..
Впрочем, он ничего толком не успел понять.
Он проснулся.
А если и понял, то уже не помнил. А что с грехом пополам запомнил – забыл.
* * *
Гоша проснулся от странного звука. Будто в соседней комнате, прямо за стенкой, кто-то выстрелил. Или ему только показалось?
Отлип от влажной от пота подушки, приподнялся на продавленном матрасе и бочком сполз на паркет. Долго тыкал пяткой в пол, стараясь попасть на кнопку стоявшего за диваном торшера. Наконец желтый абажур зажегся и разогнал по тёмным углам тараканов. Тогда Гоша накинул на себя пропахший нафталином, жидкий дядюшкин халат и, шлёпая разношенными не им самим тапочками, пошел туда, откуда – как ему показалось – исходил шум.
Старая, темная и незнакомая квартира. Чужая. С пыльными книгами, с ветошными коврами, с кое-где отлетающими от стен обоями. Когда Гоша приехал сюда, то обнаружил повсюду невероятный бедлам, словно кто-то здесь что-то в спешке искал и даже не удосужился следы погрома замести. Вещи были разбросаны, диванные подушки валялись на полу, шкафы с бельём и одеждой распотрошены, книги – особенно досталось им – наполовину повыпадали с полок… Распоров, едва войдя в эту «двушку», как мог рассовал всё – как он полагал – по местам, но, так как квартиры ещё не знал, сделал это совершенно хаотично и механически, не задумываясь. И вот сейчас поплатился за такую поспешность.
У двери в кабинет Гоша больно ударился бедром о крыло какого-то шкафа-армуара, чертыхнулся и в сердцах, было, собрался вернуться в уютный ореол желтого света, как наступил на что-то твердое. Наклонился, пощупал: вроде бы, книги. Пошарил по стене в поисках выключателя и зажёг лампу. Оказывается, в соседнем со спальней кабинете сорвалась с петель перегруженная фолиантами полка и грохнулась на пол. Вверх тормашками, ураганом рассыпав все! Брокгауз и Ефрон в коричнево-золотом переплете, серое собрание сочинений Достоевского и куча других инкунабул, судя по всему еще довоенных, а, может, даже и дореволюционных.
Мы не знаем, почему падают книжные полки. Но однажды приходит время Ч – и они, как деревья, а порой и как люди, непременно падают. С грохотом. Обречённо и непоправимо. Словно по приговору безжалостного трибунала. Книга способна поменять нашу жизнь только одним способом: если свалится нам на голову.
– Займусь раскопками этих залежей завтра, – подумал раздосадованный библиотечным катаклизмом Гошка. – А сейчас – спать, спать!
Он сделал несколько шагов и споткнулся о старую книгу. Или рукопись? Престранную, надо признать! Это была выстроенная по формату обычной книги и подрезанная по краям сшивка из нескольких тетрадей: каких-то распечаток на конторской бумаге, записей на салфетках, на непонятных листах, – видимо, ресторанных меню, – страниц, вырванных из старых журналов. Именно сшивка: все держалось на …гвоздях! С одной стороны – железные шляпки, с другой – заклепки, неровно и грубо расплюснутые молотком. От влаги и возраста они отметили бумагу желтыми, грязноватыми разводами по горизонтали. Верёвочные закладки – из допотопной упаковочной бечёвки – придавали этой инкунабуле подчёркнуто растрёпанный вид. Верёвочки, кем-то в непостижимом порядке разложенные, распушились по краям и сделали книгу похожей на кучу выброшенного на свалку тряпья.
Откуда такой палеолит?!
Не слабое наследство! Лавка полоумного старьёвщика после бомбёжки, а не квартира…
* * *
Авксентий Миронович Варгин-Уманский, отцовский не то двоюродный дядя, не то троюродный брат – он называл себя «кузеном», седьмая вода на киселе, по большому счету, – поселился в этой «двушке» в самом начале шестидесятых.
Уроженец Феодосии, он был по образованию и ремеслу юристом. А точнее –профессиональным эмигрантом, во всяком случае, таковым его считали в Гошкиной семье. Своей же семьи – жены, детей – у дяди, вроде бы, никогда и в помине не водилось. Да и откуда ей было взяться при всех его странствиях, скитаниях и посадках? Дядя Сеня, так называл его с подачи родителей Гошка, приплыл после Великой Отечественной в «первую в мире страну победившего социализма» из Франции, куда свалил безусым юнкером, совсем мальчишкой, кажется, еще в двадцатые годы.
Понятное дело: не успев надышаться сладким дымом Отечества, дядя прямиком из одесского порта угодил в цепкие объятия энкавэдэшников, гостеприимно отправивших очередного зарубежного «патриота СССР» в солнечный Магадан, столь любимый товарищем Сталиным. Но, к счастью, вскоре «отец народов» благополучно дал дуба, и дядя, даже не успев потерять в рудничном забое все зубы и волосы, вернулся «на континент», к человечьей жизни. Впрочем – несколько ограниченной. Дяде строго-настрого запретили прописываться в столицах. И тогда Авксентий Миронович, понимавший, что бодаться с любыми властями, включая «самые гуманные в мире» советские, дело абсолютно безнадежное, поселился в тихом, замшелом Завейске.
Старинный русский город понравился бывшему парижанину и недавнему зеку, месье с непроизносимой для французов фамилией по двум важным, как ему тогда верилось, причинам. Обе они, и это выяснилось со временем, оказались совершенно не серьезными, более того – эфемерными и даже забавными.
Буколическая провинциальность Завейска, его деревянные домики с коньками на крышах и фигурными наличниками, туманная набережная тихой квакушечной реки, отсутствие какого-либо промышленного предприятия оказались столь привлекательными для намыкавшегося по жизни Авксентия Мироновича, что он в этом сонном городке и решил обосноваться. Не прошло, однако, и двух лет после прописки «русского француза» в городе-деревне, как в Завейске завелась ударная, комсомольская стройка огромного химического комбината, превратившегося вскоре в мощного производителя лекарственных препаратов и всевозможного сырья для них. Одного из крупнейших отраслевых предприятий в советской стране.
Вдоль некогда затянутой ряской речки возникла россыпь блочных пятиэтажек, в которых, как кукушата в соловьином гнезде, по-хозяйски обосновались лимитчики со всех краев необъятной родины. За неполных два десятилетия тихий заштатный городишко, знаменательный лишь тем, что в годы Гражданской войны в нём одно время стояла Северо-Западная армия героя Кавказского фронта генерала Николая Юденича, превратился едва ли не в мегаполис-миллионник. Со своим пыльным вокзалом, с домами культуры и кинотеатрами, и даже с собственным, пропахшим самолётным керосином и кислым жигулёвским пивом в розлив аэропортом.
СССР совершенно очевидно, несмотря на коварные происки капиталистов всех мастей и рангов, упорно продолжал оставаться на стройке коммунизма.
Завейск привлек Варгина-Уманского еще и тем, что располагался вовсе не на краю цивилизации. Конечно, никаких практических перспектив лично месье Аuxentius Vаrguine-Oumanski, бывшему французскому гражданину, это не сулило. Советские границы пребывали на уже заржавевшем, но все еще относительно прочном замке. Тем не менее осознание близости Запада грело сердце репатрианта. Казалось, стоит ему только возжелать, и виртуально рукой подать: хочешь – до Финляндии, а можно – и до Прибалтики. Она, конечно, оставалась безнадежно советской, но былого провинциального европейского лоска окончательно не успела утратить. Политическим пророком парижский дядя с его неизбывным эмигрантским испугом себя отнюдь не считал, однако время распорядилось так, что после развала хаотично перестроенной горбачевской державы Завейск, и правда, оказался едва ли не на самых дальних северо-западных российских пределах.
Без двух минут и пяти секунд Европа. Ан нет! Видит око, да зуб неймет!
* * *
Гоша взял в руки сшивку и открыл её на первой бечёвке-закладке.
«L`Homme truqué» – несколько первых страниц из романа Мориса Ренара. О таком писателе Распоров никогда не слыхал. На оборванном титульном листе значилось – парижское издание 1923 года. Распоров прочел по-французски – спасибо Вере Михайловне, бабушке по папиной линии, когда-то она не пожалела времени на занятия с внуком, поначалу упорно не желавшим штудировать язык Гюго и Мольера, – в конце долгого абзаца: «Нам стоит поблагодарить Природу, которая желает, чтобы каждое из наших чувств получило свою долю участия в жестоких, безумных играх…»
Гошка любопытства ради забил в поиске андроида «Морис Ренар», и на экранчике появился отрывок из романа ранее неизвестного Распорову беллетриста:
«…И вдруг под впечатлением внезапного чувства ужаса я завернулся с головой в одеяло, зажав уши руками: зловещий, неслыханный, сверхъестественный вой несся из парка в тишине ночи… Это было что-то душераздирающее, и действительность превосходила ночной кошмар…
Я поднялся, приложив нечеловеческие усилия. И тут я услышал тявканье… сдавленное… что-то вроде заглушаемого лая… усиленно заглушаемого…
Ну что же? Ведь могла же это быть собака, черт побери!
Вой повторился с левой стороны… Там спиной ко мне стояла изнуренная громадная собака. Она положила лапы на закрытые ставни моей бывшей комнаты и от времени до времени испускала отрывистый вой. Изнутри дома ей отвечало приглушенное тявканье; но был ли это действительно лай? А что, если мой слух, подозрительно настроенный теперь, ввел меня в заблуждение? Скорее это можно было назвать человеческим голосом, подражавшим собачьему лаю… Чем внимательнее я прислушивался, тем этот вывод казался мне неоспоримее…»
Это напомнило Распорову его полузабытые детские ночные кошмары: тревожные шорохи во мраке, жуткие морды, возникающие из стен, складки сложенной у кровати одежды, которые прямо на глазах оживают в кромешной тишине и превращаются в безобразных монстров, готовых пожрать тебя… Он потушил самсунг, отложил телефон, так много всего знающий и умеющий, в сторону. Вновь взялся за дядюшкин фолиант. Эта грубо сработанная инкунабула затягивала Георгия, как космическая чёрная дыра. Как воронка в коварной воде или в зыбучих песках.
Кипа старых, желто-серых страниц. Дневник, выполненный химическим карандашом, а порой и перьевой ручкой с лиловыми чернилами начинался со слов из Псалтыря: «Deus, Deus meus! Но Ты, Господи, не удаляйся от меня; сила моя! Поспеши на помощь мне; избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою… Ибо псы окружили меня…(ст. 20, 21)».
Kyrie eleison! Причём тут «псы»? Опять они!.. Дядя, судя по проставленным кое-где датам, начал вести дневник в начале двадцатых. Записи были отрывочными и порой останавливались чуть ли не на полуслове.
Заинтригованный странными дядиными откровениями, Гоша перешёл к странице, отмеченной другой верёвочной закладкой. К счастью, эта прерывистая запись не имела никакого отношения к «собачьей» тематике:
«… изгнали с Гренелль, где особняк Российского посольства оказался уже занятым Совдепией. Пришел к Леонтию Дмитриевичу К. Он, коренастый, пышущий энергией, острый на язык, – видный человек в Русском национальном союзе в Париже. Обещал помочь. Бывший дипломат, некогда предводительствовавший в генеральном консульстве России, знает в русском французском сообществе всех и вся. Пригласил на встречу, как он выразился, «доверенных и интересных людей». И почему-то добавил, подчеркнуто многозначительно: «Это почти собрание в мастерской…» Странно, право! Какое такое «собрание»? Что за ремесленники корпят в этой «мастерской»? И почему, скажите на милость, он проникся ко мне сердечной расположенностью? Однако все это любопытно и, верю, весьма полезно при нынешней безнадежности, вернее – безденежности, моего бродяжнического положения. В общем, поживём – увидим…»
Гоша потер кулаком слипающиеся глаза, отложил дневник и отправился досыпать. Утром надо было идти к нотариусу.
* * *
В замечательный Завейск Георгий Владимирович Распоров, он же – Гоша или Гога, а для друзей – просто Гошка, прибыл для вступления в права наследования. Неделю с лишним назад ему пришло заказное письмо, в котором некий Э.Ю.Келев, глава нотариального кабинета «Фидес», сухо сообщал о кончине господина А.М.Варгина-Уманского, который завещал единственному племяннику квартиру и заодно – коллекцию книг и рукописей. В послании оговаривались дата и место рандеву с нотариусом. Заканчивалось оно припиской: «По прибытии в Завейск следуйте от вокзала по адресу: Наречная, 38-11. Это квартира г-на Варгина-Уманского. Ключ будет под ковриком. Келев».
На дядины похороны Гоша не успевал, письмо, как и принято сегодня в почтовом ведомстве, шло тягуче долго. Да, честно говоря, Распоров и не очень-то рвался участвовать в скорбной церемонии. Он вообще старался избегать прощального ритуала, к которому с годами так не хочется, но все же приходится привыкать. Поминок по дяде не устраивали. Да и кто мог их организовать, Бога ради, если Авксентий Миронович жил на свете один как перст?
Осадок на душе у Гошки от собственного родственного пофигизма, конечно, остался. Но он успокаивал себя тем, что Варгина-Уманского помнил очень смутно. Видел маленького, сухонького, кажется, лысого или с жидким зачесом от уха до уха, в раннем детстве, один или два раза. В основном представлял дядю по рассказам бабушки. Она вспоминала, что, когда в пятидесятые Сеня возвращался из мест не столь отдаленных, заехал перевести дыхание и заночевать при перекочевке с поезда на поезд к московским родственникам в их коммуналку у Никитских ворот. Бабушка ради кума расшиблась-расстаралась. Купила втридорога на Центральном рынке кролика и приготовила безвременно почившего ушастого в горчице со сметаной. С луком и с шампиньонами, с румяными шкварками, в старорежимной глиняной утятнице с толстенными, как крепостной бастион, стенками.
Баба Вера отменно готовила, пальчики оближешь! А-а-ах!.. «Цимес мит компот!» – как восторженно говаривал дед, прицокивая языком.
Ближе к ночи, когда вся водка была выпита, Гошкин дед отправился выгуливать на Патриаршие пруды собаку, а бабушка пошла на общую кухню и водрузила на газовую плиту огромный чан, чтобы вчерашний лагерный сиделец мог наконец-то отпариться-отмыться. В необъятной коммунальной квартире, заселенной еще до войны с немцами девятью безнадежно советскими семьями, горячей воды, начиная с большевистского переворота, не водилось. Жильцы и жилички мылись – в ожидании похода в ближнюю общественную баню, предпочитали исторические Сандуны – принесённой ими с кухни горячей водой в чугунной ванне. Она важно расположилась у висящего на грязной стенке карболитового телефона, в коридоре, за занавеской из некогда клетчатой клеёнки, одеревеневшей и превращённой едва ли не в рубероид мыльными брызгами многих поколений обитателей.
Когда же Распоровы, подготовив купание для гостя, вернулись в жарко натопленную комнату с тысячами книг по стенам и с неизбывными клопами, то обнаружили застывшего в более чем странной позе у стола Авксентия Мироновича. На груди его, на старой, не избалованной стирками рубахе расползалось большое жирное пятно. Сеня дрожал словно мальчик из церковного хора, которого батюшка застал за кражей свечек на алтаре, на глазах его были слезы. Выяснилось, он – по старой зековской привычке, неизбывный инстинкт выживания! – пытался припрятать за пазухой остатки еды, чтобы пронести её тайком от надзирателей товарищам в барак. Вот и засунул, злополучный, последние куски остывшей крольчатины себе за рубашку, трогательно, поближе к сердцу…
Ничего больше о дяде Сене Гошка не знал. Кроме одной давней-давней истории, как-то рассказанной ему в далёком детстве Верой Михайловной – как рано бабушка, кареокая красавица, ушла из жизни! Она зимним вечером показала внуку портрет старика в широкополой шляпе и сказала.
– Это Василий Васильевич, твой, Гога, родственник. Человек паталогически богатый и не менее несчастный. Когда-нибудь я расскажу тебе о нём. Наша дальняя родня, но не очень. По линии деда Сени…
Маленький Гоша не понял тогда, что это за «линия» такая. Однако рисунок – тушью или угольным карандашом, а, может, это был и дагеротип – запомнил. Длинное, сухое лицо с глубоко запавшими щеками, долгие седые волосы из-под широкополой шляпы и большие глаза, печальные и словно горящие мстительным огнём… Рассказать о Василии Васильевиче баба Вера не успела. Вера Михайловна умерла так быстро, что даже проститься с любимым внуком не успела.
И тут нежданно-негаданно свалилось на голову провинциальное наследство.
* * *
У первого подъезда дома 38 по Наречной улице с раннего утра уже восседали на лавке бабушки.
– А-а-а, так это вы?!.. – Оживилась одна из них, завидев Гошу.
Что оставалось делать? Лишь соглашаться.
– Ну, я.
– Племянник Авксентия Мироныча, так? – на всякий случай уточнила вторая бабуля. – Он о вас рассказывал.
– Д-а-а? Правда?
– Тонкий был человек, – едва ли не хором заговорили соседки. – О здоровье всегда справлялся, о погоде умел разговаривать, о сборе грибов… За город один любил ездить… Жалко его. И собачку жалко. С нее все беды Мироныча и начались.
– Какая собачка? – удивился Гошка. – У него была собака?
– Еще какая! Умница, шельма! Он так ее и звал: Шелли. Ой, как баловал ее! И породы была редкостной: «шанхайский терьер».
– Да нет! – Поправила товарку соседка. – Он говорил, что она «апельсиновой китайской породы».
– Пекинес, что ли? Померанцевый пекинес? – Догадался Распоров.
– Вот-вот… Только убили ее.
– Как «убили»? Кто? Бандиты, браконьеры?
– Может, и бандиты. Последнее время у нас часто собак травят. Разбрасывают, ироды, приманку по кустам. Борются с бродячими собаками, а дохнут домашние песики. Шелли долго умирала. Не спасли её, не смогли. Ваш дядя переживал шибко. После этого и сдал здоровьем. Словно сглаз на него положили: сгорел, бедолага, как щепочка сухая. Прямо-таки среди бела дня иссох, болючий. На руках друзей и душу отдал.
– Друзей, говорите… А кто они, не знаете?
– Да кто ж их теперь найдет! Раньше Мироныч никого не принимал, а перед смертью начали люди к нему ходить. Город большой, народу тьма…
Вот так история!
– И кто же у вас ядами балуется, собачек травит? – Особо не надеясь на ответ, воскликнул Гоша.
– Знать, есть кому, раз балуются, – обрезала первая бабуля, та, что начала разговор. И, поджав синие губы, встала со скамейки, показывая, что больше обсуждать им в Гошкином обществе нечего.
Кабинет нотариуса прописался в бесцветном офисном здании, явно впопыхах переделанном из заброшенного заводского цеха или склада, а теперь от фундамента до крыши сдаваемом в аренду. В полутемном узком коридоре под потолком надоедливо пульсировала длинная лампа мертвецкого «дневного света». Гоша шёл по подмигивавшей ему кишке между закрытыми дверями, читал таблички с названиями организаций и глазам своим не верил. На одной двери было написано: «Троса». На другой – «Крема». А следом вообще – «Монсардовые крыши». Тут же – мудрёное объявление в западном вольно-гендерном стиле: «Мужская одежда. Всё для будущих мам». Еще дальше на зависть «Вкусвилл»: «Металл на любой вкус». Сразу за табличкой: «Асуан. Песок от производителя» располагался кабинет с выигрышным, почти заграничным, названием: «Фидес».
Гоша толкнул дверь и оказался в длинной похожей на ученический пенал комнате:
– Позволите? Мне назначена встреча. Моя фамилия Распоров, я приехал по делам наследства, доставшегося мне от дяди.
– Ах, Георгий Владимирович, дорогой! Неужели? Как же мне приятно! – Возрадовался неожиданно громко толстенький человечек, утонувший в глубоком кресле на колёсиках. – Ну, конечно же, дядюшка ваш – Авксентий Миронович! Какая витиеватая судьба, скажите на милость! Эмиграция, Гулаг – будь он проклят! – и, наконец, наш славный Завейск на закате заслуженных, счастливых, медовых дней… Как приятно видеть вас, Георгий Владимирович, не поверите! И как же вы на дядю похожи, честное-благородное, – одно лицо! Ей Богу, удивительное сходство!
И, словно почувствовав, что его экзальтация показалась Распорову чересчур наигранной, человечек перешёл в более умеренную тональность.
– Мэтр Келев, Эдуард Юшкович, – представился он. – Простите меня, грешного, что не выхожу со всем моим пиететом приветствовать вас. Спина, видите ли, остеохондроз, спинные грыжи, протрузии и всё такое прочее… Проблемы, знаете ли, со здоровьем: возраст, годы-гады… – Человечек почему-то хохотнул, громко, как срыгнул. – Читал, будто во Франции нас, гарантов соблюдения закона, по-масонски называют «мэтрами», что на их иноагентском лексиконе значит «мастерами».
– По-французски «мэтр» – это еще и «хозяин», – вставил слово Распоров. – А «мэтресс» у французов это, вообще, «любовница».
– Так, то – у французов, «подбитых ветерком», как утверждал Пушкин, российское «наше всё»! Вам виднее, сударь мой, мы за буграми не столовались, устриц и фуагра не едали. Мы – не писари и не псари, а, можно сказать, без двух минут юристы, буквоеды, то есть. Перо и чернила нотариуса – плоть и кровь сурового Закона. Он, конечно, справедлив, тем более что всех посадить нельзя, а буквы его часто складываются в весьма нехорошее слово… К тому же за весами правосудия всегда можно найти продавца.
Келев опять манерно хохотнул.
– Функции нотариуса в странах континентального права – таких, как демократическая Россия, – необычайно высоки и ответственны. Именно к нашим необъятным северным краям относится первое в России упоминание о нотариате. – Он надул щёки, словно подчеркивая этим важность готовящегося сообщения. – Вы, конечно, догадались: я имею в виду знаменитую Псковскую судную грамоту пятнадцатого столетия.
«Типичный википедик», – подумал о нотариусе Распоров.
Своими рассуждениями завейский мистер Джингль напомнил знатока, который скороговоркой читает вслух статью из Википедии. Внешность же его – смуглое, отекшее, невнятно вылепленное лицо, мохнатые брови вразлет – напомнило Гоше насекомое. Жука-скарабея, нет, пожалуй, даже золотистую бронзовку. Или гигантского таракана, как у Кафки в «Метаморфозе». Определить его возраст было невозможно, словно у трупа, который давно начал разлагаться.
– Лучше занудный нотариус, чем веселое судебное ристалище. Ах, как душевно мы ладили, как близки были с безвременно ушедшим от нас любезным Авксентием Мироновичем, если бы вы знали! Как коллеги-юристы близки, как профессиональные законники. Почти как братья! Да и жили когда-то рядом. А ведь не зря армяне говорят, хороший сосед – дороже родного брата. Разве не так?.. Золотой был человек ваш дядюшка! Ах, какая боль! Какая потеря!.. Невосполнимая… Безвременная…
– А я и не подозревал, что дядя был юристом.
Георгий был оглушён, затоплен этим водопадом речи.
– Рад, искренне рад с Вами познакомиться, господин Распоров, – звучал без устали «мэтр» нотариата. – Слышал о вас. Точнее – читал. Ваши журналистские расследования высоко ценю. Ваши, не побоюсь, очерки, прямо-таки байопики. Голливуд без вас плачет! И такой популярный столп российской журналистики, отечественный пулитцер, можно сказать без обиняков, посетил наши скромные провинциальные палестины! – Келев закатил глаза, демонстрируя высшую степень из всех возможных градусов умиления, и продолжил, чуть ли не извиваясь от изумления. – Нотариус всегда помнит древнеримский рецепт хорошего завещания: душевный покой, зрелое размышление, здравый ум и – не побоюсь этого слова – твердая память.
Нотариус выложил из тощего портфеля несколько бумаг на совершенно пустой стол, на котором стоял только пёстрый пластиковый стаканчик из-под уличного кофе, начинённый ворохом острозаточенных карандашей. Протянул Распорову дешёвую шариковую ручку.
– Распишитесь вот здесь, и еще здесь! Вступайте, дорогой мой человек, на здоровье в наследственные права, в некотором роде.
– Почему же «в некотором роде»? Вполне официально, смею надеяться.
– Безусловно, Георгий Владимирович, безусловно! Это лишь оборот речи, фигура, можно сказать. Не придавайте значения моей, извините за откровенность, элоквенции. Без лишней риторики и филиппики поздравляю, от души, так сказать! – Он натужно перевёл дыхание. – Каковы ваши ближайшие планы, сударь мой, если не секрет? Намереваетесь дядюшкины апартаменты реализовывать? Как? На рынке недвижимости? Сдавать в аренду? Или иначе? Непросто будет, ваш дядя много чего интересного после себя оставил. – Сделал паузу, словно ожидая возможной Гошкиной реакции. И продолжил липкой скороговоркой. – Можем посодействовать, сударь мой, в случае необходимости… Полезные связи, будьте покойны, где надо имеем-с.
– Пока не решил. Надо подумать, собраться с мыслями. Все так внезапно.
– Собирайтесь, голубчик, собирайтесь! Только в вашу зачумленную Белокаменную – скажу со всей свойственной мне большевистской прямотой – не спешите. Заклинаю вас, Георгий Владимирович, лучше поживите пока тишайшим образом в Завейске! Город наш милейший, зеленый. Вокруг леса, луга, горизонты-просторы. Воздух такой вкусный, что его хоть на хлеб вместо икры намазывай!.. Как говорят у них на «ридной нэньке Украине»: «крайведы». «Красоты природы» – по-нашему, по-российски… Правда, шалят в наших райских кущах окаянные люди и злые псы в последнее время. Ой, как, злодеи отвязные, шалят нехорошо!
– Что такое?
– За годы ельцинской разрухи иже с ней премного расплодились, аки блохи, дикие собаки. Жируют по помойкам, лайкоиды треклятые. Вот и охотятся на них разные джигиты да парубки подозрительные, что называют себя на американский фасон «догхантерами». Серийные киллеры собак, так сказать.
Келев вскинул перед носом, будто прицеливаясь из ружья, обе руки с растопыренными ладонями:
– Пиф-паф!.. «Дикие гуси» компьютерного века по сторонам постреливают, да и яды в приманках повсеместно разбрасывают… Таких пикселей накидают, биткоинов не соберешь! Беспорядок и варварство, конечно. Всё – как обычно в нашем непредсказуемом отечестве. Всё цинично, как на телевидении или в адвокатуре. Что тут поделаешь? При хронической бестолковости наших властей и звероподобии обывателей любые эксцессы возможны-с…
Поиграл пучком карандашей в бумажном стаканчике. И мэтр перешёл к главному.
– Ну, заговорил я вас, заговорил, не обессудьте! Не забудьте взять, Георгий Владимирович, документики для переоформления квартиры в необходимых инстанциях. Порядок есть порядок, а закон есть закон. Фемиде служим, а Фортуне платим… И – полный вперед, дорогой мой товарищ, московский звездный журналист!
Жукобразный нотариус аж взвизгнул от демонстративного исступления и протянул Распорову бумаги:
– Чуть что, звоните! Всегда к вашим услугам, так сказать. Если захотите еще раз встретиться, предупреждайте меня, грешного, заранее. Дела, знаете ли… Дела суетные и разные… Да… Так и живём-с, перебиваясь с воды на квас…
Какой своеобычный субъект! Ненатуральный какой-то! Словно списанный с персонажей гоголевских стряпчих.
Выйдя от нотариуса, Гошка решил без промедления заняться оформлением квартиры. Но настроения собирать бумажки и слоняться по провинциальным властным коридорам у него не наблюдалось. Он решил отложить формальные дела на потом, а пока прогуляться по городу, перекусить в каком-нибудь приглянувшемся ему, симпатичном местечке. Пошел, куда глаза глядят. Он всегда так делал в незнакомом городе. Кому-то по жизни достается Баден Баден, ну а нам – в лучшем случае Гомель Гомель, если не, вообще, Бахмут Бахмут.
* * *
Меряя шагами завейские просторы, Распоров обратил внимание на название улицы – Тульская – и вспомнил, как ездил однажды за компанию с Анатолием Карповым к его сестре в Тулу. Пока мчались в машине по заснеженному шоссе, Гошка, не теряя времени, взял у чемпиона мира обширное интервью для журнала «Пороги» (в двух номерах потом напечатали с продолжением).
– У меня прекрасная ориентационная память, – похвастался между делом великий шахматист. – В любом незнакомом городе раскрути меня с завязанными глазами, а потом предложи найти направление, я сразу выберу правильную дорогу. Только предварительно дай мне хотя бы раз на карту взглянуть.
– Я тоже так могу, – не ударил в грязь лицом Гоша. – Как по компасу могу определить в любом месте, куда попадаю в первый раз, где юг и где север.
– Да-а-а… – недоверчиво протянул могучий Карпов, словно обидевшись.
Жан Кокто утверждал, будто в восприятии информации человек предпочитает познанию узнавание: последнее стоит меньших усилий. В Завейске Гоше узнавать было нечего, поэтому он предпочел познание. Пошел сначала по улице Фурманова, потом – по проспекту Победителей, по Гагарина… Увидел магазин «Табак», зашёл туда за сигаретами. Поразился сокровенной надписью над кассой. «Анашой не торгуем. Где достать, не знаем».
Не успел он свернуть на Земледельческую, как едва не столкнулся лбом с долговязым субъектом в ветровке и в бейсбольной кепке с надписью – по-русски! – «Нью-Йорк», из-под которой торчали как макароны из рваной пачки, на манер Бориса Джонсона, длинные, сальные, белесые волосы. Верзила собрался выругаться, но неожиданно расплылся в улыбке и распахнул объятия.
– Распор! Какими судьбами?! Такие люди – и без охраны!
Господи ты Боже мой, это же Толька Торцев! Однокурсник, собутыльник и – как они духарились на факультете – «словенин»: будущие репортёры, ребята всё время упражнялись в том, что сочиняли новые слова. Сколько глупостей они, «семидесяхнутые», – так тогда по ассоциации с «шестидесятниками» о себе друзья говорили – вместе натворили, пока делали вид, будто обучались журналистике в МГУ! Пустое дело: журналистика – не наука, а ремесло.
– Сто лет не виделись… Откуда ты здесь? – Толян почти не изменился, лишь посивел. Такой же шебутной, длиннющие руки и ноги, как у Паганеля, громкая речь, телескопный взгляд сквозь выпуклые линзы очков, делающие глаза несуразно огромными, как у стрекозы.
– А ты?
– Я здесь живу. Когда-то женился на местной… Правда, потом развелся. Но остался в Завейске, прикипел к городу, знаешь… Завейск, получилось, для меня не транзит, а судьба. Ну, говори, Распор! Ты-то как в нашу благословенную дыру закатился?
– Не поверишь: приехал принимать наследство.
– Везёт же людям!
– Не кощунствуй, Торец! Я моего дядю – Царство небесное! – почти не знал. В общем, не ждал, не гадал и оказался явочным порядком у вас.
– Класс, старик! Класс!.. Такое историческое событие железно стоит обмыть!
– Принципиально не возражаю.
– Тогда повалили к Захару!
– Кто такой?
– Не кто, а что… Пивной бар «У Захара». Его зовут в народе «Затирухой». Это тебе не «Яма» нашей бухой юности. Место вполне светское. Не бойтесь, сэр! Вас не побьют, не отравят и кислотой не обольют, сегодня мы, люди серьёзные, – с вами.
Место и в самом деле было с характером.
Стилизованные подвальные своды, официантки, рослые, как на подбор, – унеси-ка, попробуй, в каждой руке по пять кружек пива! – и в крахмальных наколочках в волосах, как в присной памяти мосфильмовском кино. Всё – как учили: жирные колбаски с кислой капустой, свиное «колено» с хрустящей корочкой и даже раки, чей квёлый вид наводил на мысль, что замораживали и размораживали членистоногих несчетное число раз. Толяна здесь, судя по оказанному ему приему, давно и хорошо знали, свободный столик нашелся для них сразу. Торцев – ясный персик! – платить по счету, как и в былые годы, не собирался, поэтому без разминки взял инициативу в застолье на себя.
– Пока работаешь за троих, трое пьют за тебя. Вспомним-ка, коллега, добрые старые времена! Наш первый тост. – Он нежно взглянул на стопарик с водкой, зажатый в его привыкшей к мёртвой хватке руке, и изрек с ностальгической слезой. – Так выпьем же за то благодаря чему мы, несмотря ни на что!..ассический тост тут же задал их суаре высокую тональность. Старые товарищи после первой выпили по второй, и, не заметив третью, сразу жахнули по четвертой! Отполировали водочку – по доброй памяти – пивком под жареные северные креветки россыпью и гренки с чесноком. Любезная официантка с бэйджиком «Шурочка» на буферной груди все подносила и подносила пенные кружки. Схитрила, белокурая бестия! Поставила перед ними на столешницу пузатую бутылку «Тундры» – тяжелый напиток, слоновьи слезы! – и сказала с протокольной улыбочкой.
– Сколько влезет, мальчики, столько и выпейте! Убытки по итогу рассчитаем.
Тундра это по-нашему: не зря, по кадастру, семьдесят процентов обрабатываемых территорий в стране рискованного землепользования занимают оленьи пастбища. Только знать бы, где он, этот «итог»? Какой русский человек – скажите на милость! – остановится, пока не допьет до донышка бутылку беленькой? И факультетские друзья приступили к сладостному алкогольному восхождению с помощью, как гласили реклама на стене «Затирухи», «элитных напитков по доступным ценам».
– Там, где нет водки, процветают гомосексуализм и бездуховность. Древние греки вымерли потому, что разбавляли вино водой, и водки они, азиаты грёбаные, совсем не знали… Ну, понеслась, родимая, как корова по ипподрому! Итак, за здоровье гонораров! – Выпили под классический профессиональный тост. И, как водится, у старых товарищей не только по перу, но и по стакану с гранями советских республик, мягко перешли к мемуарам.
– А помнишь, Толян, нашу студенческую стажировку в «Комсомолке»? Ты был в «Алом парусе», а я – у Голованова в отделе науки.
– Такое не забывается. Помнишь, как Ярослав Кириллович Голованов наставлял нас, пацанов зеленых, как надо пить водку? Сказал: «Странная у нее особенность! Бутылка имеет обыкновение быстро опорожняться».
– Господи праведный, какие святые, светлые имена: Голованов, Леня Репин, Юра Щекочихин, Василий Михайлович Песков… Ну, давай накатим по маленькой за наставников с Шестого этажа! За тех, что уже ушли от нас, но все равно продолжают оставаться с нами… Слушай, Торец, а ты где сейчас горбатишься? Кажется, после факультета пошел работать в милицию, чуть ли не сыскарем в убойном отделе. Собирал фактуру для крутой книги, увлекался детективами Стаута и Чейза.
– Никому наши романы не нужны, чувак. С ментовкой в моей автобиографии покончено, причем – давно… Решил по глупости обрести второе образование. Пошел, было, учиться на юриста. Но вовремя понял, что справедливость выживает там, где ее можно купить, и что в суд ходят лишь по большой нужде… Чего только не было! Пробовал себя и в бизнесе – торговал подушками, сковородками, кастрюлями… Запустил в России новую марку обуви: «Саламанда». Не немецкая «Саламандра», конечно, но сделано было в Индонезии на славу, только подошвы у этих говнодавов после первого снега немного отклеивались… Занимался и холодильниками, благодаря им и понял, что коммерция – вовсе не моё.
– Как так?
– А вот так! Представь себе: прибывает к тебе на склад контейнер с корейскими холодильниками. А после растоможки приходит ко мне чел и в мягкой манере, можно сказать, чисто по-женски, тычит в пузо пистолетом, после чего говорит: «Или ты, чувак, делаешь, что тебе говорят, или…» Как в песне: «Догадайся, мол, сама…»
– И чего же этот тип от тебя хотел?
– Надо было жмурика из Москвы вевезти. Ну, погрузили трупак, в один из моих холодильников и вывезли в контейнере за город. Что дальше было, не знаю. И не хочу знать. Так я и ушёл из большого бизнеса… Поверь, бро: так все тогда обрыдло, что впору было открыть мастер-класс по харакири или русской рулетке.
Разлили и выпили «родимую» под Гошкин тост, заимствованный у парижских эмигрантов первой, еще «белой», волны.
– А-ля внутрь!
Заели килькой на крутом яйце – мировой закусон! – и помолчали, как и подобает в такой деликатной ситуации настоящим мужикам.
– Даже баллотировался в городские независимые депутаты, пока не увидел, что места под солнцем распределяются в тени, – грустно признался Торцев. – Как стандартный постсоветский человек и дисциплинированный член я привык к худшему, породнился с ним. Приучил себя жить, веря, что, если и случаются неожиданности, то – только позитивные, а негативные – не со мной… А вот фиг тебе!.. Если раньше для меня главным в творчестве был гонор, то теперь – гонорар. Сечёшь разницу? В общем, вернулся к тому, с чего когда-то стартовал. Да здравствует, бро, репортёрская подёнщина!.. Сейчас я благополучно прозябаю в местном еженедельнике «Сенсации недели». И ни о чем не жалею.
– Чего-чего?!.. И сколько сенсаций происходит в Завейске за неделю?
– Не ёрничай, Распор! Газета, несмотря на претенциозное название, вовсе не самая пропащая. И гонорары в ней не самые скудные: полтинник за знак без пробелов. Прикинь! За лучшие материалы даже платят по рублю за знак! Такого и в Москве не сыщешь…
– Значит, перед тобой еще маячит перспектива стать миллионером. Ты же всегда считал себя лучшим: «намбер уан»! Хотел, чтобы девчонки в общежитии на Ленгорах тебя звали не иначе, как Вански… Первый – уан!
– Зря ты это… Прошлое не в счет. – Набычился Торцев.
– О`кей. Давай о настоящем!
– У нашего еженедельника неплохой тираж. Есть и свой сайт, очень даже популярный портал, представь себе. В городе с нами считаются. – Толян влил в себя одним махом полкружки нефильтрованного, названного в меню почему-то «Чешско-алтайским», и ткнул пальцем куда-то в сторону.
Гошка продолжил взглядом движение этого пальца с ногтем в траурной окаёмке и увидел, как к их столу вразвалочку подходит человек средних лет крепкого телосложения.
– Гуляете, мля, пираты? – Запанибрата начал он. – Раз с утра шмурдячка, мля, засадили – и праздник доблестной ГАИ влёт обеспечен.
Блестящая речь его была с весомым матовым покрытием.
– Чем обязан? – Гошка неимоверным усилием попытался собрать в кулак волю, чудом ещё оставшуюся после водки с пивом.
– А это, прикинь, наш читатель постоянный, можно сказать, верный друг «Сенсаций», – поспешил избежать лавинообразного конфликта Торцев. – Заодно и мой проверенный товарищ. Майор российской полиции Степан Васильевич Простаков. Для хороших друзей кратко и ёмко: Простата. Экстра-профессионал сыскного дела. Прошу любить и жаловать!
– Что вас касается, то можете, мля, не представляться, – осклабился Простата, профессионально глядя в Гошкины надбровья, и сел без приглашения за их стол. По-хозяйски налил себе водки в чужую рюмку и отработанным движением отправил лафитник в рот. – Мы уже в курсе… Люди вашей категории, мля, к нам не частенько залетают. Город наш не маленький, но новости по нему, мля, расходятся со скоростью ковидной заразы. С чем пожаловали в стольный град Завейск, телевизионный герой?
И без помощи толмача Распоров уже понял многозначный смысл «млямов» Простаты.
Излюбленные междометия майора полиции существовали по ассоциации с романскими языками в двух видах. Морфологическую и синтаксическую функции неопределенного артикля выполняло хлёсткое слово, обозначающее женщину с низкой социальной ответственностью. А функцию определенного артикля брал на себя далеко не медицинский термин, относящийся к мужскому половому органу, для которого у Простаты существовало немереное число однокоренных эпитетов и характеристик.
Когда же майор Простаков употреблял «неопределенный артикль», а по какому случаю – «определенный», лингвистам еще предстоит разобраться: не зря же не столь давно появилась новая профессия – лингвотоксиколог. Как доморощенный гроссмейстер завейских уголовных дел Простата знал главное: мат делает его фигуру значительной. Особенно – среди подозреваемых и свидетелей.
Пока искали повод и тост, три раза опять выпили, не заметив, как Шурочка впарила им новую «Тундру», а заодно и набор подозрительного цвета лепёшек, которые романтично назвала «оленьими чипсами». Под несколько пивных бузовочек со свежим «прицепом» Гошка расслабился и рассказал майору о дяде. Не преминул вспомнить и о гибели его любимого пекинеса. Простаков среагировал на удивление оперативно и даже просвещённо.
– Что правда, то правда. С собачками у нас, мля, полный геморрой!.. «Канис лупус фамилирис» – как мудро говаривали древние римляне… Псы-бродяжки, мля, нападают на жителей окраинных кварталов да и в центр выбираются. Вчера, суки горбатые, даже загрызли до смерти чемпионку области по шашкам среди юниоров. Знали же, кого, мля, выбрать: малолетку!.. А недавно собачки ветерана труда, пенсионерку, возвращавшуюся домой с краковской колбасой в авоське, жестоко покусали. Заодно, мля, и бабкину колбасу раздербанили.
– Почему с краковской? И, вообще, кто кого и зачем «лупус» – и сразу фами, фамили, то есть – фамилиарис? – удивился Толян, тщетно пытающийся бороться с нагрянувшим на него приступом икоты.
– Потому, что одесскую колбасу в «Жемчужину», наш сраный магазин, мля, тогда не завезли.
– А что, если мы пойдем и перекурим? – сбил накал интеллектуальной беседы Гошка, резко осознавший, что ему для приведения баланса в мозгах срочно надо на свежий воздух.
– Кури, мля, здесь! – великодушно разрешил Простата.
Гошка показал пальцем на висящий над их затылками плакат с перечеркнутым красной полоской жирным окурком и с надписью: «У нас не курят».
– Какой ты человек бздительный! Учти, с тобой все-таки, мля, полиция! Значит – власть народная… Пусть все считают, будто мы на ответственном задании. На боевом, мля, посту. – Майор закурил, налил себе горькой «мариванны» с оленьих пастбищ и деловито продолжил. – По служебным данным, в Завейске сегодня от десяти до пятидесяти тысяч уличных собак. Впрочем, никакой вызывающей доверие статистики, мля, в природе не существует.
– А по питомникам?
– Питомники? Их не хватает, они давно превратились в конвейер смерти: грязь и дерьмо везде и повсюду, обдолбанные ветеринары-убийцы, повальное воровство этими штатными садистами городских пособий и казённого собачьего питания. Можно подумать, они его сами круглыми сутками жрут за обе щеки. Плюс многие другие гадости… Весной и осенью, в период размножения, мля, барбосы дуреют и, бывает, набрасываются на прохожих. Мрак, мля, провокация и разложение!
– Понимаю. Но все равно зачем домашних собачек-то травить? – не смирился Гошка.
– Хрен этих, мля, догхантеров поймет, – вдруг погрустнел Простаков. – Нелегкая у них работа!.. Вчера собаки одного такого разодрали. До смерти зажрали, мля!.. А нам разбираться теперь. И без этой херомантии у нас в отделении сплошные «висяки». И так два года подряд Центр, – указал пальцем в низкий потолок в водянистых разводах, – нам второй квартал премии не закрывает.
Торцев, собравшийся, было, окуклиться прямо на стуле, проникся услышанным и запоздало ожил. Принял рабочую стойку, словно сеттер на охоте.
– Где? Когда убили? Мы напишем об этом. – И, взглянув на Простату, угодливо добавил в его фирменном стиле. – Мля!
– Я бы тоже подключился, – великодушно предложил Распоров, наконец-то, ощутивший, как обретают плоть и кровь его московские предчувствия перед отъездом в Завейск. – Здесь нужно начинать журналистское расследование. Серьезное! Обязательно надо.
– Выношу тебе, Жора, мля, устную благодарность, – растрогался Простата. – Дай поцелую! Это значит, что ты, хоть и москвич засратый, но осознал важность, мля, глобальных проблем нашего города. Валяйте, мужики, в редакцию и приступайте к работе! Российская полиция, мля, вам всегда поможет… Давай, Жора, свой телефон! Мы теперь с тобой как двоюродные братья-близнецы.
* * *
– Может, ты, Распор, и в самом деле напишешь об этом? Задержишься у нас на пару недель и напишешь. Тема-то какая классная: целый детектив! – В голосе Анатолия слышалась просьба. – Забей ты, к лешему, на эту Москву!
– Почему бы и нет, черт возьми! – Разошёлся неожиданно для самого себя Распоров. – В конце концов, я – свободный человек в свободной стране. К тому же нахожусь в месячном отпуске. Мы с тобой, Толян, вместе всё возьмём и напишем, в два смычка. Идёт?
– Шурочка, гони убытки! – Скомандовал Торцев. И еще до того, как королева «Тундры» принесла счёт, оперативно свинтил в туалет.
Простата же делал вид, что расчёты, происходящие между Рапоровым и монументальной официанткой, его ни в коей мере не касаются. Простаков привык к тому, что его как авторитета завейского правопорядка везде и всюду принимают словно большой подарок. Впрочем, он и взаправду оказался ценным кадром. Попеременно поддерживая друг друга, товарищи выбрались из подвала «Затирухи». Бравый майор, как и подобает настоящему командиру, шагал впереди. Он докандыбал до своей служебной «Нивы», запаркованной на стоянке для инвалидов у кальянной «Дым отечества», и не очень убедительно, зато решительно сел за руль. Не закрывая дверцы авто, предложил широким жестом:
– Если вы, мля, в редакцию, нам по пути. Садитесь, коллеги!
И тут же в «воронке» зазвучал кассетник. Какой-то разбитной, гнусавый голосок заспевал под гармошку:
Бледную поганку
Выловил в борще.
Ты меня не любишь,
Милая, ваще…
Простата включил мигалку и под ее всепроникающий вой пулей домчал друзей до редакции.
Главный редактор «Сенсаций недели», Владимир Евсеевич Слоним, битый-перебитый провинциальный царедворец от журналистики, готовился, попивая чаёк в подстаканнике из фирменного поезда дальнего следования, к очередной редакционной летучке. Затяжные совещания он считал главной формой своей работы. Дневное появление крепко «датого» Торцева он оценил со всей подобающей обстановке строгостью. Ибо это был демонстративный вызов заведенному в его организации статусу-кво: «Вечером после подписания номера пей – хоть до синей задницы, но днем – ни-ни!» Этот суровый принцип был своеобразным вызовом прежнему образу жизни Слонима. В ней Владимиру Евсеевичу с его уставшей, раздувшейся печенью оставалось только одно развлечение: иногда, очень редко, подсчитывать по вечерам, сколько дней кряду он не пил, и вспоминать, что и с кем он пил где-то и когда-то.
Еврей, крещёный в девяностые в когорте всей номенклатурной верхушки Завейска, Слоним в православии поначалу отнюдь не усердствовал, однако в последнее время зачастил в церковь. Видимо, надеялся отмолить у Бога свою молодость, изобиловавшую грехами, грешками и грешочками.
На старательно дышащего куда-то подальше в сторону Торцева главный смотрел испепеляюще-гневно как Зевс на черепаху. Тучи над головой Толяна развеялись лишь после того, как Слоним, прозванный сотрудниками, естественно, Слоном, узнал, что перед ним собственной персоной Георгий Распоров.
– Золотое перо России! Собкор телевидения! Наш политобозреватель! Как приятно: такой «политобоз» – и к нам! Надолго ли? Чем обязаны? Неужели фильм о нашем городе делаете?
– Приехал в гости к родственникам, – не стал пускаться в детали Распоров. – И тут, представьте, случайно встретил старого университетского товарища. – Он показал на Толяна. Тот в тщетной попытке реанимироваться уже успел налить себе мутной воды из редакторского графина. – Не мог не зайти к вам, достойному ветерану нашего славного печатного цеха.
– Как это правильно, как верно! Лучше сделать и пожалеть, чем потом жалеть, что не сделал, – многозначительно выдал Слон, следуя своей привычке говорить афоризмами за неимением собственных мыслей. – И какие планы у примы нашей журналистики? Помним ваши смелые публикации: «Известия», «Комсомолка», «Совершенно секретно»… Репортажи из горячих точек! Интервью со знаменитостями! Напряженные журналистские расследования! Как же!..
– Спасибо на добром слове. Вот решил задержаться в Завейске. В принципе, я – в отпуске сейчас. Но хотел бы посотрудничать недельку-вторую с вашим изданием, о котором много слышал. Тем более что соавтор у меня уже есть. – Гоша показал на Торцева. Тот жадно заглатывал второй стакан сомнительной по цвету влаги. – И первую тему уже выбрал: «Зона стай большого города». Проблема бесхозных собак в Завейске. Согласны?
– А как же!.. Всё верно: достойных тем в нашем мегаполисе – море разливанное! Можем оформить временный краткосрочный договор, а можем и вообще договориться исключительно о гонорарах, – засуетился Слон. – Обещаю: платить будем хорошо и честно, по верхнему тарифу. Нам очень ценно такое сотрудничество. Можно попросить ваш паспорт? Фотокарточка у вас с собой есть? Вижу, имеется. Отлично! Формальности, формальности… – Вызвал секретаршу и отдал приказ помощнице временно оформить Распорова на договор. – Надеюсь, проведете к тому же, Георгий Владимирович, и мастер-класс для нашей талантливой, перспективной молодежи! Объясните доходчиво молодым журналистам, что мы, российские мастера пера, не раскачиваем Землю, а только придаем ее оси правильный в свете решений – показал куда-то в небо – угол наклона.
После такой высокопарной тирады Гоше оставалось только откланяться. Торцев, которого окончательно разморило, ватной походкой выпилил из высокого кабинета вместе с ним.
В приемной Распорова уже ждала секретарша с выписанным на его имя удостоверением спецкора «Сенсаций недели».
– Позвони Простате, – на выходе из редакции предложил Толяну Гоша. – Надо бы нам подъехать на место убийства.
– Завтра – что только пожелаешь, старик: любой каприз… А сегодня – уволь! – Взмолился Торцев, глядя за горизонт сквозь запотевшие стекла очков, чудом зацепившихся за кончик носа. – Зря что ли я столько водки заглотал? Нет, пойду и срочно приму горизонтальное положение… Завтра ровно в десять встречаемся на этой же точке. – И он показал себе под ноги.
По большому счету Гоша был рад, что может вернуться в дядину квартиру. В кабинете его ждала загадочная рукопись.
У автобусной остановки, в сквере, недалеко от редакции он увидел двух крупных собак. Потом – еще одну, с белым пятном на лбу, за ней – ещё, пестренькую… Стая не выражала к прохожим никакой враждебности, чужаков она не замечала. Звери существовали в своем пространстве, а люди – в параллельном, в своем. Псам они пока не мешали.
Три собаки лежали преспокойно кружочком на месте бывшей клумбы. Четвертая стояла несколько в стороне, глядя в направлении проходивших мимо людей. Она была начеку. Стерегла свой хвостатый отряд. Готова была кинуться, ощерив клыки, на любого, кто специально или ненароком вторгнется в ничем не обозначенную для людей, но такую очевидную для псов их заповедную зону.
В маршрутке Гоша, было, прикорнул с устатку, когда услышал разговор двух пенсионеров:
– Смотрел вчера, Иваныч, передачку «В мире животных»?
– Не-а… Я Соловьёва с его присными слушал. Такая, скажу тебе, пидорача – хоть святых выноси!
– А зря. Там про собак рассказывали. Не поверишь, Иваныч, собака, когда отряхивается от воды, испытывает нагрузку во много раз больше космонавта, вылетающего в космос. А с ходу, стартуя с места, сразу развивает скорость в сорок километров в час. Как хорошая машина. В пять раз быстрее человека.
– Это точно. Тут никакому человеку в жизнь не поспеть… Звери – куда там! – совершеннее людей. И всё равно мы с тобой, Николай Ильич, цари природы. Впрочем, гляжу я на то, что вокруг нас творится, и думаю: «Надолго ли ещё?»
«Ишь какие сокровенные философы в Завейске обретаются!» – подумал Гошка, глядя на земских ветеранов социалистического труда.
«Зона псов». Так и будет называться будущий материал для «Сенсаций», решил Георгий. Хорошее название… Во всяком случае – пока. А там время, как всегда, покажет! Оно обычно не ошибается.
* * *
Округлым четким почерком, с решительным наклоном вправо, на странице было выведено СОНЕТ:
Вот взяли бережно за рамена
И в храм ввели, пригнув профану выю…
И слушаю незримого витию,
Клянусь молчать и чашу пью до дна.
Три раза странствую. И тьма грозна,
И огненную прохожу стихию.
И вдруг прозрел и вижу литургию:
Ступени, пламя, труп и тишина…
«Да будет свет великий!» И повязка
Спадает с глаз опять. Что это? Сказка?
В передниках и лентах предо мной –
Таинственные рыцари и маги,
И храм в огнях, и радугой стальной
Шотландские поблескивают шпаги.
В правом нижнем углу пометки: «Бр: С.М. Париж, 10 марта 1927 года».
Гошка отложил мохнатую на концах закладку в сторону.
Неужели это о масонском посвящении? Выходит, Авксентий Миронович был одним из них… Получается, что эта растрёпанная самодельная книга – ничто иное, как дядино интимное признание. Масоны, таинственная секта! Теневое правительство мира! Закулиса! Секретное братство вольных каменщиков!.. Впрочем, какие – к черту или к Богу – «тайные правители Вселенной»? Авксентий Миронович был тишайшим субъектом, едва сводящим к финалу месяца концы с концами, жил городским анахоретом в аскетической скромности. Каждую копейку считал, тени своей боялся, семью не решался завести – и вдруг: «тайный правитель»! Или я что-то не понимаю?
Любопытная квартирка!
Гоша начал догадываться, что представляют из себя дядины верёвочные закладки. Для чего они. Как по стрелкам в детских «казаках-разбойниках», по ним можно идти всё дальше и дальше. Только – куда?
Посмотрим, что там ещё:
«…Я нисколько не преувеличу, если скажу, что был потрясен.
Здесь, конечно, следует учесть неожиданность того зрелища, которое в моей психике неофита сменило серую действительность. Нельзя опять же забывать того уныния, которое в те годы царило в нашей эмиграции, болезненно переживавшей, в её целом, крушение былых устоев нашей страны, которые ещё так недавно нам казались незыблемыми. Мы смутно чувствовали, что для выхода из тупика, в котором мы оказались, необходимо искать новых путей.
Я сейчас не имею возможности подробно останавливаться на анализе тех настроений и мыслей, которые привели группу наших соотечественников, с особой остротой ощущавших безысходность создавшегося положения, к дверям нашего Храма. Но не подлежит сомнению, что, однажды вступивши на этот путь, они впервые после долгих и тягостных исканий ощутили твёрдую почву под ногами.
И вот это радостное ощущение путника, блуждавшего во тьме и увидевшего наконец свет, передалось и мне в тот достопамятный вечер, когда впервые я посетил «Астрею». Мне показалось, что я присутствую на каком-то необычайном, волшебном новоселье, вне нормального порядка вещей…
Общий вид Храма, ленты, фартуки, знамёна, музыка, ритм развёртывавшегося ритуала, тайный смысл посвятительного диалога – все это, вместе взятое, создало во мне не подлежащую ни сомнению, ни анализу интуитивную уверенность в возможности разрешения всех «проклятых» вопросов.
…Нам, на самом деле, удалось осуществить нечто неповторимое, редчайшее явление на посвятительном пути: вновь обретённую возможность увидеть мир новыми глазами».
Легендарная ложа шотландского ритуала «Астрея», вероятно, была названа в честь древнегреческой богини Справедливости, дочери Зевса и Фемиды. Последняя из Бессмертных, живших с людьми, небесная Дева, разочаровавшаяся в обитателях Земли и вознесшаяся на небо, чтобы стать созвездием Девы… Как приятно! Гошка на мгновение почувствовал гордость за себя, любимого: он знал об Астрее. Конечно – не о масонской ложе в эмигрантском Париже, а об античной богине. Наверное, из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции», которую до дыр зачитывал в детстве. Мальчишкой так увлекался античной мифологией, что, когда ложился спать, обращался перед сном к Зевсу с молитвой помочь ему завтра во всех ребячьих начинаниях.
К рукописному тексту прилагался клочок старой газеты. На ней красными чернилами были подчеркнуты две строки:
– Кто имеет право писать свои воспоминания?
– Всякий. Потому, что никто их не обязан читать…
(А.Герцен)
Вырезка из эмигрантского издания с ятями и десятичными i прилипла к дневниковой записи дяди.
«…От кого-то очень умного я слышал, – кажется, в Париже – будто каждая стена это на самом деле дверь. Для меня же выходов в жизни более не осталось. Равно – как и сердечных товарищей моих. Телефонная книжка моя иссохла как бальзакова шагреневая кожа. Остаётся лишь зацепиться памятью за что-то щемяще-трогательное. Только как же это больно!.. Впрочем, с годами и боль притупляется.
Вчера не стало Шелли. Бедная моя девочка так мучилась!.. Перед уходом очнулась и заплакала. А потом, закрыв глазки, засеменила в воздухе стремительно лапками, слово в последний раз побежала ко мне. Ко мне, одному. Затихнув, взвизгнула едва слышно – и ушла в собачий рай… Я давно осознал, что изменить жизнь нельзя, можно только поменять своё отношение к ней. Но что мне остаётся изменять, если смысла в жизни уже нет?»
Режет по живому, Авксентий Миронович. Не жалеет себя… Престранный же субъект этот дядя – или деда? – Сеня! Какого хрена он нашинковал всякой сентиментальной всячины в эту документальную подшивку?
Или он делал это только для того, чтобы не сойти с ума от одиночества? Оно само по себе не опасно. Но длительное, затянувшееся отшельничество способно свести с ума, если нет возможности поговорить с живой душой. Возможности диалога нет. Хотя бы – заочного, в письмах, за неимением в ту пору интернета и мобильного телефона, да и телефона в квартире вообще.
Необходимость диалога куда важнее потребности в акте познания. А что такое дневник, если не письмо к самому себе? Или – в никуда? Как записка о помощи, заложенная в бутылку, которую бросил с отчаяния в океан знаком последней надежды единственный житель необитаемого острова.
Человеку, если он не полная амёба – а таких, увы, большинство на планете – жизненно необходимо самовыражаться. Амба – амёбе! Если тебе одиноко, найди такого, как ты сам, любимый. Однако, поди попробуй! Где ж его, любезного, взять-то? Пока что ученые клонируют одних лишь овец…
Прав был мудрый француз Эдгар Кине. «Истинное изгнание – это не оторванность от родины, а жизнь в ней без возможности находить ничего, что бы давало тебе возможность любить ее».
Ностальгия – вот оно что! – пожирала бедного Авксентия Мироновича… Да-да! Она, Тоска-акула! Впрочем, ностальгия – это не кручина по стране, где ты родился и, казалось бы, счастливо жил и которую волею обстоятельств покинул. Не тоска по людям, которых ты любил и в «далеком далеко» вынужден был оставить. Ностальгия – это хандра по самому себе, прежнему, молодому, еще – а точнее: уже – не найденному. Ностальгировать – все равно, что искать счастья в перемене мест. Ибо все перемены происходят внутри нас. Самый интересный собеседник для каждого из нас – он сам. Это однозначно и оспариванию ни в коей степени не подлежит.
Древние говорили, что страшнее смерти только забвение. Они обманывались. Страшнее всего: прожить не свою, а чужую жизнь. Не напрасно, но зря. Варгин-Уманский жил в Завейске, если судить по его дневнику, скорее всего, не своей жизнью, она осталась у него как сон где-то на берегах Сены. Цепляло же Авксентия Мироновича с вящим, реальным миром только одно сокровенное существо – его собака. И вот ее не стало… Что остаётся? Только выть волком на звезду Сириус, собачью звезду ещё с календ древних египтян.
Разве не ещё одно свидетельство того, что не человек одомашнил собаку, а она – его?
Насильственная смерть близкого существа рождает не страх, а ненависть. А она разрушительна, прежде всего, по отношению к самому себе.
Или у Авксентия Мироновича была и другая, более существенная, цель пребывания в Завейске?
* * *
Время в пространстве памяти не имеет времени… Когда у него, у Гошки Распорова, появилась первая собака? Он помнил её очень смутно, был слишком маленьким, когда эта тяжёлая белёсая дворняжка с коричневым пятнышком на спине впервые залаяла у его колыбели. Точнее – у старой бельевой корзинки из ивняка, приспособленной под Гошкину детскую кроватку. Чуть более десяти лет прошло после самой разрушительной из войн, и бедность в стране-победительнице оставалась всеобщей. Вовсе не унизительной, далеко не обязательной, просто всеобщей. Вожди сулили стране коммунизм через четверть века, а пока гарантировали гражданам лишь равенство в нищете. Но люди всё равно были счастливы хотя бы потому, что остались живы.
…Собачку эту назвали Флейтой. Она прибилась к подмосковному дому Константина Петровича, деда Георгия по матери, в зимний холодный день. Снег шёл сплошняком разлапистыми, густыми хлопьями. Падал вертикально как нескончаемый занавес в белом безграничном театре. Ни ветерка, ни вьюги, ни позёмки… Дед, кряжистый, некогда крепкий человек с усами, похожими на ластик ровно под курносым носом, убирал деревянной лопатой снег с дорожки, как из-под белого, студеного полога у калитки появилась собака. Возникла в полной снежинок тишине, которая бывает только в русскую, столь обильную на осадки зиму. Собачка по-хозяйски подошла к Константину Петровичу и ткнулась острой мордой ему в колени. Потом привстала и положила передние лапы деду на грудь.
– Смотри-ка… Сучка. Ты откуда? – Опешил Константин Петрович. – Где, скажи, твой хозяин? А, малюха?
В ответ собачка только облизала деду кожаную рукавицу и покорно легла животом на снег, своим приниженным видом показывая, что готова всем пёсьим существом подчиниться новому хозяину. Служить готова! А потом взглянула – снизу-вверх – на деда большими грустными глазами и издала странный, совсем не собачий, свистящий звук.
– Фьюииить…
– Ничего себе флейта! Теперь и будешь Флейтой!
Так и появилась в хозяйстве Константина Петровича и Ксении Ивановны лохматая жиличка.
Снежная псица обожала зиму. Особенно она радовалась, когда шёл снег. Не шёл – валом валил, забивал снежинками каждую щель окрест, строил застывшие волны и целые валы вдоль дорог, стремительно становящихся похожими на оледенелые траншеи… Тогда Флейта – кличка эта моментально прилипла к ней – бросалась в ледяные барханы и словно плавала в них. Она упоённо жевала снег и играла со снежками, которые бросал ей дед, грызла и жадно глотала их.
Это было, наверное, её собачье мороженое.
В однокомнатный флигелёк дедушки и бабушки, который они гордо называли «домом», Флейту не пускали. Да она туда и не рвалась. Благодаря густой шёрстке прекрасно переносила под открытым небом даже тридцатиградусные морозы. Тем более что дед сколотил для собачки просторную будку, куда положил старую телогрейку. И кормушку поставил, в неё был превращён покоцанный эмалированный тазик. Извольте прописаться: все собачьи удобства!.. Если не считать, что Флейту посадили на цепь, прикрепленную к коньку будки. Однако такова теперь была функция Снежной псицы – бдительно охранять скудное дедово хозяйство.
Иногда дедушка отвязывал Флейту и на кожаных постромках, сделанных из его допотопных, сопревших и потрескавшихся ремней, запрягал собаку в санки, куда торжественно, как Мороза-Воеводу, сажали Гошку. Дворняга с радостью гоняла, гавкая, по дорожке – от дома к калитке и обратно. Гошка визжал, поначалу – от страха, а потом, когда уже попривык, – от щенячьего восторга. Солнечные искры на сугробах вдоль дорожки, скрип полозьев и сопение крепкой псины, без натуги тащившей за собой снежную повозку… Это и в самом деле было здорово: мальчишка имел собственную ездовую собаку! Не сибирскую лайку, конечно, как в фильмах об отважных покорителях Крайнего Севера, но какая разница, по большому счёту?
Ведь это была его и только его собака!
Если Гошка с разбегу бросался в снег, Флейта прыгала за ним. Словно спасала его, рискующего потонуть. Повизгивая, откапывала из сугроба, сопела, поскуливала, прикусывала Гошкину шубку, подбитую китайским кроликом. К тому же Флейта смешно и трогательно умела присвистывать носом.
– Фьюииить!
Друзей-ровесников у Гошки в полупустом зимой посёлке не было. А жаль! Как бы они завидовали, если бы видели, что у него есть такая классная собака. Зимняя!
Флейта исчезла так же неожиданно, как и появилась.
Весна пришла непривычно рано. За несколько солнечных дней снег, совсем недавно вездесущий, обильный, превратился в жёсткий наст, а затем почти полностью стаял. Апрельским утром Гошка вышел на крыльцо и сразу почувствовал что-то не так. На оцепленном занозистым штакетником участке, покрытом серыми, грязноватыми языками еще не слизанного солнцем до конца льда, царила непривычная тишина. Обычно Флейта, едва почуяв издали Гошку, восторженно лаяла, прыгала на месте, звеня цепью, приветствовала его. Но сейчас всё вокруг было тревожно тихо.
Предчувствуя неладное, Гошка стремглав побежал к будке… И сердце его упало.
Собачий ошейник не был расстегнут, он по-прежнему крепился к цепи, а та плотно держалась за будку… Но самой Флейты не было. Нигде! Да и следов её сильных лап на мокрой земле не виднелось, и подкопа под забором, целым, нетронутым, не было. Как такая крупная собака могла незаметно и бесшумно уйти, сорваться, выскользнуть? Это невозможно, решительно невозможно. Мистика!
Дедушка, услышав рыдания внука, сразу всё понял. Он подошёл к Гошке и развёл руками в недоумении.
– Просто зима прошла, сынок… Снежная собака убежала туда, где еще лежит снег, разве не понятно? Не плачь, Госяк! Вот начнётся новая зима, и Флейта обязательно вернётся. Она непременно придёт к тебе сквозь сугробы, как только у нас пурга завертится. Бывают собаки летние, а бывают, знаешь, и зимние.
Георгий поверил. Весну и всё лето он жадно ждал, когда же наконец выпадет первый снег. А, как только это произошло, дедушка привёл в дом Мурзилку. Молоденькую, весёлую и белую, с такой длинной, густой шерстью, что впору было запутаться в ней. И Гошка перестал сожалеть о Флейте… Только вот незадача: снега Мурзилка не любила, да и на санках своего хозяина возить не умела – была для этого слишком маленькой.
А сколько собак вообще было в жизни у него? Георгий, загибая пальцы, принялся считать… Дворняжки были, пудельки – тоже и ещё – джеки расселы… И одна такса. Однако весьма недолго. Её звали Пиф.
Десятилетний Гоша жил тогда у мамы в Москве. Он едва лёг спать, как в дверь позвонили. Это был отец, давным-давно с мамой и с ним, Гошкой, совместно не обитавший.
– Вам пакет! – Духоподъёмно объявил отец, чувствуется, пребывавший крепко навеселе, что случалось с ним не редко. И поддёрнул в круг света на лестничной площадке плотного, как батон твёрдой колбасы, пса-таксика на длинном поводке. – Это Пиф. Как в картинках в «Юманите».
– Ты с ума сошёл! – схватилась за сердце мать.
– Всё под контролем! Наш парень, ты говорила, рассказы пишет… Вот и будет почти как Чехов. У классика было сразу две таксы: Бром Исаич и Хина Марковна. А у Гошки будет Пиф.
Пиф оказался достойным представителем своего кривоногого племени. На месте днём ни минуты не стоял, грыз всё подряд – особенно ножки стола и модельную обувь. Зато как увлечённо и неутомимо приносил мячик, который ему кидали, как громко выполнял басом команду «Голос!», как лапку учтиво подавал… Однажды Гошка вышел выгуливать Пифа во двор, гордясь собакой перед друзьями, но случилось нечто страшное. Пиф так рванул вперёд, что вырвал у Гошки поводок едва ли не с рукой. Гошка бросился за ним, но – куда там!
К счастью, всё кончилось благополучно. Весь двор полдня гонялся по микрорайону за неуёмным, шоколадного цвета снарядом на четырёх коротких, кривых лапах. Остановить заводного зверя смогли только после того, как кто-то из случайных прохожих после истошного Гошкиного вопля: «Ловите собаку!» наступил на поводок и заставил Пифа на несколько секунд застыть на месте.
А как-то поутру зазвонил телефон. Это был отцовский приятель, известный журналист и писатель, главный редактор литературного издания.
– Как там наш монстр, Тамара?
– Какой такой «монстр»? – удивилась мама.
– Ну, Пиф, ясное дело… Мы вернулись из отпуска и можем сегодня заехать к вам и забрать собаку.
«Лишь сердце порвалось в моей груди…» – признался бы тогда Гоша вслед за Генрихом Гейне. Но баллад Гейне в ту нежную пору Распоров ещё не читал. Он просто расценил происходящее как предательство.
Оказывается, товарищ отца попросил его взять собаку на время. Выручить на две-три недели. Отец же, педагог хренов, не нашёл ничего лучшего, чем привезти пса к Гошке, не предупредив никого, что это только на короткое время.
Слёз было пролито! Не счесть…
Скажи, какая у тебя собака, и я скажу, кто ты. И ещё: с годами хозяева становятся похожими на своих собак.
Казалось бы, такова истина. Но, исходя из этих постулатов, составить представление о Распорове не представляло категорически никакой возможности. Ведь у него жили перед уходом в собачий рай собаки самых разных «рас и народностей». И каждая их них становилась частицей Гошкиной жизни. И у каждой из них, как и у человека, – свой характер и своя судьба.
Был период, когда особая любовь связывала Распорова с пуделями.
Леська, персиковая карликовая пуделица, была существом тихим и деликатным. Она не долго радовала Гошку. Однажды во время обычной, вполне дежурной прогулки по московскому бульвару на неё из-за угла набросилась сумасшедшая, свихнувшаяся после наркоза при неудачных родах самка добермана. Ам-м-м! – и всё… Потом Гоша узнал, что хозяин не раз без поводка и намордника выпускал опасную собаку, которая нападала и на людей. В конце концов, безумную доберманшу усыпили… Жалко – что не хозяина… Но Георгия это уже не интересовало. Легче от этого ему не становилось.
Артошу Распоров купил у нескрупулезной заводчицы в Марьино. В московской многоэтажке энергичная тётка деловито разводила мини-пуделей в двухкомнатной квартирке на десятом этаже. Косолапый щенок ткнулся носом при смотринах в Гошкин ботинок, и сердце Георгия растаяло. Это правда: не мы выбираем собак, а они – нас… Маленького-маленького, умещавшегося на ладошке пёсика Распоров взял с собой в Париж, где работал собкором от престижного столичного издания. Провёз щеночка через все европейские границы.
Впрочем, обманывать родное государство, воюющее с контрабандой, Гоша не стал и в Шереметьево перед посадкой в самолёт зашёл в кабинет с надписью на двери: «Ветеринарная служба». Там сидела опухшая женщина в белом халате, с видом совершенно заныканным.
– Что там у вас? Собака? Как хорошо!
– Почему? – простодушно поинтересовался Распоров.
– Достали! Одурела я от этой экзотики… То котов приносят, больше похожих на кроликов. То бурых медвежат пытаются вывезти под видом щенят чау-чау. А вчера какие-то придурки притаранили трехлитровую банку из-под томатов …с дождевыми червями! И на них справку ветеринарную от меня потребовали.
– Неужто прямо червей и притащили?!
– И вот сюда, на мой стол, поставили. Говорят, таможня без справки не пропускает. Они, дескать, собрались на рыбалку куда-то в Альпах. А там таких червей, как в наших чернозёмах, хоть удавись, нет. «Наши, говорят, дождевые – как солитёр: здоровые и жирные, а у них в Европе черви – как поганые глисты, маленькие и вёрткие». Так вот, пришлось мне отечественным солитёрам официальный документ выписывать. А они в земле колышутся, копаются, извиваются! Сквозь банку видно… Фу, мерзость какая! Тотальный абзац! А вы мне: «Пудель Артемон, собака…» Ну, да ладно… Держите его собачий паспорт.
– Простите, если что не так, – стушевался Распоров. Отправил Артошу в карман пиджака и поспешил на посадку.
Артоша, как и подобало настоящему псу, рос быстро. Он, видимо, в его предыдущей жизни должен был родиться в эпоху Античности спартанским воином. Спал на тонком коврике у самого входа в Гошкин корпункт, рычал при малейшем шорохе в подъезде, воспринимал как врага любого чужака и признавал за еду только сырое мясо. Сурово взиравший на незнакомых, он обожал Гошку, видя своего хозяина только в нём. Но при этом вовсе не рвался забираться на ночь к нему в кровать, как большинство предыдущих распоровских собак. Пудель Артемон – так солидно он был записан в собачьем паспорте – и ночью нёс, старательно и неустанно, свою охранную службу у входной двери. Мог и в засаде залечь: прятался в стенном шкафу среди пальто и ботинок и выскакивал на паркет, когда считал, что хозяин в опасности.
Непонятным образом пуделёк без промаха вычислял французов среди многих, приходящих в корпункт к Распорову людей. Артоша вовсе не собирался устраивать беспечным потомкам Бонапарта новую Березину, нет… Однако порыкивал на них и не стеснялся скалить зубы. Потомки галлов из числа Гошкиных соседей кобелька из далёкого Марьино не боялись, но предусмотрительно опасались. И, наверное, – не без оснований, учитывая мускулистый костяк Артоши-сыроеда и его маленькие, острые клыки.
На бульваре Монпарнас, где Артемон уверенно освоил пространство без единой травинки, обозначенное тремя насилу выживающими в галльско-алжирском мегаполисе лысыми деревьями, московский пёсик ощущал себя хозяином. Других собак внутрь периметра своего заповедного участка старался не пускать. К арабам из столичной службы, собирающей собачьи отходы на мотоциклах-пылесосах, любовно прозванных «шираклет» – в честь мэра Парижа Жака Ширака, – относился снисходительно: не замечал их. А на полицейских – как он, чёрт лохматый, опознавал их, даже одетых в штатское? – грозно рычал… Жёстким и суровым, мужским характером отличался Артоша! Впрочем, ему не было бы чуждо ничто собачье, если бы – к сожалению – не одно болезненное «но».
…В ненастный сентябрьский день Георгий кинул Артоше его любимый мячик, пёсик рванулся вперёд и взвизгнул от боли! Поджал лапку и заскулил. Распоров взял своего любимца на руки и помчался к ветеринару.
Французский доктор Айболит, несмотря на то, что его рыжую голову украшали сразу два уха, совершенно очевидно походил на Винсента Ван Гога: измождённо худой, носатый, кажущийся непомерно длинным. Он пощупал собаку и сразу определил.
– Вывих тазобедренного сустава… Скорее всего, последствие родовой травмы. Это поправимо. Однако, с наибольшей вероятностью, это будет повторяться…
Звериный импрессионист как в воду смотрел: правая лапка оказалась ахиллесовым бедром отважного Артемона. Гошка как-то стал подсчитывать, сколько раз, естественно, под общим наркозом его собачке вправляли лапку, и со счёту сбился. Бедный Артоша! И бедный Гоша! На деньги, отданные всевозможным звериным эскулапам за лечение пуделька, Распоров вполне мог бы отлить его, если не золотую, то серебряную статую – наверняка.
Одуреть впору!..
Однако настоящая любовь, как известно, цены не имеет. А Гошка любил собак всей своей широкой душой, иначе не умел да, наверное, и не мог.
Собачниками не становятся. Ими рождаются.
* * *
«Слушай, – задал Гоша вопрос самому себе, – а почему дядя, чувствуя близкий уход в мир иной, обратился за консультацией именно к Келеву? Далеко не самый идеальный наперсник для откровений».
Распоров принялся искать в интернете список нотариальных кабинетов в Завейске. Ни «Фидес», ни Келева нигде не было. Странно, право! Он набрал сохранившийся в памяти его «самсунга» номер мобилы нотариуса, но механический голос в телефоне после отрывистых гудков ответил: «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети». Не зная, что еще можно предпринять, Распоров наобум забил в интернет-поиске фамилию Kelev. Кириллицей и латинскими буквами. В ответ в Яндексе выплыло: «Келев – пер. собака, др.евр.».
Вот тебе на! Совпадение? Вряд ли…
Как ни крути, опять, выходит, собака, хоть и на иврите. В пандан Гошка вспомнил забавный московский эпизод. Он как-то шёл осенью по Суворовскому бульвару и услышал, как хозяин обращается к выгуливаемому на газоне мускулистому, шебутному джеку расселу.
– Изя, как тебе не стыдно! Как ты себя ведёшь, Изя!
Распоров не сдержался и спросил.
– Почему – Изя? Как, можно сказать, национально необычно вы собачку назвали…
– Да нет! На самом деле он – Джек. Но, когда рычит, разборчиво произносит: «Израиль, Израиль…»
– Не может быть!
– Убедитель сами. – Хозяин подтянул к себе юркого джека рассела, поднял его – так, чтобы собаке было неудобно – за передние лапы, и Гоша явственно услышал, как маленький пёсик грозно прорычал: «Израиль, Израиль…»
В самом деле – Изя. И очень боевой, хотя и живёт не в Иерусалиме, а в Москве.
Чего только не бывает под луной!
…Келев. Псиный псевдоним, получается, звериная кличка? Какой-то кроссворд, одно слово!.. И зачем нотариусу, – может, с приставкой «псевдо»? – такие жмурки, смутные игры? Да и куда к чёртовой матери запропастился он сам, покемон оглашенный?
Поутру Гошка не мог найти себя, мучала известная русская болезнь: «перепел». Вчера вечером они с Торцевым молили Бога, чтобы он даровал им здоровье, а сегодня жалели, что намедни не подохли. Во рту стояла сахарская сушь, трубы безнадёжно горели, в голове по-хозяйски расположилась неподъёмная чугунная гиря.
По пути в «Сенсации» Гоша заставил себя заглянуть в подозрительный шалман с рекламой на двери: «Мясо из-под ножа». Без особых надежд на спасение рискнул, не отходя от магазинной стойки, вылечиться изысканным коктейлем «Фантазер»: сто пятьдесят граммов водки «5 озер» на банку палёной «Фанты». Получилось! Маленько оттянуло… И, мгновенно – как в старые времена – потянуло на «подвиги». Враз помолодев от спасительной дозы, Распоров решил заскочить к бесформенному офисному корпусу, где он встречался с нотариусом.
Кабинет Келева не был заперт. В нём полным ходом шла важная, ответственная работа: два киргиза в шлепанцах на босу ногу и в трениках, сплошь покрытых пятнами от белил, уже содрали выгоревшую, частями вспухшую пузырями краску и под жизнеутверждающие мелодии, которые неслись из громко работающего андроида, шпаклевали стены.
– А где нотариус? – спросил Распоров.
– Начальника, да? – Испуганно переспросил старший из номадов.
– Начальник, начальник… Тот, кто раньше в этом кабинете работал.
– Уехал, – ответил маляр. – На стройка она уехал.
Дальнейшие расспросы бесполезны. Гоша направился к лифту. В спину ему неслась старая, забытая песенка.
…Парком шла, сзади пес
За тобой газету нес.
И когда, как во сне, улыбнулась мне в ответ.
Улыбнулась мне в ответ.
Ша-ла-ла-ла-ла-ла, Ша-ла-ла-ла-ла-ла…
Ша-ла-ла-ла-ла-ла! Привет, мой старый музыкальный приятель! Георгий вспомнил, как он когда-то вёл авторскую передачу на радиостанции «Юность». И в семидесятые годы ставил в эфир – как сообщалось: «по многочисленным просьбам наших радиослушателей» – этот давнишний, еще времен янтарного Сопота, шлягер поляков из «Червоных гитар» Северина Краевского. Песню исполняли и по-польски, и по-русски, перелицованную каким-то советским ВИА. Как популярен был тогда конкурс песни в Сопоте, польском курорте на Балтийском море! Какие прекрасные певцы в нём участвовали: Шарль Азнавур, Муслим Магомаев, Чак Берри, Джони Кэш, Дани Клейн…
Да пёс с ней, с музыкой для всех и с песнями о главном! Есть дела посерьёзнее.
«Попал, – пронзило Гошку. – Как палец в нос попал!.. Что же получается? Неужели все его документы по наследству на квартиру, выправленные под дурацкие улыбочки этим хреновым Келевым, – дерибас, фальшивка? Что остаётся делать? Идти в полицию? Но на кого заявлять, если этого человека в природе не существует? Или пока забить на всё болт?.. Видит Бог, непонятное что-то получается. Если это многоходовое мошенничество, то как тщательно всё придумано! Да и какова, в конце концов, цель махинаций этого псевдонотариуса? Квартира-то всё равно отписана дядей на него, на Распорова, и других наследников в природе не существует».
Георгий вспомнил, что ему рассказывал коллега-телевизионщик, вернувшийся из Югославии после войны. Тот утверждал, будто в памятке для американских лётчиков давалась рекомендация для пилотов в случае, если их собьют сербы. Главное: не суетись, присядь и восстанови душевное равновесие! Просчитай все «за» и «против» – и только после этого вызывай по аварийному маячку подмогу. Не спеши, не гони! Ибо первое решение, как правило, бывает торопливым и – значит – ошибочным чаще всего.
Так Гошка и поступил. Решил «дать время времени», – как говаривал Франсуа Миттеран. Тем более, что из-за похмелья, жары и пыли от ремонта заболела, раскалываясь, голова. Какого хрена он так вчера усугубил? И, вообще, какого ляда он застрял в этом грёбаном Завейске? Полный ша-ла-ла! Но отступать уже было некуда. Заинтригованный всем этим кавардаком вокруг дядюшкиной квартиры, Распоров решил идти до конца.
И первым делом отправился, как и задумано с утра, в редакцию «Сенсаций недели».
* * *
– Ну, где же ты! – Сходу накинулся на Гошу Торцев. – Шеф выделил нам разгонную редакционную машину, а тебя все нет. Надо ехать к догхантеру, которого грохнули вчера – ты помнишь! – на окраине города. Нам обещали целый разворот в будущем номере. Сорок пять тысяч знаков с пробелами… Я уже кое-какую фактурку к материалу надыбал походя.
В «сенсационном» автомобиле – это была узбекской сборки «Дэу», прозванная в редакции Дэушкой, – друзья сходу начали обсуждать будущий материал.
– Послушать вас, местных, так Завейск уже стал настоящей «территорией волков». Помнится, так назывался материал о бездомных собаках в Москве, напечатанный лет десять назад в журнале «Пороги» – завел разговор Гоша. – Тогда ребята написали, что в среднем ежедневно в Москве насчитывается шесть покусанных горожан. Выходит, до двух тысяч пострадавших в год.
– Сдается мне, заниженная цифирь.
– Скорее всего. Я читал, что только за полгода три с половиной тысячи москвичей были госпитализированы в связи с укусами животных. Правда, как бродячих, так и домашних. Много это или мало?.. А в ответ – другая крайность. Псов начинают уничтожать массово едва ли не на глазах всего народа. Так, убили несколько десятков собак у Киевского вокзала, прямо в центре Москвы, или массово отравили псов на Воробьевых горах, у главного здания МГУ… Дикость, безусловно. Что-то, безусловно, тут делать надо. Но стоит ли решать проблему такими живодёрскими методами?
– Андреасян, по делу которого мы едем, – особый случай. – Толян, судя по всему, тщательно подготовился к осмотру места убийства. – Совсем недавно удачливый московский бизнесмен, он несколько лет назад забил на свой столичный бизнес и перебрался в Завейск. Возглавил в городе главное спецпредприятие по ТКО.
– Это что за шифровка?
– И ты не в курсе!.. Вывоз, сортировка, утилизация и переработка отходов всех классов опасности. ТКО – твердые коммунальные отходы. Золотое дно, мафиозный клондайк! Молодчик приобрел недалеко от города несколько лесных участков и стал принимать там всевозможные отходы, строительные, бытовые… Монбланы мусора! Вонь, плесень, крысы! Андреасян, собака злая, за считанные месяцы загадил и землю, и воздух, и воду. Что там творится с окружающей средой, говорить тебе не буду: её больше не осталось.
– Хваткий тип, нечего сказать!
– Это еще не всё… Посеял этот тип по всему городу и собственные салоны красоты, проиллюстрировав таким образом, что от великого безобразия до великой красоты всего один шаг. Назвал новый бизнес не без воображения: Академия красоты «Феодоро». Академия, слышишь? Убиться, не встать!.. Оформил бренд на некую Лию, даму приятную во всех отношениях, впоследствии ставшую его официальной женой. Впрочем, была у него параллельно еще и другая, не официальная, привезённая откуда-то с Кавказа.
Феодоро, Феодоро – пытался вспомнить Распоров… Ах да! Феодоро – название с многочисленными реминисценциями. Евразийство смешалось с Германией, плюс еще мощное дыхание истории. Феодоро, или Готия, страна Дори – средневековое греческо-германское государство, существовавшее в юго-западном Крыму. Грозные германские воители-готы, часть которых не отправилась вслед за их вождём Теодорихом, прозванном Великим, на завоевание Италии, появились в Таврии в пятом веке нашей эры и остались там. От Алушты до Балаклавы простиралась занятая ими земля. Государство крымских готов – православных, кстати – исчезло с лица земли только в конце пятнадцатого века под ударами турок-османов… И вдруг завейская косметика под таким историческим брендом! Вроде бы, Европа и Азия – в одном флаконе. Хитро!
– Крым – дело тонкое, – сказал Распоров. – Название, получается, с намеком.
– Никаких намеков, все просто как капустная кочерыжка. Претензия чувствуется, и более ничего. Пошлость… Одна их реклама чего стоила! Скажем: «Омоложение и дизайн интимной зоны».
– Не может быть!
– Может… Может… Андреасян отличался обезьяньей ловкостью, а его подруга жизни Лия – отсутствием элементарной брезгливости.
– Погоди-ка, старичок! Не Владимиром ли звали твоего Андреасяна.
– Точно так. Откуда знаешь?
– Получается, знаю… Причём – давно.
Ничто так не сближает людей, как случайное путешествие в одном купе, это аксиома. Давным-давно в поезде дальнего следования, неспешно шедшем из советской столицы в Минск, Георгий познакомился с Володей Андреасяном. Общительным и чертовски обаятельным, нельзя не признать. Голос с легкой хрипотцой – как у Никиты Михалкова! Нескончаемая коллекция анекдотов!.. А тосты, тосты!.. Особенно ему, жгучему брюнету с кавказскими усами и с глазами как две жирные маслины, удавались здравицы «под товарища Сталина»:
«Женщина в колхозе – большая сила!.. Так выпьем же за наших верных подруг, товарищи!»
При советских царях Андреасян был дипломатом где-то в индобразилии, но вынужден был уйти из МИДа по причине обнаружения у него дяди-эмигранта в Америке. Тот, бывший офицер-власовец, не нашел ничего умнее, чем написать генсеку Брежневу в Кремль патриотическое послание: дескать, горю желанием быть полезным исторической родине! Для чиновника советской поры иметь родственника в капстране, да ещё и, как выяснилось, калифорнийского миллионера, расценивалось как вопиющий криминал. Володю вызвали к освобождённому секретарю парторганизации министерства.
– Как смели вы сокрыть от партии и от органов наличие близкого родственника за рубежом?!
А «нарушитель» был парнем не промах. Говорит, не моргнув глазом, мидовскому партайгеноссе.
– Какой это родственник… Вы мне гораздо более близкий человек: дядю я в глаза не видел, а с вами встречаюсь на каждом партсобрании.
Ему, натурально:
– Вон с государевой службы! С волчьим билетом!
На закате горбачевской перестройки Андреасян, оказавшийся человеком вполне рыночным, рванул в бизнес.
Сделал, как многие хваткие люди тогда, собственный банчок, названный звучно, по-парижски – маленький, карманный, но при этом жутко агрессивный. Набрал денег в долг, кредитов всяких разных… Тогда-то и подцепил в гостиничном баре-ресторане для иностранцев Лию с ее длинными белорусскими ногами. Она специализировалась на альковных услугах за валюту для турецких бизнесменов-строителей, очень уж любила усатых брюнетов. Не брезговала и «зайчиками» – так московские жрицы любви ласково прозвали залетных японцев.
Почувствовав за Володей хорошие деньги, поспешила стать его женой. Занялась «продажей красоты»: салоны косметики с ненавязчивым массажным сервисом росли в ту пору как поганки после теплого дождя. В определенных столичных кругах её по старой памяти мужики продолжали титуловать Лийкой-Космонавтом. Далеко не случайное прозвище! Скорее – профессиональная характеристика. Как утверждали ищущие ласок за деньги состоятельные современники, гибкая Лия, несмотря на сухое лицо без живых красок, костистое тело и практически полное отсутствие бюста, обслуживала валютных фраеров так, что они в космос улетали. Лийка раскрыла как-то подшофе одной из товарок свой альковный секрет: «Это фирменный рецепт моей бабушки, от него ещё красные комиссары и ворошиловские командармы как пьяные суслики тащились».
Ну, а если вернуться к более земным темам, то все бы шло у Андреасяна гладко, но банкиром наш делец оказался никудышным. Кончилась финансовая авантюра тем, что кредиторы потребовали своих денег и обещанных процентов. Банкиры же у нас, как известно, денег клиентам не отдают… Озлоблённые кредиторы пригрозили грохнуть Володю. Тогда наш герой, предварительно переоформив все «движимости и недвижимости» на предприимчивую супругу, пропал. Исчез с концами, оставив кредиторов с длинным носом: «Кому должен, всех прощу».
Закончив свой рассказ Анатолию о прохвосте Андреасяне, Георгий подытожил.
– Вроде бы, он как умер. Где-то так… Лия даже похороны незабвенному супругу шумно устроила. По полной программе: гроб, венки, подвыпивший попик на отпевании, покойник на смертном ложе, – впрочем, плохо узнаваемый, какой-то бездомный бедолага, густо измалёванный побелкой санитарами в морге, – и потом могила с портретом на мраморном надгробье на Троекуровском… Злые языки, правда, утверждали, будто Володя во время собственных похорон благополучно слинял по левому греческому паспорту в Хорватию, где загодя свил заповедное гнездышко на берегах Адриатики.
– А на самом деле, получается, залег в Завейске, где три с лишним года отсиживался, как бандеровец в схроне. А потом воскрес, словно птица Феникс.
– Наверное, помогли старые связи, – мафия вечна! – и Андреасян превратился в Завейске в ярого пропагандиста программы утилизации ТКО. Тому, кто придумал эту бодягу с виртуально утилизируемыми отбросами, власти памятник обязаны поставить. Нерукотворный монумент воздвигнуть!
– Да-а-а… Воистину золотые отходы у нас!
Друзья как раз проезжали мимо площадки с жирной танцующей надписью от руки: «Место сбора мусора. За незаконный вброс – штраф 5 тыс. рублей». Выставленные почти к дороге весёлой расцветки пластиковые кубы и решетчатые ящики были переполнены выше крыши: всевозможные бытовые отходы ссыпались, стекали на асфальт, как лава из вулканического жерла в дни извержения. Весь мусор – в одну кучу: пищевые отбросы, пустые банки и бутылки, сорняковая зелень с участков, пластик… Чему тут удивляться? При чём здесь – хотя бы по касательной! – экология, о которой столько талдычат по телевизору? Отбросы как раньше не вывозили регулярно из городов и весей (Москва – редкое исключение, да и то не всегда), так и теперь этого не делают, особенно – в провинции. А деньги за условно утилизируемое коммунальное дерьмо, никем не сортироуемое, у налогоплательщиков отбирают. На шермака, халявно, без предупреждения, даже без заключения с безвластными гражданами надлежащих договоров.
– Знаешь, Толян, как по-научному называется окаменевшее говно динозавров и птеродактилей?
– Не-е-а…
– Копролиты. В музеях естествознания эти окаменевшие «каки» триасово-юрского периода представляются сегодня чуть ли не как главные реликвии человечества… Так вот, нынешние апологеты ТКО, для которых нажива – всё, а экология – ничто, миллениума этак через два до умопомрачения загадят все континенты новыми копролитами в том числе и нашего с тобой фирменного изготовления.
– Наверное, не только фекалиями, а, прежде всего, – пустыми упаковками, банками, бутылками, пакетами.
– Не без того… Гордись, бро! Только так мы с тобой и войдем в Историю. Прав был великий Леонардо: будущее человечества ознаменуют лишь огромные кладбища и миллионы нужников, столь переполненных, что их и очистить грядущим поколениям станет невозможным. Каково общество, таковы и его артефакты.
– Ты и загнул, Жора! Откуда глухой пессимизм?
– От верблюда!
– Не ласков ты, не ласков… Ну, давай по делу. Андреасян помимо гешефта на так называемых ТКО подвизался и на создании собачьих питомников. Учитывая его ненасытную алчность, легко представить, что эти заведения превратились у экс-дипломата в гигантский агрегат для зарабатывания денег из горбюджета. Похлеще помоек! Подсчитай. На содержание одной собаки город выделяет 147 рублей в день. Скажем, формально в собачьем Гулаге содержится тысяча псов. А на самом деле – пятьсот.
– Нетрудно представить, сколько денег экономилось в пользу дельца на приписках.
– Занялся он и стерилизацией животных. Дескать, обещал властям контролировать рождаемость бродячих собак, ведь формально они – собственность города. И что получилось? «Спецы» Андреасяна изловчились зарабатывать и на отлове собак – тендеры на это выигрывали! – и на их содержании, и на стерилизации. Одних и тех же сучек садисты оперировали по несколько раз, а потом показывали их присылаемым из контролирующих инстанций инспекторам… Чем больше поймал и стерилизовал, тем круче огреб бабок! Учёта ведь все равно нет. До сих пор не существует точных данных, во сколько обходится стерилизация одной собаки. Но известно, сколько денег, скажем, в одной лишь Москве выделяется каждый год на содержание собачьих приютов, стерилизации, строительство новой инфраструктуры.
– Сколько же?
– Около 800 миллионов рублей. Детализация расходных статей – тайна, покрытая мраком. Завейск в этом плане не исключение. Здесь всё, как и везде по стране, – согласно московскому формату, образу и подобию. Только чуть поскромнее, масштабы все-таки поменьше… Кажется мне, что за все это Андреасян и поплатился. Только вот кто влиятельный и значительный скомандовал убийцам: «Фас!»?
– Не ново это всё, ой как не ново! Ещё Владимир Гиляровский во второй половине девятнадцатого века написал репортаж «Ловля собак в Москве». Дядя Гиляй рассказывал, что по постановлению городской думы все бродячие собаки отлавливались и помещались в живодёрню Грибанова в подмосковной деревне Котлы. Законодательный акт строго-настрого запрещал исполнителям проявлять жестокость. Ловля проводилась только в ночное время, и, если у пойманного животного обнаруживался хозяин, он мог выкупить свою собаку.
– Держи карман шире!..
– Увы и ах! По наблюдению Гиляровского, все происходило с точностью наоборот. Ловля петлёй или сетями проходила крайне жестоко, к тому же мастера «очистки» старались выманить из дворов породистых собак – с целью их дальнейшего выкупа или перепродажи. А беспородных псин бепощадно убивали с помощью верёвочной петли или дубины.
– Одним словом: проклятый царизм… – Выступил с классовой позиции Толян.
– Не везло животным и при Советах. Отловом бездомных собак занимались службы городского хозяйства. За пойманную псину «охотник» получал 1 рубль 40 копеек. К тому же в качестве вознаграждения ему дозволялось взять любую приглянувшуюся ему шкурку. На меховой воротник, на шапку-ушанку, на теплые стельки… Иногда животные уничтожаилсь уже по пути в приют: в грузовой отсек автомобиля вел от выхлопной трубы шланг с угарным газом.
– Это же гитлеризм какой-то!
– Отчасти… В самих приютах порой применялись инъекции животным, вызывающие смерть от удушья. Городские службы, надо сказать, трудились не покладая рук: в год отлавливали и уничтожали до 60 000 собак, при общей сумме, по некоторым официальным оценкам, до 100 000 особей. Только в 1999 году после шумной медиа-кампании, затеянной зищитниками животных – с участием самой Брижит Бардо, – варварская практика была в Москве прекращена решением мэрии. Вместо этого в столице начали проводить экспериментальную программу: бездомных сук отлавливали, прививали от бешенства, хирургически стерилизовывали и выпускали на улицу.
* * *
– Остановите, пожалуйста, – попросил Распоров «сенсационного» водителя. – Надо что-нибудь перехватить, с утра во рту маковой росинки не было.
На торговой площади перед въездом в фешенебельный поселок с экзотическим названием Эрменонвилль аккуратная, чистенькая бабуля торговала пирожками.
– Почем, мамаша, изделие? – поинтересовался Гоша.
– Если с мясом, то четыреста рублей штука. Если с рыбой или грибами – пятьсот, – заученно отрапортовала пенсионерка.
– С ума сойти! Откуда же, синьора, такие заоблачные цены?
– А ты взгляни, милок, как доллар нынче вздорожал… Да и вообще: такие ценные пирожки – исключительно для оккупантов и предателей родины. Им в отличии от нас денег считать не надо. – Тётушка обвела рукой пространство перед собой.
– Это точно, – согласился Гошка, глядя на трехэтажные особняки, едва ли не паласы, прячущиеся за многометровыми заборами у дороги.
Так и не купив пирожков по элитным ценам, приятели мимо загадочного объявления: «Перформанс охлаждённой рыбы и обжаренная килька: «За Родину!» вернулись в машину. Два поворота направо, три – налево, и они оказались на месте.
– Неужели мы, наконец, приехали? – В тесной Дэушке у Распорова затекли ноги, и едва не отвалилась спина.
– Смотри! Вот проходная посёлка, а там, в трёх шагах, – особняк Андреасяна. Неплохо ему с Лией губернские власти дали команду: «Место!», не правда ли?
Античный дворец беглого московского деловика и его хваткой подруги – с портиком и коринфскими колоннами – окружал высоченный сплошной забор, из-за которого были видны лишь макушки здоровенных плодовых деревьев. По периметру металлической стены суетились, старательно затаптывая оставшиеся от злоумышленников следы, какие-то люди, видимо, из полиции. Так оно и есть. Неспешно подошел майор Простаков, царственный и уверенный в себе. Властно махнул поселковой охране рукой, приказывая пропустить редакционную машину.
– Следуйте за мной, мля, я вам кое-что покажу. Тут не дача, а целый, мля, бардак Обамы!
Они спустились в подвал, в котором из мебели был лишь огромный металлический шкаф. Простата открыл дверцу и показал стеллажи с коробками и пузырьками.
– Знакомьтесь, мля, Дядя Ося, – процедил, прикусив сигарету, Простата. Он взял в одной из картонок упаковку с медикаментами и протянул ее Гошке.
– Не понял…
– Витамин «О», Осик, Дядя Ося… Так, мля, охотники на собак называют этот противотуберкулезный препарат. Его таблетки ломают или толкут, а затем фаршируют ими приманку: от сарделек до плавленого сырка «Дружба». Съест песик такую, мля, «вкусняшку» – и отправляется туда, откуда не возвращаются. Мучительно страдает, долго! «Собакеры», они еще называют себя «городскими санитарами», не особо изощряются в поиске отрав для лохматых. На этой полке, смотри, – феноловазид.
Простата брезгливо взял кончиками жёлтых от табака пальцев собачий яд и показал Распорову.
– Препарат, мля, начинает действовать через полтора часа: блохастого охватывают судороги, наступает нарушение витальных функций. Конец известен… Самый безобидный для человека медицинский препарат или флакон с банальным средством бытовой химии может превратиться для собакена, мля, смертельным ядом. Двадцати минут достаточно, чтобы цуцик окочурился. Но это лишь в лучшем случае, бывает агония длится дольше… Порой эти моральные, мля, уроды тесно сотрудничают с коммунальными службами, которые из-под полы платят киллерам за каждую убитую шавку налом, по количеству сданных тушек или шкурок.
– А это что за первобытные орудия? – Показал Гошка на корзину с дротиками.
– Летающие шприцы. Начинены, мля, препаратом «Апреналин-профит». Принадлежит к группе миорелаксантов. Сознание животного не отрубается, зато, мля, попеременно парализуются группы дыхательных мышц. Паралич перед смертью длится до двадцати минут. Страшных минут!
– Получается, убитый был не только профессиональным бизнес-мошенником, но и заядлым садистом, догхантером.
– За что, мля, и поплатился! Жуткое зрелище! – Простаков зашел в архив своего мобильного и показал уже увезённое в морг обезображенное страшными укусами тело мужчины с перекушенным горлом. – Как говорят в народе: «Жил собакой – околел псом». Если бы умер другой смертью, я бы подумал, что его жена, мля, заказала. Такая мымра может! С особым нежным чувством, так сказать. От этой безбашенной тёлки – её в доме в ночь убийства не было, есть алиби: миловалась с любовником, кстати, бывшим ментом, он уже дал показания, – всего можно ожидать. Но чтобы так жестоко!
– «Так поступают все женщины» – писал Бетховен, – вставил своё слово Торцев, видимо, вспомнивший о своих былых супружеских злоключениях. И тут же, Гоше на удивление, был поправлен возмущённым Простатой.
– Замолчи, Амудей! Оперу сочинил Моцарт, знать надо, мля!
Продолжил.
– Три месяца назад на Андреасяна уже покушались: гранату бросили. Но она, мля, не взорвалась почему-то. Мы тогда начали следствие. Шеф спрашивает: «Кто, думаешь, мог Андреасяна заказать?» Кто-кто, мля в пальто! Из желающих завалить под фанфары этого пидора гнойного можно было бы очередь построить как при коммуняках у Мавзолея.
– Сделайте-ка, пожалуйста, изображение покрупнее, – попросил Распоров, вглядывавшийся в жестокую картинку на мобиле майора. – Что это за белые куски на полу вокруг тела?
– Ёханый бабай, неужто наркота? – Принял боксерскую стойку Простата. – Не похоже… Эй, Морковин! Кто тело на месте происшествия первым осматривал?
– Я и осматривал, товарищ майор.
– Ну, так что там, мля, на полу было разбросано? Пластик, вата, поролон, куски сахара? Что?
– Виноват. Не придал этому значения, товарищ майор, но кусочек все же сохранил. Вот! – И следователь достал из портфеля пластиковый пакетик с чем-то ватно-белым внутри.
– Почему, мля, не приложил к уликам?
– Виноват, товарищ майор. Счел несущественным.
– Можно мне? – Гошка достал содержимое пакета. Помял, понюхал. Глубоко выдохнул, и следом вдохнул ткань на сгибе руки. Подождал, пока освежится обоняние. Потом отломил кусочек и осторожно попробовал на язык под ужасающим взглядом Простаты. Поцокал языком. – Не поверите: это гриб. Обыкновенный лесной гриб, только молодой.
– Какой к лешему, мля, гриб?! Не до белых в лесу нам сейчас, Чапаев!
– Но это на самом деле гриб. Сдается мне, гриб-дождевик, его еще называют «волчий табак». Или «пылевик». Когда он молодой, белый и плотный, это чистый деликатес, а, когда старый, лопается и распускает лёгким дымом семена. Итальянцы-гурманы за его белой плотью охотятся. Жарят в сливочном масле. Подливу вкусную из него приготовляют.
– У нас не Сицилия, мля, у нас охотятся на миллионеров, а не на грибы. Чушь какая-то! Что общего с этим грибом мафиозным у хачика, пожранного собаками?
– Ликопердон.
– Ты чего, мля, себе позволяешь, Москва!
– Забавно, ликопердон – это латинское название гриба. Переводится: «волк, испускающий ветер». Звучит по-русски не самым благозвучным образом, согласен, но символично, не правда ли? Считайте, майор, что собачки оставили вам свой привет. Пардон за ликопердон!
– Наликопердонили тут, мля!
Простата растерянно развел руками. Происходящее было пока что не доступно его ментовскому пониманию.
– А записи камер проверяли? В таком элитном поселке наверняка полным-полно камер… Да и как собаки на замкнутый участок проникли?
– Записи видеокамер, мля, нашли. Сейчас посмотрим… И ограду мои ребята сейчас исследуют.
– Степан Васильевич, можно вас! – Позвал Простакова голос откуда-то сверху.
Вслед за Простатой Гоша и Торцев вышли наружу. Там их ждал молоденький лейтенантик в форме:
– Товарищ майор, следствие обнаружило вскрытие стены.
– Китайской, мля, что ли!
Простата выругался и зашагал за своим сотрудником через сад к дальнему углу ограды. Там в ее металлическом листе была вырезана в половину человеческого роста дыра. Полотно было старательно загнуто вверх и чуть по сторонам так, чтобы никого из пролезающих сквозь забор не поранить.
– Вот тебе, мля, и собачки! – Майор провел ладонью по срезу и аж присвистнул. – Однако, пёсики теперь и с «болгаркой» умеют обращаться… А записи где?
– Готовы, товарищ майор.
В помещении охраны на въезде в поселок собрались «ответственные лица»: комендант СНТ с двумя местными сторожами-узбеками, районный участковый старшина, толстые дядьки из завейской прокуратуры.
– Н-н-ну! – Надсадно выдавил из себя Простаков, глядя волком на поселковый президиум.
Камеры, расставленные по периметру СНТ, зафиксировали несколько больших собак, бегущих вдоль ограды. Подул ветер, и ветки деревьев, растущих у забора с прорытой вдоль него канавой, загородили объектив. Начавшийся дождь, вообще, свел видимость к нулю.
– Все у нас через жопу, мля! – Взвыл Простата. – А что видно с других камер?
– Тоже ничего… Почти ничего.
– Показывайте, мля, ваше «ничего»!
Опять стали смотреть: ночь, непогода, шрамы от капель по стеклу, пухлые кусты сирени.
– Стоп! – прервал просмотр Гоша. – Можно последнюю запись чуть отмотать назад и прокрутить еще раз, но вдвое-втрое медленнее.
– Что за командир? – Напрягся, без приязни глядя на Распорова, комендант СНТ, холеный мужик с бородкой-эспаньолкой и с застывшей раз и навсегда презрительной гримасой.
– Делай, душило, что говорят! – Рыкнул на начальника поселкового масштаба майор. – Кончай выбешивать меня!
Запись пошла гораздо медленнее, и тогда в нижнем углу обрисовался контур человека. Нет, не человека, а какого-то массивного существа! Казалось бы, все понятно: просто-напросто рослый, широкий в плечах мужик в толстовке с капюшоном, но голова его казалась несколько странной. То ли на нем был капюшон, то ли глубоко надвинута на глаза меховая шапка, то ли фантазийная карнавальная маска…
– Такая глушь – и такие шляпки! – Вырвалось у Простаты. – Это что, мля, за мутант?
Майор посмотрел на журналистов, словно искал у них поддержки.
Мощный силуэт, перемещаясь рваными прыжками, – в замедленной демонстрации казалось, будто он парит в невесомости, – исчез за углом. Чтобы объявиться в другом ракурсе: уже с бензопилой-болгаркой. Легко, как пушинку, он играючи держал тяжелый инструмент одной рукой.
Показались собаки. Они по-волчьи, ровно и деловито, шли вереницей, одна за другой. Индейская цепочка, честное слово! Огромный человек, возглавлявший безмолвное шествие, присел и стал вскрывать металлическое полотно. Легко отогнул его, словно крышку на собачьих консервах, пропустил одного за другим псов на участок, как будто скомандовал им, затем пролез в дыру и сам.
– Странно все это! – Прокомментировал картинку Распоров. – Насколько знаю, собаки, конечно, если они не терьеры и не таксы, не любят разных там нор, узких лазов, ходов. Такой здоровенный волкодав предпочтет перепрыгнуть через ограду, обойти забор, а эти послушно в дыру лезут строем, как солдаты.
На записи предводитель собак на мгновение обернулся, проверяя, нет ли случаем кого-то сзади. И тут… Видимо, запнулся на миг ветер, замерли ветки и перестали загораживать тусклый свет фонарей со столбов. И тогда собравшиеся у монитора рассмотрели его… нет, не лицо! Кадр по просьбе Гоши замер, и они увидели… широкую и лобастую, лохматую собачью морду.
– Какой, мля, гоблин! Амбал! – Восхитился Простата. – Ни хрена себе полтергейст… Сто пудов, снежный человек! Собачий король! Двадцать лет пашу в розыске, но такого у меня, мля, еще не было.
Воцарилась тишина. Никто не знал, как реагировать, настолько увиденное казалось нереальным.
– Значит так, все слушают сюда, – первым очнулся Простата, обратившийся к присутствующим. – Вы, мля, ничего не видели. Тот, кто протечёт, будет моим личным врагом. Пусть тогда пеняет на себя. Поняли? А запись мы, мля, забираем. Слышишь, Морковин, жизнью ментовской за нее отвечаешь. Запрёшь в сейфе, ключ мне отдашь! Лично! Понял?
– Так точно, понял, товарищ майор! – Вытянулся во фрунт старательный лейтенант.
Когда друзья выезжали на казенной машине из СНТ на дорогу к Завейску, Гоша увидел у кювета собаку без ошейника. Она стояла как вкопанная и с интересом наблюдала за ними. Так, во всяком случае, Распорову показалось.
Возвращались молча. Никто из друзей-репортеров не решался комментировать увиденное. На самом подъезде к редакции у Торцева зазвонил телефон. Это был Простаков. Толян включил громкую связь.
– Мать твою, звезда в шоке! – Майор был сам не свой. – Не знаю, как начальству про этого, мля, неандертала докладывать… Предлагаю пока молчать обо всем, что мы видели. Иначе нас или в дурку определят, или в вытрезвитель сошлют. Будем считать, мля, это решение единогласным.
Торцев вопросительно взглянул на Гошу. Тот понимающе согласился.
– Ладно. Так и поступим.
* * *
На проходной в «Сенсациях» Гошу ждал сверток. Он разорвал упаковочную бумагу. Видеокассета VHS не новая, конца годов девяностых, не фирменная. На грубо сработанной наклейке Распоров прочел: «Американский оборотень в Париже. Режиссер: Энтони Уоллер». Слабенький, банальный ужастик, Гоша где-то о нём слышал.
– Откуда это? Кто принес? – Спросил Распоров у охранника.
– Да бомжара какой-то! Грязный как чёрт… С ним еще собачка была, маленькая такая. Вас искал… Но, вы не волнуйтесь, я их дальше проходной не пустил.
Гоша возвращался из редакции на автобусе, рассматривал скудные пейзажи за окном, а сам перебирал в памяти города, в которых когда-то бывал. В башке крутилась старая советская песенка.
Города, где я бывал,
По которым тосковал
Мне знакомы от стен и до крыш.
Снятся людям иногда
Их родные города -
Кому Москва, кому Париж…
Мы любим города, когда они любят нас. Если в них есть те, кто нас ждет. Любить нас – не обязательно, ждать – куда важнее.
Распорову подоспело крепко за пятьдесят. Что в балансе?
Жены сейчас уже нет, детей – еще нет, да и вряд ли они, учитывая затянувшееся отсутствие партнерши, появятся. Вся жизнь – профессионально она началась в семнадцать лет, даже раньше – прошла в газетных дежурствах, в редакциях и в типографиях, в летучках и в планерках, в командировках по стране и во всевозможных творческих упражнениях, поначалу на клавишах пишущей машинки, а потом – компьютера, ноутбука, айпода. Да, были у него когда-то полтора десятка собкоровских лет за границей, но, кроме престижных знакомств, литературных премий и журналистского опыта, существенного следа в душе они не прочертили. Правда, остались его книги, передачи на радио и на телевидении. Сохранилась и яркая память о прекрасных городах, где он жил и писал, где ждал любви и порой любил.
Париж, Рим, Аннеси, Флоренция, Барселона…
Завейску по многим причинам было бесконечно далеко до этого звездного ряда. Но после встречи с Торцевым и причаливания к редакции «Сенсаций» у Гоши появилось робкое предчувствие того, что этот город скоро перестанет быть для него чужим. Тем более что здесь располагалась скромная квартира дяди, полная всяческих тайн, сюрпризов и откровений.
Вернувшись в дом, который он все явственнее ощущал своим, Гоша открыл прихваченную по пути из «Сенсаций» банку родного «Жигулевского» и решил оживить дядин «видик», спрятавшийся на тумбочке под пузатым кинескопным телевизором. Судя по жирному слою пыли, этим агрегатом каменного века электроники давно не пользовались. Однако аппарат, благодарный за то, что ему, наконец, оказали запоздалое внимание, заработал. Пожужжал, прокашлялся и закрутил картинки, зафурычил звук. Эх, жизнь моя – кинематограф!
Гоша вставил кассету VHS, которая важно и медленно заглотнулась квакнувшим видеомагнитофоном. «Американский оборотень в Париже» (какое же дебильное название!). Ведь тот, кто этот голливудский «шедевр» ему прислал, наверняка преследовал некую цель… Однако никаких мыслей на сей предмет у Распорова никак не рождалось. Фильм – такие американские критики обычно причисляют к доступной чернокожим тинейджерам категории С – оригинальностью не отличался.
Юный симпатичный американский турист, судя по его чернявости, итальянец по корням, но при этом полный идиот в стиле «Америка – превыше всего», попадает летом в Париж. Отчаянный экстремал, он забирается глубокой ночью на Эйфелеву башню, чтобы побить рекорд в банджи-джампинге: сигануть с Небесной пастушки на резиновом канате. И тут – роковая встреча в стиле третьесортного Голливуда: одновременно с американцем-прыгуном на верхнем этаже башни появляется мистическая блондинка на высоких каблуках. Она деловито собирается послать всех далеко-далеко и кончить жизнь самоубийством, бросившись рыбкой из поднебесья вниз головой, но героический янки в последний момент спасает истеричную француженку. Девица, которую американский супермен с резинкой на поясе в благородном порыве ловит чуть ли не за пятку в метре от лужайки Марсова поля, благополучно смывается, оставляя в руках благодетеля лишь свою изящную туфельку.
Золушка с её средневековой романтической «жестью» и рядом не пребывает! Блондинка-зажигалка оказывается «лу-гару» – французским волком-оборотнем. Дальше все, как полагается: американец, наконец, находит беглянку, оказавшуюся процедурной медсестрой в большом госпитале (там-то эта убийца в белом халате и сосёт, как паук, кровь своих беспечных клиентов). А потом – альковная страсть под шампанское с легкомысленной мадмуазель. В порыве страсти ее случайный укус, следом происходит превращение наивного и влюбчивого американца в волосатого монстра, жадно пожирающего примитивных парижан…
Гоша допил теплое, прогорклое пиво и выругался в сердцах. Идиотизм! Приспичило же какому-то кретину прислать мне этот бред собачий!
В расстроенных чувствах – все-таки битый час на эту хрень ухлопал! – Распоров сел рассматривать дядину подшивку. Всё подряд, согласно подсказкам закладок. Старые «думки» дяди Сени были куда интереснее и содержательнее хищных похождений американского вурдалака на берегах мутной Сены.
«Передвижение в Храме происходит только под знаком «К Порядку» и посолонь. – Это была вырезка из заумного, витиеватого ритуала. – Все передвижения в Храме производятся только с разрешения Трижды Могучего Великого Мастера и только в сопровождении Обрядоначальника… Знак «К Порядку и Восхищению…»
Восхищение порядком это по-нашему. Порядок от восхищения – тоже наше, родное… Голова Гоши отяжелела, глаза сомкнулись, и он упал свинцовым лбом на руки, сложившиеся на страницах в последнем усилии.
…Он был наполовину одет, наполовину обнажен. На шее болталась узловатая, грубая веревка. Один ботинок ему оставили, другой заменили безразмерной тапочкой, вязаной из соломы. В такой своеобразной обувке идти было неловко, тем более что на глаза надели плотную черную повязку. Однако сильная и теплая рука, положенная на его голое плечо кем-то идущим сзади, направляла его и придавала уверенность.
– Наклонитесь! Больше! Еще больше!.. Здесь очень низко! – произнес басовитый голос. (И шепотом, под сурдинку, чтобы было слышно лишь ему одному: «Только не падай, парень, на колени, не падай!»).
Гоша знал, кому принадлежал голос. Это был маленький, сухопарый человечек с длинными чёрными, – скорее всего, подкрашенными – усами и седыми бачками.
Полчаса назад он запер Распорова едва ли не в стенном шкафу, единственным освещением которого была свеча не то на алтаре, не то на маленьком ломберном столике. По стенам этого чулана, совершенно черного, были выписаны белым мелком гроб с костями, петух, колонны, скрижали…
– Вот вам бумага и перо для составления завещания! – сказал незнакомец, на голове которого была широкополая, старинная шляпа, а на бедрах повязан красный фартук-запон, украшенный перламутровыми розетками и золотыми цепочками.
Гоша был сражен всем этим ритуалом, словно собака, увидевшая чемодан, который хозяйка вела за собой на ремешке как на поводке.
– Профан, пора! Вас ждут страшнейшие, может быть, даже смертельные, испытания! И далеко не каждому суждено в них выжить, – предупредил через четверть часа усатый брат-эксперт и протянул Распорову пустую конфетную корзиночку. – Это для ваших личных предметов: ключей, денег, кредиток, колец… Как сказал раз и навсегда наш Спаситель: «Оставляйте металлы при входе в Храм». Пусть хоть что-то останется на память о вас близким вам людям. – И добавил с коварной улыбкой. – В случае вашей гибели…
Оптимист хренов!
На каком языке говорил этот человек, Гоша не понял. Но это и не важно, язык всё равно был прост и понятен.
– Завещание! Где оно?
Гоша, дрожащий от холода, который пронизывал в чулане его полуголое тело, протянул густо исписанный им лист бумаги. Брат-эксперт споро наколол его на клинок – не то меч, не то шпага.
– Наклоните голову, я надену повязку. Идем! Отныне только от вас зависит, как вы покажите себя в ожидающих вас странствиях… Кровь людская слишком ценна и дорога, чтобы проливать ее…
Зазвонил и осекся, прервав вызов, телефон. Гоша очнулся. Уже стояла ночь. Он попытался найти мобилу, но бросил бесполезное занятие. Дошел, точнее – дополз наощупь до дивана и рухнул, как говорила бабушка, в объятия Морфея. Срочно надо было досмотреть сон. Но продолжения, как в киносериале, увы, не получилось. Видимо, что-то не так сработало в небесной флэш-карте.
Впрочем, новый Гошин сон получился даже интереснее предыдущего. Один за другим принялись оживать призраки таинственной дядюшкиной квартиры.
…– Причина разрушения всех храмов мира одна – сообщение тайн недостойным, – вещал в полумраке старик в тёмном, восседающий на возвышении в величественном кресле над черно-белым, шахматным полем. – Все живое борется с разрушением, но, когда начинается распад середины, все постигает разложение и обращается в тлен… Явное посвященному есть тайна для профана.
Трижды Могучий Мастер взглянул исподлобья на Гошу и неожиданно совершенно по-будничному спросил.
– Который час?
Распоров задергался как бабочка, приколотая булавкой к куску картона. Он ощущал себя совершенно беззащитным, более того – ничтожным. Захотел посмотреть на часы, но сообразил, что их у него не было – все «металлы» остались вне храма… Сочный голос пришел ему на помощь.
– Час предвосхищения славы, Трижды Могучий Мастер. – Где бы мы ни собирались, там – центр Вселенной. Quibus datum est noscere mysterium.
Вновь зазвонил и после короткой наглой трели умолк телефон. Какая сволочь не дает ему спать?!
Распоров дотянулся до бутылки минералки, предусмотрительно оставленной вчера у изголовья, и постарался опять заснуть. Не получалось. Ворочался-ворочался и, наконец, сломался. Досмотреть общение с Трижды Могучим не удалось. В Гошкиных снах начали крутить новый ролик. Не менее странный.
…– Чтобы стать Рыцарем Царственного Свода, ты обязан познать Инструкции. К Порядку… К Признанию… – Вещал Глава Мастерской: седой мужчина с широкой темно-синей шейной лентой, на которой была вышита золотом развевающаяся ветка акации. – Теперь – Прикосновение: встать лицом к Брату, протянуть ему левую руку. А потом подхвати его подмышками, как будто помогаешь ему встать. Одновременно с Прикосновением произносятся слова…
Слова потерянные, слова найденные… Рождённые чудом и чудом услышанные.
И тут, затмевая всех возможных и невозможных фантомов пыльных дядиных апартаментов, раздался, отдаваясь колокольным гулом у него в висках, женский голос. Не громкий, но слышный до такой степени, чтобы проникнуть повсюду: в мир небесный и тварный, в живой и мертвый. В каждую, мельчайшую, частичку Гошиного тела пройти, просочиться как живая вода. И произнесено было девять раз, каждый раз – с повышением тона и с порождением далекого эха. От тяжело-тягучего и бархатного вплоть до невыносимой, пронзительно высокой, неистово-звенящей, даже писклявой ноты, казалось бы, разрывающей в клочья мозг.
– Хи-и-илка хи-и-илка! Бе-е-еша бе-е-еша!
«Это же вещает великая Гула, царица ночи и госпожа ядов! – наитием осознал Гоша. – В первом своде вавилонского царя Хаммурапи записано: безжалостная богиня Гула насылает страшные хвори на предателей и клятвопреступников. О, сжалься и явись мне, величественная Гула, госпожа черной собаки, уносящей души умерших в мир теней!»
И своенравная богиня, в пожизненной верности к которой жрецы подписывались на листе персикового дерева под клятвой молчания, явилась Распорову. Он увидел прямо перед собой стройную молодую женщину с черными, словно смоль или вороное крыло, прямыми волосами. Самое удивительное являли ее глаза: их радужная оболочка была настолько темна, что сливалась со зрачком. Не глаза, а два адских язычка пламени, пронизывающих насквозь, до мурашек по спине, до ломоты в пальцах.
– А где же черная четырехглазая собака, ваша неизменная спутница, о,А чародейка Гула? – удивился Георгий.
Властительница ночи будто услышала его и показала плавным кивком прекрасной головы на огромного черного пса, застывшего как ожившая фигурка каслинского литья у ее левой ноги.
– Во сне, особенно в полнолуние, я сама порой превращаюсь в дикую собаку. А ты, чужеземец?.. Кем становишься в ночь полного света ты? Сознавайся!
– Я?!.. Не знаю… – Гоша хотел ответить ей более вразумительно, но почувствовал, как последние силы покидают его.
– Тогда обернись, несчастный, и посмотри в зеркало! – трубно приказала Великая Мать. – Там ты найдешь своего главного врага.
Окаменевший от острого предвкушения неизбежного близкого сокровенного открытия Распоров, ломая натужное сопротивление мышц, внутренних органов, суставов, сосудов, вен, обернулся и, увидев свое собственное отражение, тут же проснулся. Весь в холодном поту.
Георгия бил колючий, совершенно сумасшедший озноб от студёного ужаса при виде изображения в ночном зеркале. Как неуютно, как погано на душе! Что это было? Не забыть бы. Почти всегда получается так: едва проснешься, а недавний, чаще всего утренний сон уже потерялся, растворился безвозвратно в извилистых и туманных закромах сознания.
И всё-таки! Что же явилось ему?
Гоша напряг память и обомлел: минутой назад на него взирала из зеркала скуластая, плоская и покрытая длинным густым бурым волосом …собачья морда.
Опять этот треклятый морок! «Снам верить, так и дела не делать», – приговаривала бабушка, знавшая сто пословиц и поговорок. И всё-таки как избыточен разум в каждом из созданий!
В сумраке разума сон рождает чудовищ. Но как же бесконечно страшно, когда им становишься ты сам…