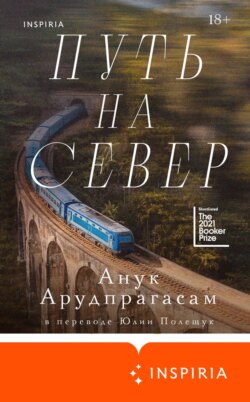Читать книгу Путь на север - - Страница 3
Известие
2
ОглавлениеПрямо напротив двери аппаммы, возле окна, стояло кресло, и, заглянув в комнату, Кришан увидел бабку, она сидела в кресле, спиной к Кришану, чуть подавшись вперед, положив руки на подлокотники и вытянув ноги на пуфик: бабка считала, что держать ноги в горизонтальном положении полезно для кровообращения. Голова ее клонилась набок и чуть вперед, точно бабка разглядывала свои колени, время от времени она встряхивала головой, словно бы удивившись чему-то, и вновь ее опускала. Бабка уснула, понял Кришан, глядя в замочную скважину. Не то чтобы такое случалось редко, учитывая, что по ночам бабка спала плохо, порой раза четыре или пять вставала в туалет, однако Кришан никак не рассчитывал и не ожидал, что бабка уснет сейчас, поскольку по вечерам она, как правило, бодрствовала. Засыпала она обычно после полудня, когда, лежа в кровати, смотрела по телевизору кино; порою – впрочем, очень редко – задремывала и до полудня, сидя в кресле и дожидаясь, пока ей принесут завтрак. Бабка не любила, чтобы днем ее заставали спящей, и Кришан это знал – особенно если было ясно, что вообще-то спать она не собиралась. То, что бабка уснула случайно, означало, что она не вполне контролирует свое тело, что порой ее тело вытворяет что ему заблагорассудится, не считаясь с ее желаниями, а бабка не могла допустить, чтобы о ней так думали. Если же ей случалось, очнувшись от сна, обнаружить, что к ней в комнату кто-то зашел, она решительно отрицала, что спала, хотя ее ни о чем не спрашивали и ни словом не возражали: я отдыхала с закрытыми глазами, – упрямилась бабка, – наслаждалась ветерком, пусть даже только что рот ее был открыт и храп разносился по коридору. Не видя причины задевать бабкино самолюбие, Кришан старался в такие минуты не приближаться к ней, а если ему требовалось зачем-нибудь ее разбудить, приучился шуметь, прежде чем войти в комнату, громко стучать в дверь, притворяться, будто чихнул, чтобы бабка успела подготовиться к его появлению. Отчасти он прибегал к этим мерам для того, чтобы не смутить и не обеспокоить бабку, чтобы ей не пришлось убеждать его, будто она и не спала, но главным образом потому, что его смущала бабкина готовность так примитивно врать, дабы убедить его в своем добром здравии. Правда, почти все люди лгут, чтобы сохранить в сознании определенный образ себя, но ведь прочие лгут искусно, не обнаруживая неуверенности в себе, служившей причиной лжи, его же бабка лгала так, что было понятно: она теперь способна лишь на самые прозрачные попытки сохранить предпочтительный образ себя и этою ложью выдает себя куда больше, чем если бы просто молчала.
Кришан отстранился от замочной скважины. Он не желал будить бабку и уже сомневался, стоит ли сообщать ей о смерти Рани или хотя бы на время лучше оставить ее в неведении. Возвращаться в безмолвие своей комнаты ему тоже не улыбалось; им вдруг овладело стремление оказаться как можно дальше от дома, и он решил пройтись, рассчитывая, что прогулка на свежем воздухе и выкуренная сигарета помогут собраться с мыслями. Кришан направился к себе в комнату, переоделся в брюки, сунул в карман зажигалку и пачку сигарет, мобильный оставил на столе и спустился на первый этаж. Выйдя из дома, он без особого облегчения отметил, что на улице еще относительно светло, небо по-прежнему голубое – бледное, невесомое, – закрыл за собой калитку и стремительно зашагал прочь. Миновал соседние дома, строительную площадку – рабочие уже завершали дневные труды, из импровизированной душевой в цокольном этаже слышался шум воды, – в конце переулка свернул налево и направился к Марин-драйв. Мимо него в обе стороны тянулась нескончаемая вереница фургонов и легковых автомобилей, за шоссе мерцало бескрайнее море; завидев просвет в потоке машин, Кришан перешел дорогу и устремился на юг по тротуару между шоссе и железнодорожными путями – правда, время от времени тротуар исчезал. Кришан достал из кармана зажигалку, большим пальцем провел по колесику, рассеянно огляделся на ходу, посмотрел на рикшу с изображением Будды на заднем стекле, концентрические круги разноцветных светодиодных лампочек создавали иллюзию нимба, вращающегося вокруг его головы, посмотрел на старуху-мусульманку, с трудом поспевавшую за маленьким мальчиком и девочкой, очевидно внуками, они тянули ее за руки. Легковушки, фургоны, рикши по-прежнему мчались мимо Кришана в обе стороны, точно стремились убежать от сумерек, встречные прохожие тоже, казалось, целиком погружены в раздумья о том месте, куда идут, усталые работники из пригородов торопились на вокзал, чтобы сесть на ближайший поезд, пожилые мужчины и женщины в футболках и спортивных костюмах совершали вечерний моцион, энергично шагали к воображаемой цели. После домашнего покоя Кришан не сразу вошел в ритм, не сразу приспособился к шуму и движению города, чтобы достичь возможного равновесия, но чем дальше он уходил от дома, тем спокойнее у него становилось на душе, тем расслабленнее и ровнее делалась его походка, когда он шел привычной дорогой.
За последние месяцы пешие прогулки нежданно вошли у него в привычку – один из немногих действенных способов унять внутренний непокой, овладевавший им вечером по возвращении с работы. В первое время в Коломбо его еще увлекали соблазны большого города, возможность вечером выйти куда-то с друзьями, выпить, выкурить косячок, побыть беззаботным и безрассудным, встретиться с симпатичными особами, с которыми можно пофлиртовать. Все эти действия сообщали его времени структуру и ход, внушали предвкушение встречи, которая, быть может, изменит его жизнь, но оттого ли, что знакомства в Коломбо редко по-настоящему трогали его как интеллектуально, так и в смысле политики или романтики, оттого ли, что теперь вещи, в юности так увлекавшие и возбуждавшие, ныне уже не имели на него былого влияния, но желания, побудившие его возвратиться в столицу, и скоротечные удовольствия, которые они сулили, вскоре показались ему ложными, точно они лишь сбивали с толку, отвлекали от нехватки более насущного. Прежде ему было приятно проводить время в одиночестве, это утешало его за все претензии и разочарования в жизни – нежная забота, получить которую можно было, попросту углубившись в себя, – но всякий раз, как он оказывался вечером дома один, им овладевало молчаливое беспокойство, он слонялся по комнате, убивал время в интернете, пытался читать книги, которые давно собирался прочесть. Он боролся как мог, даже если для этого требовалось пойти к бабке и выслушивать ее разглагольствования о том, как надоели ей комары, лезут и лезут к ней в комнату, что ни делай, но в душе его все равно таилась тревога, росла непрестанно днями и вечерами и достигала пика в последние угасающие мгновения дня, когда солнце садилось и изжелта-золотистый свет вдруг резко сменялся сперва розовым, потом лиловым и наконец вечернею синевой – от светлой до темной. Было в сумерках нечто такое, что усиливало тревогу, поднимало ее на поверхность его сознания, делало осязаемой, точно по мере того, как горизонт постепенно скрывался из виду, последние надежды и обещания дня тоже скрывались из виду, еще один день миновал, не заявив о себе.
Он уходил из дома задолго до того, как небо начинало темнеть, специально шагал размеренно, не спеша, чтобы успокоиться, вначале выбирал длинные извилистые маршруты в разных частях города – из желания познакомиться с его значительно переменившейся топографией. Но сколько бы Кришан ни ходил разными дорогами, ему по-прежнему было неуютно среди новых вывесок и фасадов – признаков новой траектории развития, не находившей отклика в его душе; постепенно Кришан ограничил прогулки жилыми кварталами неподалеку от дома, многочисленными узкими и ухабистыми улочками и переулками Веллаватты и Дехивалы, районов, где в юности он почти не бывал из-за войны, из-за военных блокпостов через каждые сто метров и непрестанной угрозы, что тебя задержат и допросят. Он проходил мимо ветхих домишек, большинство жилые, часть переделали в офисы и салоны, проходил новые многоэтажки, заселенные преимущественно мусульманами и тамилами, и, размышляя о тяжести жизни, которую вмещали все эти здания, чувствовал, как ему становится легче, словно бы, шаг за шагом удаляясь от дома, он оставлял позади обременительную и ненужную часть себя. Он по-прежнему наблюдал разительные перемены, совершавшиеся в небе, но отчего-то вне дома, в непосредственной близости от этих перемен, вынести их было проще, точно на свежем воздухе, за пределами четырех стен, пола и потолка, нечто тяготившее его душу рассеивалось, рассредоточивалось. Вслушиваясь в слабый плеск волн о прибрежные камни, в хлопанье птичьих крыл на порывистом теплом ветру, он понемногу успокаивался, и настоящее из пустоты превращалось, пусть ненадолго, в место, где ему уютно и безопасно. Немного есть настроений, которые не меняются, когда и земля, и небо перед нами как на ладони, и даже самые глубоко укоренившиеся настроения из тех, что не покидают нас целый день и упрямо таятся в груди, невзирая на все противоречивые чувства, с которыми нам приходится сталкиваться на людях, даже эти настроения медленно тают, столкнувшись с безбрежностью горизонта: в такие минуты чувствуешь если не радость и удовольствие, так хотя бы умиротворение от недолгого внутреннего угасания. Возвращаясь с этих прогулок в замкнутые пространства своего дома и комнаты, Кришан обычно так уставал, что уже не ощущал тревоги, прогнавшей его из дома; соленый от пота и морского бриза, он ложился на кровать – икры и бедра приятно ныли, – облекался в кокон изнеможения и вставал только в половину девятого, когда приходило время сходить вниз за ужином и принести его наверх, в комнату бабки, когда уже стемнело и самая трудная пора дня, переход от вечера к ночи, полностью завершилась.
Он снова начал курить именно во время этих прогулок, поначалу лишь потому, что сигарета, выкуренная на полпути, придавала его бесцельным блужданьям подобие смысла, ощущение, что он не скитается оттого лишь, что ему нечего делать и некуда пойти. В Индии, в университете, он покуривал время от времени, большинство его друзей тоже курили, но всерьез пристрастился к курению лишь позже, когда начал проводить время с Анджум, она курила часто и элегантно, и Кришан поймал себя на том, что невольно ей подражает. Перебравшись на северо-восток, он оставил эту привычку – главным образом потому, что на курильщиков в той среде, где ему довелось работать, смотрели косо, – хотя, быть может (теперь он это осознавал), он бросил курить отчасти из-за Анджум, в целом стремясь дистанцироваться от нее после того, как их пути разошлись, уничтожить не только многочисленные следы их связи, сохранившиеся в его телефоне и компьютере, но жесты и фразы, которые перенял за то время, что они провели вместе: многие по-прежнему давали о себе знать, как он ни старался от них избавиться. До возвращения в Коломбо его не тянуло вновь закурить – не хотелось прибегать к ухищрениям, чтобы скрыть эту привычку от матери (раз уж он теперь жил дома), – и только если ему случалось выпить, стрелял сигареты или взрывал косяки с друзьями. Окончательно к этой привычке он вернулся два месяца назад, когда во время очередной прогулки зашел в магазинчик за какао; человек перед ним купил поштучно три сигареты, заплатил и с таким самодовольным видом забрал их с прилавка, что Кришан поневоле задался вопросом: что мешает мне сделать так же? Когда подошла его очередь, он купил одну сигарету и коробок спичек, убрал сигарету в нагрудный карман рубашки, по пути то и дело доставал ее, подносил к носу и жадно вдыхал аромат табака. Присев на корточки на углу пустынного переулка, чиркнул спичкой, осторожно поднес пламя к кончику сигареты, наслаждаясь каждым движением – тем, как щелчком указательного пальца стряхивал пепел с сигареты, как неспешно подносил ее к губам, медленно затягивался, слушая, как горит бумага, выдыхал дым и смотрел, как он тает в воздухе. И в каждую следующую прогулку он на полпути выкуривал сигарету, вскоре покупал уже не одну, а две: одну чтобы выкурить сразу, другую перед сном, аккуратно нес дополнительную сигарету в кармане рубашки, прикладывая все усилия к тому, чтобы она не испачкалась и не помялась, а перед сном выходил на балкон – в доме уже все спали, – молча курил и глядел на звезды. В последующие недели число выкуренных сигарет стремительно увеличивалось, и вскоре он уже покупал пачку, а не поштучно, а спички сменил на зажигалку. Курение стало для него своего рода времяпрепровождением, ритуалом, которого он ждал с нетерпением, оно примиряло его с настоящим, даже когда он не курил: ведь следом за настоящим наступит время получше. В отличие от перспективы сходить куда-нибудь вечерком, порождавшей чаяния и надежды, в конечном счете оказывавшиеся иллюзорными, удовольствие от выкуренной сигареты, пусть скромное, было осязаемым, настоящим, равным себе, оно не давало ложных обещаний, и Кришан сознавал, что вправе рассчитывать на него, пока у него не закончатся сигареты. По вечерам он по-прежнему ходил развлекаться, пытался заводить новые знакомства, но курение помогало ему принять, что жизнь такая, какая есть, помогало открыть для себя настоящее, делало настоящее обширнее и терпимее, так что, даже если ни одна из его надежд на вечер не оправдывалась, он, возвращаясь домой, всегда утешался мыслью о том, что последняя сигарета перед сном никуда от него не денется.
Кришан поднял глаза и заметил, что подошел к одному из своих излюбленных мест для курения – он выбрал его, потому что здесь можно было посидеть у моря, скрывшись от глаз пешеходов. Кришан повернул направо, поднялся по травянистому косогору к железнодорожному полотну, остановился, чтобы убедиться, что поезд не идет – в новостях, что ни месяц, сообщали о том, как поезд в очередной раз сбил пешехода или велосипедиста, – и перешел через рельсы. Спустился к узкой полоске камней, образовывавшей границу между сушей и морем, отыскал относительно незамусоренный пятачок, достал сигареты, зажигалку и устроился на камнях. Поодаль, по правую руку, сидела юная парочка, тела их не соприкасались, но головы клонились друг к другу, точно парочка секретничала; слева, вдали, на камнях возле самой воды, маячили рыбаки в лохмотьях, то показывались, то исчезали в густых облаках водяной пыли. Кришан повернулся, взглянул на серебристо-серое море, невозмутимо простиравшееся перед ним, на золотисто-серое небо в лучах закатного солнца, балдахином зависшего над горизонтом. Достал из пачки сигарету, медленно покрутил в пальцах, точно дивясь ее хрупкости, отвернулся от моря, согнулся, прикрывая огонек зажигалки от ветра, закурил и сделал первую долгую затяжку. Он старательно устремлял помыслы к Рани, к неожиданной и немного нелепой природе ее кончины, к поразительно механическому тону, каким ее дочь рассказывала по телефону о случившемся, но поймал себя на том, что по какой-то причине думает не столько о Рани или ее дочери, сколько об увиденном в замочную скважину бабкиной двери, о бабке, которая, сама того не ведая, так беззащитно уснула. Трудно сказать, отчего это зрелище задело его за живое, ведь были и более насущные темы для размышлений – но, глядя сейчас на воду, простиравшуюся от камней возле его ног, скользя взглядом по колышущейся серой поверхности, он мог думать лишь об уязвимости, которую излучала спящая бабка, уязвимости в общем-то очевидной, но которая тем не менее застала его врасплох, точно все это время он не замечал ее реального состояния или сам был причастен к тому, чтобы его утаить.
Разумеется, бабка задолго до его рождения уже тяготела к затворничеству, но событие, побудившее Кришана осознать неизбежную траекторию ее образа жизни – он это запомнил, – событие, наглядно показавшее ему, что бабка не вечна, приключилось, когда ему было лет двенадцать-тринадцать; бабке в ту пору было лет семьдесят. В тот день она работала в саду – так она рассказывала им впоследствии, – выпалывала сорняки в углу, где рассчитывала посадить горькую тыкву. Работа не то чтобы трудная, но, поднимаясь потом по лестнице, бабка почувствовала, что задыхается; она пошла к себе, села в кресло, но одышка усилилась, вскоре бабку пробрала дрожь, исходившая, казалось, из самой груди. Бабку немедля отвезли в больницу, сразу же сделали ряд анализов, и выяснилось, что у нее закупорена артерия рядом с сердцем. То есть, строго говоря, это был не инфаркт и не инсульт, заключили врачи, но есть угроза обоих, и желательно сделать так называемое коронарное шунтирование, в ходе этой операции бабке вырежут вену, которая идет на правой ноге от щиколотки к икре, и заменят ею больную артерию близ сердца. Из последующих дней Кришану больше всего запомнилось собственное изумление оттого, что бабка так легко смирилась с происходящим, так охотно вверила свой организм окружавшим ее врачам и медсестрам. Вернувшись домой – после операции ее две недели продержали в больнице под наблюдением врачей – явно выздоровевшая и польщенная щедро оказанным ей вниманием, она ничем не выдавала, что события прошедшего месяца стали для нее чем-то большим, нежели краткий, приятно-бодрящий перерыв в обыденном существовании. С нескрываемым удовольствием бабка делилась со всеми родственниками, навещавшими ее в последующие дни, впечатлениями о случившемся, начиная с одышки и дрожи и до выписки три недели спустя, подробно отчитывалась о качестве больничных блюд, которыми ее кормили, под конец приподнимала сари и демонстрировала шрам на правой ноге, точно в доказательство, что все описанные ею события действительно произошли и она ничего не выдумала на потеху слушателям.
В ту пору Кришан вечерами приходил к бабке в комнату поболтать перед сном и теперь вспоминал – со дня операции проходили недели, затем и месяцы, – что волнение и тревога в конце концов растворились в повседневных заботах, но во время его вечерних визитов аппамма все чаще говорила о своем здоровье. До известной степени она всегда говорила о своем здоровье, но теперь каждый разговор с нею неизменно сводился к этой теме. Кришан заходил к ней в комнату, аппамма выключала свет – около девяти, по окончании последней телепередачи, которые она обычно смотрела, – он укладывался в темноте рядом с бабкой и слушал, как она рассуждает о том, сколько она сегодня для моциона ходила по коридору и что она до сих пор сама стирает и готовит, а следовательно, крепче многих своих ровесниц, и как медработники при первой встрече неизменно дивились, когда она называла свой возраст, и как один повторял: вы выглядите гораздо моложе других семидесятилетних. Время от времени Кришан вставлял слово – либо для того, чтобы показать бабке, что он слушает, либо если ей требовалось подтверждение или согласие с чем-то сказанным ею, но чаще всего он молчал, почуяв в манере ее рассказа нечто такое, отчего не решался переменить тему или перебить бабку, своего рода исповедальность в ее голосе и комнате, словно бы то, чем бабка делилась с ним, она никому другому и не открыла бы, некий страх или тревогу: напрямую она нипочем бы в них не призналась, но когда они лежали рядышком в темноте, не видя лица друг друга, Кришан чувствовал их в ее теле. В слова этот страх и тревогу бабка облекала крайне редко и далеко не сразу, лишь установив, к своему удовольствию, что она здорова, как прежде, хоть ей и понадобилась операция – бабка ее считала всего лишь мерой предосторожности. В такие минуты бабка понижала голос, точно намеревалась сообщить мимоходом сущий пустяк, и заявляла, что, пока она в состоянии себя обслужить, все у нее в порядке, единственное, чего ей не хочется, – стать беспомощной, неспособной самостоятельно ходить, одеваться, мыться, оказаться прикованной к кровати, превратиться в помеху и обузу для прочих. Поначалу Кришан отмалчивался, не зная, как отвечать на такие признания, но, обвыкнувшись с ними, научился говорить бабке, что она неправа, никому она не будет ни помехой, ни обузой, что он уж точно будет ухаживать за ней с радостью, а не просто из чувства долга. Она ценила такие ответы, но оставляла без внимания, предпочитая сосредоточиться на том, что она, быть может, никогда и не станет беспомощной, обездвиженной, прикованной к кровати, всегда сумеет о себе позаботиться, а следовательно, ей никогда не придется беспокоиться о том, что она кого-то обременит.
Последующие годы принесли с собой различные признаки угасания: у нее стали опухать ноги, сперва одна, потом обе, изменился цвет кожи чуть повыше ключицы – как ни силилась бабка, эту досадную белизну не скрывали никакие притирки. Чаще всего бабка отмахивалась от этих перемен как от временных или неважных, и лишь через пять или шесть лет, когда из Торонто приехали родственники и в последний день визита решили пойти поужинать в индийский ресторан неподалеку, бабка вновь была вынуждена столкнуться лицом к лицу со страхами и опасениями, заявившими о себе в месяцы после операции. Всякий раз, как аппамме приходилось покинуть дом и преодолеть незнакомую территорию общественных мест, лицо у нее делалось сдержанно-напряженным, встревоженным, она словно двигалась по тонкой грани меж стыдом и угрозой: стыдом за неуклюжесть своего тела, неуверенность своей поступи, за то, что она задерживает остальных и ее все жалеют, и угрозой, что если она переусердствует, стараясь не отставать, то оступится и упадет, и тогда ее, несомненно, будут жалеть еще больше. Кришан в таких случаях всегда замедлял шаг, отставал от компании, шел рядом с бабкой, притворяясь, будто они оба не могут идти быстрее, чтобы ее так не мучила необходимость догонять остальных, порой даже подавал ей руку, хотя бабка обычно отказывалась, отталкивала его руку, точно считала его жест оскорбительным. Чаще всего в таких предложениях, в общем-то, не было необходимости, однако ровно в такую минуту – они подошли к той части ресторана, где уровень пола оказался выше и нужно было подняться на приступочек, – аппамма, желая показать родственникам, что она прекрасно справляется без посторонней помощи, демонстративно отмахнулась от руки Кришана, споткнулась, упала ничком, отчего-то совсем бесшумно стукнувшись об пол, точно ее крупное мягкое тело целиком поглотило звук удара. Как всегда в таких случаях, поднялась суета, люди ринулись на помощь, к аппамме бросились родственники, к месту происшествия немедленно устремились официанты, посетители вскочили, со скрежетом отодвинув стулья и скроив сочувственные гримасы, и в этой суете аппамма старательно напускала на себя невозмутимый вид, хотя была заметно потрясена, улыбалась пренебрежительно, с трудом поднялась – ноги ее дрожали – и направилась к столику. Ей тут же принесли стул, силком усадили ее прямо посреди зала, внимательно осмотрели под смущенными взглядами посетителей и официантов, гадавших, продолжать ли изображать сочувствие или можно уже перестать. Аппамме посчастливилось не задеть при падении ни твердый край стола, ни стула, но, несмотря на протесты и к ее великому смятению – подумаешь, упала, едва ли не с возмущением повторяла она, с кем не бывает, – было решено заказать блюда навынос и поужинать дома.
Трость мать Кришана купила отчасти по настоянию родственников, присутствовавших при падении, и это недешевое приобретение вызвало у аппаммы раздражение, граничившее с враждебностью. Как ни старалась невестка ее убедить, ходить с тростью аппамма отказывалась, а поскольку после случившегося стала значительно осмотрительнее и осторожнее передвигалась по дому, держась за мебель и стены, невестка в конце концов оставила уговоры. Трость заняла более-менее постоянное место в углу ее комнаты близ телевизора – как сувенир из поездки или подарок на память об особом событии, вопрос о подвижности позабылся и вновь возник лишь три года спустя: в один из выходных аппамма стояла на кухне у газовой плиты, жарила сардинки на обед Кришану – к этому времени ничего другого ей делать уже не давали, но сардинки она упрямо готовила, чтобы Кришан хоть в чем-то чувствовал себя ей обязанным, – и вдруг упала на пол. Ей вновь посчастливилось не удариться головой; аппамму тотчас же отвезли в больницу, и выяснилось, что у нее на несколько секунд остановилось сердце, отчего она потеряла сознание и упала. Естественная сигнальная система, отвечающая за регулярное сердцебиение, порой к старости ослабевает, объяснили врачи – больше Кришану и его матери, чем аппамме, которая беспомощно взирала на происходящее из кресла-каталки, пока при ней обсуждали ее состояние. И если по какой-то причине сигнал не дошел до сердца, оно пропускает удар, порой это приводит к головокружению или потере сознания. Чтобы в дальнейшем не случилось чего похуже, нужно установить приборчик на батарейке, так называемый кардиостимулятор, тот посылает электрические сигналы и тем самым поддерживает нормальный сердечный ритм, даже если естественная сигнальная система на мгновение дает сбой или вовсе перестает работать.
Аппамма боялась, что по возвращении домой ее заставят ходить с тростью, а потому, ободренная этим неожиданным диагнозом, означавшим, что она упала не по своей вине и что если ей установят кардиостимулятор, такого больше не повторится, она с воодушевлением согласилась на вторую операцию. Предчувствуя, что невестка, скорее всего, все равно попытается уговорить ее ходить с тростью, аппамма принялась собирать аргументы в свою защиту: и набалдашник у трости с изгибом, неудобно держать, и с тростью она упадет как пить дать, так что ей куда безопаснее держаться за стены и мебель. Из больницы аппамма вернулась сильной и энергичной, готовой отразить любые уговоры, точно этот приборчик на батарейках, что ей вживили под кожу, сделал аппамму неуязвимой. Но, войдя к себе в комнату, обнаружила, что у кровати ее дожидается вовсе не трость, купленная три года назад, а новое приспособление, ходунки, состоящие из четырех полых алюминиевых ножек с резиновыми наконечниками, соединенных наверху подковообразной рамой с резиновыми ручками на каждой из трех сторон. Этот новый прибор застал аппамму врасплох, и мать Кришана – на этот раз она твердо решила не отступать – с легкостью опровергла все ее слабые возражения. Вам два раза уже повезло, отрезала мать, и если вы вновь упадете, неважно, по какой причине, то, возможно, до конца своих дней окажетесь прикованы к кровати, и если это случится, ухаживать за вами придется мне, вашей невестке: больше это бремя нести некому. Аппамма мгновенно умолкла, пронзенная мыслью о том, что станет обузой. И когда невестка вышла из комнаты, аппамма молча сидела, вытаращась на ходунки, как на незваного гостя, которого не в силах выставить; следующие три дня отмалчивалась, почти не выходила из комнаты. Мать Кришана уже опасалась, что вела себя слишком сурово и, пожалуй, стоит смягчить требования, как-то задобрить свекровь, но на четвертый день после обеда аппамма вышла из комнаты, крепко держась обеими руками за ходунки и сосредоточенно насупив брови, и как ни в чем не бывало медленно проковыляла по коридору. Ни слова не говоря, уселась в гостиной в привычное свое кресло перед телевизором, словно бы в том, что она вышла из комнаты, опираясь на ходунки, нет ничего особенного и ее решение воспользоваться новым приспособлением – отнюдь не стремление приспособиться и не уступка действительности. Почуяв ее неохоту признавать перемену, мать с Кришаном искоса переглянулись и притворились, будто ничего не замечают; с тех пор аппамма без ходунков не ступала и шагу, точно в те три дня, что она провела взаперти, в коконе своей комнаты, в ней совершилась какая-то метаморфоза. Она толкала ходунки вперед на короткое расстояние, переносила на них свой вес, делала шаг вперед, после чего повторяла эту последовательность движений, вскоре настолько вошедших у нее в привычку, что трудно было представить, чтобы она передвигалась иначе. Если к ней заезжали родственники, она демонстрировала им все особенности ходунков – как с помощью кнопочных фиксаторов регулировать высоту ножек, как рама крепится к передним ножкам, так что задние поворачиваются, это дает определенную свободу движения, когда меняешь направление, – словно привыкла считать ходунки признаком не слабости или уязвимости, а силы и способности, тем, что отсрочило или вовсе отменило необходимость сидеть в четырех стенах и что аппамма поэтому приняла как часть себя.
Конечно, на лестнице от ходунков толку было немного, и в последующие годы аппамма вынужденно ограничила частоту визитов на первый этаж. Она за сутки решала, когда отправиться в путешествие, и когда момент наставал, приближалась к лестнице напряженно-сосредоточенно, вставала боком и, вцепившись в перила, начинала спускаться, сперва переносила на нижнюю ступень ведущую ногу, потом опускала на нее взгляд, дабы убедиться, что нога стоит прочно, и тогда уже ставила рядом с нею другую ногу. Кришан или мать у подножия лестницы зорко следили за каждым шагом аппаммы, готовые поймать ее, если вдруг оступится и упадет; через несколько напряженных, изматывающих минут аппамма, осилив спуск, останавливалась отдышаться; ею владел восторг, смешанный с облегчением. Схватившись за ходунки – их всегда заблаговременно сносили к подножию лестницы, – она немедленно направлялась на кухню, с новообретенной бодростью расхаживала вдоль шкафчиков, открывала все ящики, заглядывала в различные отделения холодильника, оценивала содержимое кухни, пытаясь понять, что изменилось, что осталось прежним, как эмигрант, вернувшийся на родину из изгнания, вдруг постигает, как обстоят дела. Утрата этого знания оказалась бы невыносимой, и когда походы на кухню в конце концов прекратились, аппамма компенсировала утрату физического доступа на кухню посредством окольных стратегий, главной из них были расспросы: она многозначительно и беспрерывно выпытывала у домашних, что происходит внизу. Аппамма всегда расспрашивала о том, что не могла проверить лично, – почему Кришан так поздно вернулся с работы, кто к ним пришел, почему ее младший брат, проживающий в Лондоне, давненько ей не звонил, – но теперь она расспрашивала обо всем куда настойчивее и чаще прежнего, на основе полученной информации выстраивала предположения о внешнем мире, подобно раненому генералу, который не может участвовать в битве и поэтому вынужден полагаться на чужие донесения и спутниковые снимки боя. Днем в будни и в выходные заняться ей было особенно нечем, по телевизору не показывали ничего интересного, и бабка с увлечением строила и развивала эти предположения, придумывала все новые и новые вопросы, которые нужно задать, поскольку вопросы становились раз от раза сложнее и требовалась новая, более точная информация, чтобы подтвердить, опровергнуть или пояснить ее предположения. Вскоре Кришан с матерью обнаружили, что их угнетают бесконечные расспросы о мире, обсуждать который им было совершенно неинтересно. Они на цыпочках проходили мимо комнаты аппаммы, надеясь, что она не услышит и не позовет их, обрывали разговоры с нею – им-де надо идти, – особенно мать Кришана, ей и без того приходилось тяжко: на ней были покупки, готовка и вся домашняя работа, когда уж тут объяснять свекрови каждую банальную мелочь. Аппамма смекнула, что невестка и внук ее избегают, но бестрепетно продолжала выведывать информацию, задавала обоим одни и те же вопросы, будто хотела сверить ответы, выяснить, не противоречат ли они друг другу, хмурила брови и поджимала губы, пока не вызнает в точности все подробности, словно вращение мира вокруг своей оси целиком зависело от того, плодоносит ли кустик чилийского перца в их саду и осталось ли со вчерашнего дня рыбное карри, – словно, если она не сумеет издали должным образом проследить за всем этим, произойдет катастрофа, день не сменится ночью и ночь не сменится днем.
Смерть всегда представлялась Кришану чем-то внезапным или насильственным, что происходит в определенное время и заканчивается, но сейчас, когда он сидел на камнях и размышлял о бабке, его вдруг осенило: смерть порою – дело небыстрое, затянутое и мучительное, и этот процесс занимает значительную часть жизни умирающего. Сейчас это казалось ему очевидным, но оттого ли, что отец Кришана погиб во время теракта в Центральном банке Коломбо 5, оттого ли, что на его родине безвременная и насильственная кончина стала обычным делом, прежде ему не приходило в голову, что порой люди умирают медленно, что умирание порой растягивается на долгие годы. С тех пор как он повзрослел и заинтересовался новостями, он слышал о смертях неожиданных, непредсказуемых – люди гибли в автоавариях, во время расовых беспорядков, от укуса змеи, от цунами, от осколков шрапнели, – и не задумывался о том, что для большинства людей в большинстве мест, даже на Шри-Ланке, смерть – это процесс, который начинается за десятки лет до того, как сердце прекращает биться, процесс со своей логикой и траекторией. Этот процесс начинается практически неуловимо, с едва различимых изменений внешности, сперва они кажутся несерьезными – обвисает кожа, редеют волосы, углубляются морщины на лице, – но потом проявляются глубже, тревожнее: суставы теряют гибкость, слабеют рефлексы, незначительно, однако симптоматично ухудшается двигательная активность, так что в конце концов поневоле будешь пытаться угадать, что дальше, не ограничиваясь лишь тем, что происходит с кожей. Понемногу дают о себе знать изменения внутренних органов, изменения эти проявляются с силою неизбежности и касаются бодрости, менструации, метаболизма, либидо; анализы – если, конечно, есть возможность сделать анализы – выявляют повышение кровяного давления и уровня холестерина, необходимость внимательнее следить за внутренними показателями организма, а если пока что не выявляют такого, то облегчение, сопровождающее это известие, все равно вынуждает готовиться к таким переменам. В обоих случаях человек начинает относиться к себе иначе, в обоих случаях старается питаться правильно, не переутомляться, высыпаться, делать зарядку, в обоих случаях все чаще ограничивает себя, участвует в жизни все более избирательно, и избирательность эта не столько связана с личным решением, сколько свойственна старению – медленному, скрупулезному процессу, из-за которого тело, некогда перемещавшееся так свободно и просто в разных средах, постепенно удаляется от того, что называется миром. Кости становятся хрупкими, мышцы слабеют, и вот уже человек не поспевает за остальными, снижается сообразительность, выносливость и работоспособность – независимо от того, работает ли человек в офисе или дома. Ухудшается зрение, слух, человеку все приходится повторять, поскольку он либо не расслышал, либо забыл; человек уходит с работы и еще реже бывает в так называемом внешнем мире. Вскоре он еще меньше осознает, что происходит с другими людьми в других краях, и бывает лишь в немногих определенных местах – на обследовании в больнице и в гостях у родственников; чуть погодя, почти недвижимый, он не покидает не только пределов своего дома, но и комнаты. Взаимодействие с внешним миром замедляется и прекращается окончательно, человек не знает, что делать и чем себя занять, думать ему не о чем, кроме себя самого и собственного существенно сократившегося будущего, и когда наступает естественная кончина – по правде сказать, куда менее естественная, чем безвременная насильственная смерть: в нее на всех этапах вмешиваются доктора, медсестры, анализы, медикаменты, так что когда в конце концов наступает пора покинуть то, что осталось от тела, этого первого и самого близкого окружения человека, той частицы мира, над которою человек обладал полной властью, – даже если мы не то чтобы готовы к смерти, по крайней мере она не застает нас врасплох, поскольку она лишь последний этап давно начавшегося пути.
Кришан всегда полагал, что старики смиряются с этим состоянием – одни с большой неохотой, стараясь по мере сил облегчить себе процесс старения, такое положение вызывает у них досаду, но в целом они сознают его неизбежность; другие принимают его с достоинством и даже способны посмеяться над ограничениями, которые накладывает возраст. Аппамма же никак не могла смириться с новым замкнутым образом жизни; в этом было что-то ребяческое, словно этот процесс, через который проходят все люди, не под силу лишь ей одной, и все же Кришан отчасти восхищался тем, как держится бабка: ее поведение заслуживало большего, нежели снисходительность или жалость. Трудно было не восхищаться решимостью, с какою бабка боролась с тем, что с ней происходило, ее нежеланием идти на компромисс в том, что она считала причитающимся ей по праву, даже если этому нежеланию не хватало практичности или достоинства, которые выказывали ее сверстники, даже если ее сопротивление подразумевало, что она лжет и себе, и людям, даже если оно, в конце концов, было обречено на провал. В общественной жизни она никогда особенно не участвовала – школу так и не окончила, замуж вышла рано, ее слово и авторитет имели вес разве что в делах домашних, – но упорно боролась за то, чтобы по-прежнему участвовать хотя бы в жизни семейной и уступала сферу влияния лишь после ожесточенных боев за каждый ее дюйм. Кришан вдруг вспомнил, как в одну из последних вылазок в сад бабка, утомленная путешествием со второго этажа и посещением кухни, доковыляла по траве до цветочного горшка, куда несколькими днями ранее посадила семена и теперь желала проверить всходы. В горшке зеленели два слабых нежных росточка, заглушенные сорняками, корни которых, казалось, уходили так глубоко, что, как бабка ни старалась их вырвать, сорняки не поддавались. Кришан собирался выйти в сад и предложить помощь бабке, но вдруг увидел, что в глазах ее сверкнула ярость, аппамма стиснула зубы, наклонилась едва ли не параллельно земле и принялась один за другим выдергивать сорняки с такой силой и остервенением – казалось, по ее телу бежит ток, – что вырвала их с комьями почвы. Аппамма отбросила сорняки в угол сада, обхлопала взрытую землю и оглядела два зеленых росточка, уцелевших каким-то чудом посередине горшка. Полюбовавшись ростками, бабка погладила их с нежностью, не вязавшейся с предыдущими ее действиями, и с улыбкой повернулась к Кришану, глаза ее сияли, как сияли потом всякий раз – по крайней мере, так ему казалось, – когда он, вернувшись из сада, докладывал бабке о благополучном состоянии ее ростков. Кришан не знал, почему бабку так это занимало, но именно ради подобных вещей она цеплялась за то крохотное замкнутое пространство, в которое превратился ее мир, и он невольно чувствовал, что в столь смиренной и яростной верности жизни кроется нечто достойное восхищения, в том, что бабка холила и лелеяла эту жизнь как только могла, всеми средствами, еще остававшимися в ее распоряжении, хотя тело ее постепенно отказывало, окружающие уже не нуждались в ней, не зависели от нее, а Рани, ее последней связи с большим миром, и вовсе не стало.
5
31 января 1996 года боевик «Тигров освобождения Тамил-Илама» подорвал грузовик с взрывчаткой во дворе Центрального банка Коломбо. 91 человек погиб, 1400 получили ранения.