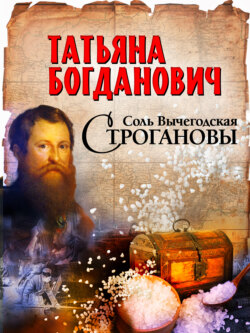Читать книгу Соль Вычегодская. Строгановы - - Страница 11
Часть первая
Отвальный обед
ОглавлениеБольше недели прошло, Анна Ефимовна все сборы кончила. Вытрясли, что отобрала она, почистили, починили и уложили по местам. Всю первую горницу заставили сундуками коваными, лубяными коробьями, расписными подголовниками, чемоданами кожаными, разными укладками. Сама Анна Ефимовна все пересмотрела, на замки заперла – хоть завтра в путь.
Не терпелось ей. Земля под ногами горела. Вычегда стала. Самое время ехать – до больших морозов. Чего еще ждать.
А Иван все молчит. А когда Анну встретит, скажет ей:
– Чего лотошишься? Поспеешь, красавица, аль тебе с нами не любо? Дай срок, наживетесь там с вогуличами.
Анна спора не затевала. Боялась, как бы лишнего не сказать, не рассердить Ивана. Того и гляди, все дело разладится. И Максима учила: если Иван ему что приказывать будет, чтоб обещал Максим все исполнить, ни в чем из его воли не выходить.
Покоя себе не находила Анна Ефимовна все ей не ворилось, что вправду отпустит их Иван на Пермь.
А все-таки дождалась наконец.
Велел Иван сани дорожные осматривать и повару обед отвальный заказал. Такой обед, какого со смерти Максима Яковлевича не бывало. Да и он не часто такие обеды давал, только когда гости почетные с Москвы наезжали.
Одних кушаньев – пятьдесят перемен.
Велел он повару, чтоб стол был как в Москве у самых лучших бояр. Куря в лапше, куря в щах, утки с луком, фазаны в перьях. И рябь, и папорок лебединый в шафранном взваре. Уха разная, и с курятиной, и со свининой. Капуста пареная и топаная, репа под хреном и каравай яичный. Пироги подовые, пряженые, рассольные и перепеча пшеничная. Рыбы велел всякой закупить. И стерлядь свежепросольную, и щучину, и семжину, и чрево белой рыбины, такой, что одному не в подъем. И чтоб не просто рыбы подавал, а обрядил их, как водится, петухами, курами, селезнями. И сласти чтоб были всякие – лебедь сахарный, мужик леденечный, порося марципанная, сахар зеренчатый, смоквы ягоды, яблоки померанцевые, киселек клюквенный с медом.
Стол велел Иван Максимович готовить в сенях, как по самым большим праздникам. Накрыть шитой атласной скатертью. Поставить жбаны серебряные с разными медами, кувшины с вином, боченки с квасом. А в красном углу, где по обе стороны хозяина сядут самые почетные гости, не лепешки хлебные положить, а тарелки оловянные заморского дела, ложки и ножи, коли кто своего не принесет.
Гостей Иван Максимович позвал самых первых по Соли Вычегодской: воеводу Степана Трифоновича. Тот хоть сердит был на Ивана, а все же пошел. Настоятеля Благовещенского собора отца Тихона, игумна Введенского монастыря. И торговых людей не всех, а самых первых: Усова Якима, Пивоварова Прокла с сыном Терехой, Гогунина Кирилла, Чичерина Ивана, Стрешнева Лукояна и Светешниковых. Чтоб все на посаде знали, как Иван своего брата меньшего жалует. Посылает его полным хозяином на Пермь Великую. В Соли давно поговаривали, что старик Строганов весь промысел меньшему сыну отдать хотел. Пусть же люди знают, что Иван всю Пермскую вотчину Максиму под начало отдает – пускай там всем промыслом ведает.
Данилка, как узнал про пир, так и ходил за отцом по пятам, все упрашивал, чтоб допустил его.
Иван Максимович не хотел сначала, да бабка Марица Михайловна стала говорить:
– И то, Ванюшка, где же Данилке на пиру сидеть. Несмышлен еще парнишка. Выпьет лишнего, занедужит еще, храни бог.
А Иван тут-то и согласился:
– Чего там, матушка, не девчонка. Пущай приучается.
Данилка в ладоши захлопал от радости. Ни разу еще не бывал он на пиру.
Когда гости собираться стали, Анна Ефимовна пошла в опочивальню одеваться. Знала она, что хоть на пиру сидеть и не будет, а обнести гостей вином, наверно, позовут. Нарядилась как на свадьбу. Набелилась, нарумянилась, как московские боярыни. Фрося, как наряжала ее, не могла наглядеться.
– Ну, прямо, словно икона ты, доченька, разукрашенная, – говорила она, охаживая Анну кругом. – Гости-то ахнут.
– Как же, – сказала Анна, – упьются, так и не отличат, что я, что свекровь-матушка.
Не любила Анна свой наряд. Тяжелый очень. Не меньше пуда веса. День проходишь – все плечи оттянет.
Анна вышла в соседнюю с сенями горницу и села послушать.
Сперва степенный говор шел, а дальше громче да громче. Чарки застучали, холопы быстрей забегали, – верно, вина гостям подливали.
«Вишь, Иван разливается, – думала Анна. – Все голоса его голос покрывает. Уж и голосистый же он. Пивоваров гость тоже не отстает. Как в бочку пустую гудит – басисто да гулко. А как захохочет, словно гром прокатится. И отец Тихон туда же, даром, что духовного звания, верещит что-то тоненько. Не отстает. Скажет, а кругом все заржут словно кони, и он подвизгивает. А там воевода, кажись, коротко так говорит, будто лает. Данилкин голос звенит. Туда же и он за гостями. Видно, пить приневоливают. Да он ничего, шустрый. Звонко так отвечает, не разобрать только что. Хохочут все. А вот Максима ровно и нет там, – вовсе голоса не слыхать. А имя его часто Иван кричал. Знать, за здравие его кубок поднимал».
Надоело Анне. Хотела было к себе в опочивальню пойти, хоть на лавке полежать, да тут как раз дверь из сеней распахнулась. Перегаром оттуда пахнуло, точно чадом с поварни.
Афонька вошел. Обрядился тоже. Кафтан с Иванова плеча атласный, чуть не до полу ему. Расчесал рыжую бороду. Глазки маленькие заплыли совсем, – тоже, видно, прихлебывал из кубков, как подавал.
Поклонился Анне и сказал:
– Государыня, Анна Ефимовна, Иван Максимович по тебе прислал. Вышла б ты гостей попотчевать.
Афонька держал жбан с водкой, а ей подал поднос, а на подносе кубок большой. Точно и не видала его раньше Анна. На крышке ангел крылатый, а вместо ножки – мужик голый, без бороды, в одной руке корзина с виноградом, а в другой кисть виноградная. Одной ногой на бочке стоит, а другая поднята.
Сильно не хотелось Анне Ефимовне на пир выходить, да что поделаешь. Испокон веков так повелось.
Открыл Афонька дверь, Анну вперед пропустил. Не первый раз Анне гостей потчевать. С тех пор как Фима умерла, всё ее звали, – а так бы, кажется, назад и убежала. Сени большие, высокие, на стенах факелов много зажжено, а сразу темно кажется – дым, чад, перегаром винным воняет, потом. Не продохнешь. На полу объедков горы, вина лужи. Стол хоть узкий, да длинный – места всем довольно, а завалили так – скатерти не видать. Кости, головы рыбьи, кубки опрокинуты. Лепешка у каждого была для объедков. Так где там. И лепешки-то раскрошили да расшвыряли. И сами-то гости, красные, потные, растрепались все, кто сидит, а кто и поперек стола лежит. Гогочут, икают. Целовать этаких-то!
Скрепилась Анна. Виду не подала. Глаза в пол опустила. Прямо к воеводе подошла. Уж он-то краше всех! Бороденка растрепалась. Волосы взмокли, на лоб свисли. Здоровый глаз заплыл совсем. А туда же, пыжится.
Анна подошла к нему, в пояс поклонилась, пригубила из кубка и ему поднос протягивает. Он как вскочит, стал поворачиваться, – узко между лавкой и столом, – качнулся, хотел за поднос ухватиться, да из рук его у Анны и вышиб. Грохнулось все на пол – и поднос и кубок. Всю телогрею Анне залило.
– Воевода-то! И без пса валится! – крикнул молодой Пивоваров с хохотом.
– Без шапки-то не стоит!
– На лавку его поставь – не видать!
– На поднос хозяйке, заместо кубка! – кричали гости.
Воевода весь кровью налился. Хватил кулаком по столу да как гаркнет:
– Молчать! Не моги! В государево место я! Вроде как сам царь!
Хохот тут такой поднялся, что кубки заплясали.
– Царь одноглазый! – кричат. – Ростом не вышел! Обличьем будто не схож.
Воевода только рот разевает. Вертится во все стороны. Грозит кулаками, топает. Орет, себя не помнит:
– Молчать! Псы! Смерды! В холодную их! Пристава! Вяжи их!
Иван тоже вскочил, по столу стукнул, крикнул:
– Да погодьте вы, что ль, шалые!
А воеводе поклонился и говорит:
– Не гневись, Степан Трифоныч. Выпивши малость, – с того. А мы, Строгановы, царя почитаем. И воеводе уважить рады. Не побрезгуй. Вишь, хозяйка молодая кланяется.
Афонька поднос поднял и кубок снова налил.
Воевода взглянул на Анну, приосанился, голову назад закинул, схватил кубок и выпил весь, а потом, не отерши рта, полез к Анне целоваться.
Она не удержалась, отступила, а он за руку ее схватил и сказал:
– Ништо, красавица, не пужайся. Я хоть и грозен, а кто до меня с почетом, – и я с лаской. Поцеловал Анну, оглянулся кругом гоголем и на лавку брякнулся. А Анна и губ обтереть не посмела – в обиду примет. Поклонилась снова в пояс и дальше пошла гостей обходить. Афонька уж опять кубок налил.
Рядом с воеводой настоятель сидел. Тот упился так, что и подняться с лавки не мог. Сидел, повизгивал, как поросенок, и носом клевал. Старик Усов уж за плечо его потряс, так он повернулся к Анне и забормотал:
– Вишь… красавица… отцу духовному… пригубь… слаже оно…
Руки трясутся, вино из кубка плещется. Еле отхлебнул и сразу выпустил. Хорошо, что Анна из руки не выпускала.
Поклонилась и ему Анна, пошла дальше, к Усову.
Усов почти что не был пьян. Поглядел на Анну, по плечу ее похлопал, сказал:
– Слыхал я, на Пермь едете. Ну, давай тебе бог, молодайка. Муж-то у тебя не больно здоров, – видно, с братом не схож.
Анна подняла голову. Максим сидел в конце стола против Ивана, голову опустил, в лице ни кровинки. Кругом хохочут все, а он и не усмехнется.
Анна кивнула Усову и пошла дальше. С одного боку обошла стол до Максима и опять вернулась и с верхнего конца по другой стороне пошла. А Иван все разливается, видно, тоже выпил, язык развязался, кричит:
– Мы, Строгановы, именитые люди. Сам Грозный царь нас жаловал. Сибирь всю повоевали. Ермак-то! Памятуешь? А может, и поболе Ермака кто сыщется, – все повоюет!
– Ты, что ль, Ермак будешь, Ивашка? – крикнул ему Тереха Пивоваров с другого конца стола.
– А то ты, небось! – захохотал Иван.
Опять до Максима дошла Анна. Кончила, слава господу, всех обошла. Только хотела к стене отойти, а Иван как крикнет:
– Что ж нас-то не попотчевала, невестушка? Ни мужа, ни меня. Аль нелюбы стали? Посля воеводы и глянуть не хошь.
Анна спорить не стала, хоть и не было такого обычая. Афонька снова ей кубок налил, и она прямо пошла к Ивану, поклонилась, пригубила, кубок подала.
Одним духом выпил Иван, рукавом рот обтер, поцеловал Анну прямо в губы и в глаза ей заглянул.
Дерзкий глаз у Ивана. Так и норовит обидеть. Не глядела бы Анна. Отошла поскорей.
А он смеется, усы расправляет.
– Ну-ну, мужа теперь, на заедку! Чай, слаже нет.
Подошла Анна к Максиму, тоже поклонилась, пригубила.
А он ей тихо шепнул:
– Не неволь, Анница. Душа не берет. Напоил Иван.
А за столом снова гомон поднялся. Голоса своего не слышно.
Иван вскочил, по столу кулаком стукнул.
– Эх, с невесткой пил, а с братом родным не выпил. Расстанную. Завтра в путь снаряжаю.
У Анны от радости дух занялся:
«Завтра! При гостях сказал – не отречется. Слава господу!»
Данилку с радости к себе прижала, поцеловала. Не слыхала, как Иван Афоньку за бутылкой романеи заморской посылал и за кубками золотыми – только на свадьбу их и подавали, а то у Ивана в повалуше в поставце стояли.
Афонька пришел, на подносе три кубка. Золотые, с каменьями: один с изумрудом, другой с лалами, третий с бирюзой. А рядом не жбан, а заморская бутылка. Как брал ее Афонька, так на пыли все пальцы отпечатались.
Афонька поставил поднос на стол перед Иваном, бутылку, раскупорили все три кубка до краев налил.
– Три лишь бутылки таких и осталось, – сказал Иван, – то батя с Москвы привез. Шуйский царь, Василий Иванович, ему полдесятка пожаловал. Из тех, что Гришка самозванец с чужих краев завез. На моей свадьбе да на Максимовой по одной роспили. А ноне надолго, может, с братом расстаемся. В самый раз третью распить. Степан Трифоныч, не откажи и ты с нами за братнее здоровье испить.
Подал Иван воеводе один кубок, другой себе взял, а третий Афонька Максиму поднес.
У воеводы аж слюнки потекли, заерзал по лавке, кубок обеими руками схватил, чтоб не расплескать.
Иван пригубил, крякнул и сказал:
– Ну, и винцо! Видно, что заморское. Слаще меду, а жжет что огонь. Ты что, Максим, лено пьешь?
– Упился, брат, – сказал Максим тихо, – уволь. Данилка вот просит.
Данилка вертелся около дяди. Хотелось заморского вина глотнуть. И кубок уж схватил было.
Но Иван стукнул кулаком и крикнул на него сердито:
– Не лезь к дяде, щенок! Вишь, питух тоже. Не, Максим, не гоже то. Не пить до дна, не видать добра. Какой же ты купец будешь?
Гости все обернулись к Максиму. Он на Анну оглянулся. Она ему головой мотнула: пей, дескать. Как Иван сказал, что завтра в путь, душа у нее заиграла, сама бы, кажется, выпила. Максим нехотя допил кубок и на стол поставил.
– Вот за то люблю, – крикнул Иван, – по-нашему! И не захмелел вовсе. Молодец! Видно, что строгановского роду. Даром, что слова не проронишь.
А Данилка вертелся уж около отца, заглядывал ему через руку, не пугливый был мальчишка.
– Ты чего тут суешься, ровно кутенок? – сказал Иван. К заморскому винцу подбираешься? Ну, уж, видно, твое счастье. Не все сразу выпил, допивай.
Данилка схватил кубок, выпил, что осталось, опрокинул над головой и последнюю каплю слизнул языком.
– Ну и парень! – захохотали соседи. – В отца уродился. Ранний. Мотри, под стол не свались. Но Данилка поставил кубок перед отцом, a сам кудрями встряхнул и крикнул:
– То я за дядькино Максимово здоровье!
– Ну-ну, ладно уж, – крикнул Иван. – Разошелся! С Орёлкой тебе голубей гонять, а не кубки подымать. Веди его, Анна, спать. Орёлка, подай квасу.
Анна до тех пор и не видела Орёлки. Маленький он ей показался, кафтан не по нем, волочится по полу. Схватил он со стола большой кувшин хрустальный с квасом – перед Пивоваровым стоял. Тот как раз к соседу обернулся и стукнул головой кувшин. Орёлка отскочил, запутался в кафтане и грохнулся с кувшином на пол. Кувшин разлетелся вдребезги.
Иван вскочил и крикнул ключнику:
– Чего гаденыша того в горницы допустили? В варницы его сдать. Чтоб не видал его больше.