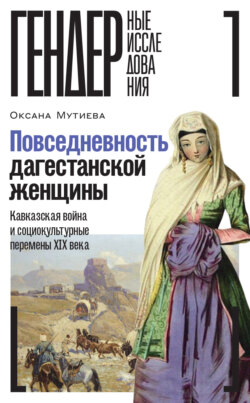Читать книгу Повседневность дагестанской женщины. Кавказская война и социокультурные перемены XIX века - - Страница 6
ГЛАВА 1
Война и ее влияние на повседневную жизнь женщин Дагестана (1817 – конец XIX века)
Влияние военного фактора на брачные отношения и семейную жизнь дагестанок
ОглавлениеУклад семейной жизни исследуемого периода характеризовался устоявшимися патриархальными отношениями, которые отражали особенности социально-экономического и культурного развития дагестанских народов. Общее, что характеризовало специфику взаимоотношений между всеми членами семьи, – это строгая иерархия норм поведения141. В патриархальном семейном быту дагестанцев главенствующая роль принадлежала отцу семейства. Господство мужа в традиционной семье воспринималось не как деспотическая власть, а как легитимное главенство.
Традиционными были и представления о женщине как о домашней хозяйке и воспитательнице детей. Такая модель не являлась характеристикой исключительно кавказского общества, а в разных вариациях была присуща любому традиционному обществу исследуемого периода142.
Внутрисемейная позиция дагестанской женщины зависела от многих факторов. Среди них, безусловно, ее социальный статус, возраст, особенности семейного уклада жизни, культурные традиции народа и т. д. Вся семейная жизнь дагестанской женщины – восхождение по ступеням этой иерархии. Существенное влияние на уклад семейной жизни оказала сама форма семьи – большая неразделенная семья или малая семья. По мнению Б. Р. Рагимовой, именно форма семьи, большая или малая, определяла положение женщины в семейной жизни143. В отличие от большой неразделенной семьи, где господствовали патриархальные порядки и власть старшей по возрасту женщины, в малой семье молодая невестка была сама хозяйкой144.
Отмечая тяжелую долю молодой снохи в большой неразделенной семье, С. Ш. Гаджиева подчеркивала, что женщина и минуты не сидела без дела145. Автор полагала, что только с появлением в доме новой молодой невестки положение предыдущей невестки улучшалось146.
Безусловно, статус женщины менялся на протяжении всей семейной жизни. Б. Р. Рагимова отмечала факторы, определяющие его: замужество, рождение ребенка, женитьба сына147. При этом с женитьбой сына женщина, будучи в статусе свекрови, начинала проявлять свои властные качества в отношении членов семьи148.
По мнению М. М. Ковалевского, в семейной жизни кавказских народов все молодые невестки повторяли путь своих свекровей149. Отмечая эту особенность, автор подчеркивал, что именно мать подстрекала сына к суровому обращению с женой, как с ней обходился его отец150. Автор полагал, что все эти советы не пропадали даром, а чаще всего исполнялись буквально151.
Для замужней женщины в неразделенной семье существовал целый комплекс предписаний, которые должны были неукоснительно соблюдаться. Такая модель доминирования и подчинения полов в соответствии с вековыми традициями дагестанских народов поддерживалась институтами этнокультуры. Надо сказать, что у каждого народа имелись свои национальные особенности, которые сказывались на семейной жизни. Так, по сведениям Маная Алибекова, по кумыкским адатам порядочным женам предписывалось не есть при мужьях и воды не пить на их глазах152. Нарушившие же данные адатные установки слыли в обществе «нерадивыми женами», бросавшими тень на своих мужей153.
Свои особенности имел и институт брака. При выборе жениха или невесты руководствовались общепринятыми в традиционном обществе запретами и ограничениями, которые допускали только внутрисословные браки. Были распространены преимущественно эндогамные браки, за исключением кумыков и ногайцев, у которых практиковалась экзогамия, имевшая место на Северном Кавказе.
Анализ источников свидетельствует, что традиции сословной эндогамии в народе соблюдались самым строгим образом154. А нарушение эндогамных порядков всегда встречало осуждение в обществе. Прежде всего этому препятствовал тухум (род), основу которого составляли эндогамные внутритухумные браки, родственные или кузенные. Глава тухума принимал участие во всех семейных делах, обсуждая с родителями брачующихся вопросы, связанные с выбором брачного партнера. Так, например, в Кайтаге (Уркарахское наибство) женились преимущественно на членах своего тухума, особенно в больших тухумах155. Лишь в исключительных случаях, когда не было собственной пары в своем тухуме, женили пары из различных тухумов156.
По мнению М. А. Агларова, предпочтение внутритухумных браков среди дагестанских народов не дает основания утверждать об абсолютной эндогамии, это, скорее, обусловлено спецификой общественно-политического строя157.
Среди аварских народов предпочтение также отдавали сословным бракам. Вместе с тем на женитьбу юноши на девушке низкого сословия в тухуме смотрели более снисходительно, чем на выдачу дочери за представителей этого сословия158.
Более принципиальны в вопросах брака были жители Келебского общества. Так, например, если женщина выходила замуж за пределы своего села с согласия ее опекуна, то с жениха и невесты взымался штраф в размере пахотного участка159. В условиях малоземелья это было существенным наказанием, и заставляло сообщество соблюдать внутритухумные порядки.
Предпочтительность эндогамных браков многие исследователи объясняют причинами социально-экономического характера: малоземелье, кровная месть, калым, имущество и т. д.160 Принималось во внимание то обстоятельство, что в условиях малоземелья горных районов эндогамные браки исключали отчуждение земли, которая у части народов давалась девушке в качестве приданого.
По замечанию С. Ш. Гаджиевой, женщина, отданная в замужество в более низкое сословие, как бы становилась потеряна для собственного сословия161.
С. С. Агаширинова видела в жене, взятой из другого тухума, определенную опасность для ее собственного тухума, особенно в условиях постоянных распрей и кровомщения162.
Предпочтение эндогамных браков нашло отражение и в фольклоре дагестанских народов. Так, в пословицах ярко проявляется отношение семьи и общества к выходу девушки в иноэтническую среду. В частности, кумыкская пословица «Чистое золото реку не переплывет, хорошая девушка село не оставит»163, пословица гунзибцев «Хорошая корова за реку не уйдет»164, у чародинцев – «Хорошая девушка свое село не оставит, хорошая кобыла реку не перейдет!»165
Важной составляющей в эндогамных браках была сумма калыма, которая могла быть оговорена между родственниками. Не вызывает сомнения, что при необходимости родственники со стороны жениха и невесты могли договориться между собой о предполагаемом минимальном размере выкупа. Существенным было обстоятельство, что в таких браках редким явлением были разводы. Желая сохранить семью, все члены тухума всячески старались примирить стороны семейного конфликта.
Безусловно, в условиях начавшейся Кавказской войны тухумные отношения и эндогамные браки давали преимущество в добывании хлеба насущного. Большому родственному коллективу легче было обеспечить себя необходимым и легче переносить тяготы военного времени.
При выборе невесты самое пристальное внимание уделяли ее нравственным качествам: целомудрие, кроткость нрава, уважение к старшим, мнение окружающих о девушке и др. О том, какое значение придавали в обществе чести девушки, свидетельствуют пословицы и поговорки: «Достойная жена дом украшает», «Посмотрев на мать, бери в жены дочь», «По чистоте чашки суди о пище, по матери выбирай невесту», «Не женись, если расхваливает мать, а уважают соседи – не упускай» и др.166
Заметим, что нравственным качествам матери девушки придавали большое значение. Сложился стереотип в патриархальном дагестанском обществе, что мать, слывшая в народе безнравственной, не могла воспитать достойную дочь. Поэтому, прежде чем прийти сватать девушку, смотрели, какая у нее мать.
Начавшаяся Кавказская война отразилась на привычных формах жизнедеятельности дагестанских народов. По замечанию М. М. Блиева, «война сдвинула с места все пласты традиционного, переступив все мыслимые и немыслимые пороги привычной жизни»167. В том числе под влиянием военных событий происходила трансформация повседневного семейного уклада жизни дагестанского общества.
Существенным образом военный фактор отразился на повседневной семейной жизни населения Нагорного Дагестана и Чечни, которые вошли в состав теократического государства – имамат. Все сферы жизнедеятельности людей на подконтрольных имамату территориях подчинялись исключительно шариатским законам: общественная и личная жизнь, отношения между полами, воспитание детей и др.
Наиболее ревностным сторонником нововведений в имамате был имам Шамиль, который, реформировав некоторые положения шариата, создал свой свод военных и гражданских законов – низам.
Под влиянием шариатских веяний происходило ослабление адатных норм, что не могло не отразиться на брачно-семейных отношениях. Шариат, с одной стороны, давал женщине намного больше семейных прав, чем патриархальные адаты, но, с другой стороны, шариат способствовал ужесточению сегрегации полов168. Несмотря на то что в традиционном обществе гендерные отношения базировались на доминировании мужчин во всех сферах жизни, строгой гендерной регламентации не существовало. Особенно это ощущалось в горной части Дагестана, где женщины были наделены большей свободой в семейной жизни, в то время как у равнинных народов, в частности у тюркских, имела место существенная ограниченность женщин в семейном быту. По мнению С. Ш. Гаджиевой, это объяснялось сравнительно скудным участием женщин тюркских народов в хозяйстве169. В результате положение женщины в семье неизбежно становилось более зависимым и подчиненным мужу170.
Семейная жизнь дагестанцев изучали многих русские дореволюционные авторы, которые представили ее исключительно с позиции дискриминационной практики в отношении женщин171.
Именно в таком контексте их семейную жизнь запечатлел военный историк Н. Ф. Дубровин. По мнению автора, в семейной жизни горских народов не было ничего такого, что можно было назвать счастьем172. Причину этого автор видел в бедности, отсутствии любви, а также частых ссорах между супругами173. При этом Дубровин выделял две полярные стороны семейной жизни: с одной – безграничная лень мужа, а с другой – невыносимо тяжкий и беспредельный труд жены174. Автор полагал, что такое положение вещей говорит не в пользу семейного счастья175.
Интересные наблюдения, отражающие семейную жизнь аварского аула Ботлих, оставил в своем этнографическом очерке Н. Львов. Он утверждал, что власть мужа над женой была деспотической, а женщина всегда должна была заслужить благосклонное внимание со стороны мужа. В противном же случае ее доля была несравненно хуже, чем у раба. Главную причину такого положения женщины автор видел в духовенстве, которое не упускало случая внушить горянкам, что их главная религиозная обязанность состоит исключительно в угождении мужьям176. По сведениям Львова, проповеди дибиров, которые по четвергам читались для женщин у мечети, многим горянкам казались скучными, а некоторые – смешными177. Автор отмечал, что, посылая и десятнику и дибиру тысячи проклятий, женщины отправлялись к мечети, куда их призывал страх наказания178.
Желая узнать причину нежелания женщин ходить на эти проповеди, Львов спросил их, почему они проклинают дибира, который учит добру. Самая смелая из них ответила, что добро лишь мужьям, а не женам, которым жутко от этих проповедей179.
Отчасти авторы правы, так как по исламской традиции послушание мужу является краеугольным камнем семейных отношений. Такая модель, по мнению социолога И. С. Кона, была характерна для любого традиционного общества180. Различия между супругами освещались религией, а женщине всегда отводилась зависимая, подчиненная роль181.
Но это вовсе не означает, что женщина находилась на положении бесправного раба. В частности, такое твердое убеждение о бесправности жен сложилось у офицера русской армии Д. И. Свечина, который полагал, что дагестанец смотрит на хозяйку дома как на рабочее животное, а женщина в Дагестане находится «в совершенном рабстве»182.
Очевидно, что, наблюдая за повседневной жизнью жителей аула, автор мог видеть лишь внешнюю сторону семейных взаимоотношений, а не то, что происходило в стенах дома. Традиционный этикет дагестанских народов исключал внешнее проявление к женщине особых чувств, в том числе сострадания, что, безусловно, давало почву для такой оценки: муж – вечный деспот, а жена – его жертва. Выразительна в этом плане оценка семейного быта М. О. Косвена. Досконально изучивший традиционное общество народов Кавказа, автор отмечал, что власть главы семьи не была неограниченной183. По мнению автора, глава всегда считался с мнением домодчацев, советовался с ними во всех серьезных случаях184. Кроме того, автор подчеркивал, что наиболее важные вопросы решались семейным советом185.
Надо заметить, как бы ни складывались отношения внутри семьи, прилюдно ни женщина, ни мужчина не позволяли себе проявить неуважение друг к другу. В первую очередь, они тем самым заботились о репутации своей семьи и своего тухума. Не следует забывать, что в общественном и семейном быту дагестанских народов существенная роль отводилась тухуму как регулятору семейных и общественных проблем186. При необходимости многочисленный тухум улаживал семейные конфликты, не давая им преодолеть порог приватного пространства. Запятнанная репутация членов семьи зеркально отражалась на репутации всего тухума. Это в определенной степени заставляло людей соблюдать нормы семейного этикета.
Не опровергая патриархальность традиционного семейного быта, дореволюционные авторы отмечали, что дагестанская женщина занимала в семейной иерархии достойное место. Так, Б. К. Далгат, указывая на подчиненное положение женщины-дагестанки на людях, считал, что зачастую внутри семьи она – полная хозяйка в доме187. Мало того, с ней считается муж, который очень ею дорожит188. По мнению автора, суровый горец даже находится под башмаком своей половины189. Автор полагал, что только общественное мнение заставляет мужа перед другими проявлять властные качества и грубо обращаться с женой190.
В свете сказанного представляют интерес материалы Г. М. Дебирова, характеризующие особенности внутрисемейных отношений дагестанских народов. По мнению автора, покорное поведение жены объясняется не столько сохранением репутации мужа, сколько сохранением авторитета семьи191. Автор полагал, что для дагестанской женщины было важно прилюдно представить именно мужа, даже не слишком одаренного способностями, главой семьи, а значит, и хозяином положения192.
Как видно из примера, поведение женщины было продиктовано в первую очередь заботой о репутации семьи, которой она дорожила. В свою очередь, и муж дорожил семьей, о чем свидетельствует широко распространенная среди горцев кебинная клятва – присяга именем жены (кебин-талах или хатун-талах). Так, указывая на значимость присяги в обществе, Г. М. Дебиров отмечал, что для любого горца она была самой тяжелой клятвой193. Муж прибегал к ней лишь тогда, когда хотел вызвать доверие у кого-либо194. Если присяга мужа оказывалась ложной, то брак признавался незаконным и не имел никакой юридической силы. В свою очередь, если клятва жены оказывалась ложной, то и жена должна была уйти от мужа, забрав с собой все, как в случае добровольного развода195.
По сведениям А. К. Халифаевой, присяга именем жены, то есть кебинная, была связана с брачным договором, ее использовали только в том случае, если свидетели вызывали сомнение196. При этом, если у мужа было несколько жен, то присягатель обязательно должен был предварительно указать, на которую из жен он намерен присягнуть197.
Повседневный быт дагестанских народов, в том числе семейные взаимоотношения, освещался в периодической печати тех лет. Так, на страницах газеты «Кавказ» нередко публиковались материалы, отражавшие различные аспекты семейной жизни, положение женщины в семье и обществе, взаимоотношения между супругами и пр. Учитывая тот факт, что на страницах газеты о кавказских народах писали очень много как русские авторы, так и кавказцы, то публикации авторов нередко становились предметом дискуссий.
Одним из поводов для такой дискуссии стал очерк Н. Львова о семейных взаимоотношениях аварцев аула Хунзах. По сведениям автора, обладая по адату неограниченной властью, муж нередко употреблял ее во зло, бил жену до полусмерти, рассердившись без всякой основательной причины, рубил кинжалом или стрелял в нее из пистолета198. По мнению автора, если жена не успевала уклониться от наносимых мужем ударов, то могла стать жертвой «необузданной выходки мужа»199.
На наш взгляд, данную практику было бы неверно считать общераспространенной, скорее, это частный случай, который характеризует внутрисемейные отношения конкретной семьи, а не всего народа. Конечно же, такие примеры могли иметь место у отдельных дагестанских народов, «по устарелым адатам». В частности, на примере даргинцев Б. Далгат допускал, что в давние времена по адатным нормам муж мог поступать с женой, как «с рабыней», со всеми вытекающими обстоятельствами200.
Кроме того, ни один адат не оставлял безнаказанным убийство жены мужем. Жестокость по отношению к женщине пресекалась и мужчинами-родственниками, и обществом в целом, так как могла послужить причиной кровомщения. Как отмечал М. М. Ковалевский, публичное избиение жены у кавказских народов считалось позором для самого мужчины201.
Положение женщины в семье и обществе, гендерная специфика самобытной культуры дагестанских народов нашли отражение в таком уникальном источнике, как фольклор202. Анализ фольклорного материала показывает патриархальный характер взаимоотношений в семье, приоритет власти мужа и отца в семье203.
Вместе с тем дагестанские пословицы и поговорки, притчи и сказки свидетельствуют о значимости женщины в семейной жизни, в воспитании детей и т. д. Об этом красноречиво говорят пословицы и поговорки народа: «Отец умрет – полусирота, мать умрет – круглый сирота», «Достойная жена дом украшает», «Нет ничего на свете лучше хорошей жены», «Муж хорош – и жена хороша, жена хороша – и муж хорош» и др.204
Вместе с тем на страницах периодической печати представители кавказских народов старались опровергнуть тезис о рабском положение женщины. Так, в 1865 году в газете «Кавказ» вышел очерк князя Хамзаева, в котором он оценивал семейный быт кумыков205. Автор отмечал, что в домашнем быту женщина-кумычка – полноправная хозяйка206. Князь Хамзаев особо подчеркивал, что жена повинуется своему мужу не от страха, а из уважения к нему, которое в ней воспитали родители207.
По мнению автора, будучи даже более умственно развитой, женщина никогда бы не позволила себе показать это перед посторонними людьми, поскольку она заботилась о репутации своей семьи208.
Уже вскоре публикация вызвала полемику. Н. И. Воронов, будучи в 60‑х годах XIX века редактором-издателем газеты «Кавказ», не замедлил ответить на очерк князя Хамзаева. Он обвинял князя в приукрашивании семейного быта кумыков, и в частности – положения женщин209. Как видим, Н. И. Воронов, ставя под сомнение доводы князя Хамзаева, исходил из устоявшихся стереотипов: женщина у кавказских народов всегда угнетена, унижена и бесправна.
Полемика на страницах газеты «Кавказ» продолжилась и в конце XIX века, о чем можно судить по публикации А. М. Алиханова-Аварского (1896). Автор, опровергая тезис о бесправном положении женщины-горянки в семейном быту, писал, что женщина несла на своих плечах лишь законные, установленные вековыми обычаями тяготы210. А «лишения горской жизни», по мнению автора, были красочно приукрашены теми, кто весьма субъективно оценивал семейный быт дагестанских народов211.
Поэтому неубедительными являются устоявшиеся стереотипы о семейной жизни дагестанских народов, где муж – вечный деспот, а женщина – бесправное, забитое существо. Это свидетельствует о неверном понимании исторически сложившихся семейных отношениях и той миссии, которую женщина выполняла в браке.
Вместе с тем, отмечая важность женщины в семейной жизни, современный исследователь Ю. Ю. Карпов отмечал ее прозаичность. По мнению автора,
…то, что делает женщина в семейном и около семейном пространстве – приносит, кормит и воспитывает наследников, хранителей фамильного культа мужа и защитников общины, что гораздо прозаичнее, каждодневно ухаживает за мужем (тем самым, согласно притчам, продлевая ему жизнь) и всеми домочадцами, – наделяет ее образ тихим героизмом212.
От женщины в целом зависел психологический климат в семье. В мировоззрении народа, в его притчах утвердилось мнение, что «каждодневно ухаживая за мужем, жена тем самым продлевала ему жизнь»213. Следовательно, долголетие мужа положительным образом отражалось на жизни всей большой семьи. Очевидно, что многие авторы, имея неизбежный идеологический штамп, обосновывая и оправдывая Кавказскую войну, невольно искажали реальную семейную жизнь дагестанских народов. Единичные факты преподносили как повсеместную тенденцию, характерную для семейных взаимоотношений.
Конечно, экстремальные условия военной повседневности вносили перемены в семейный уклад. Так, на подвластных имамату территориях посредством введенных имамом правил регламентировались брачно-семейные отношения. Новые шариатские нормы регулировали отношения между членами семьи как дома, так и в общественном месте. Например, мужу запрещалось разговаривать с женой при посторонних, родителям – свободно общаться с детьми. По имеющимся сведениям, несоблюдение этих правил грозило наказанием со стороны муртазеков (воины Шамиля) вплоть до арестов214.
С помощью шариатских норм были регламентированы многие положения адатов об институте семьи и брака: вопросы, касающиеся похищения девушек, заключения брака, калыма, развода, наследования и др.
В силу того что большинство конфликтов в традиционном обществе дагестанских народов были связаны с женщинами, пристальное внимание стали уделять вопросам брака путем похищения. В традиционном дагестанском обществе похищение девушки было обычным явлением, в котором народ видел соблюдение древнего обычая215. В различных вариациях похищение девушки с целью женитьбы встречается у многих народов Кавказа216.
Похищение будущей невесты предполагало два варианта: насильственное – несогласие девушки на брак и добровольное – несогласие ее родителей на брак. Тем не менее общество не оставляло похищение безнаказанным как деяние, затрагивающее честь всего многочисленного коллектива родственников. По мнению А. К. Халифаевой, общество усматривало в этом не только посягательство на честь женщины, но и на честь тухума217. С точки зрения М. М. Ковалевского, похищение девушки являлось вызовом ее родственникам-мужчинам даже при добровольном уходе девушки218.
Учитывая, что тухум был регулятором всех сфер жизни патриархальной семьи219, то и ответственность за содеянное похититель должен был нести в первую очередь перед всем большим родом оскорбленной девушки.
В каждом ауле имелись свои нюансы, которые были прописаны в адатных нормах, касающихся похищения женщины. В адатах дагестанских обществ похищению женщин были посвящены целые главы: в адатах Тиндальского наибства Хваршинского общества в главе VI «Об увозе женщин», в адатах Каратинского наибства в главе VII «Об увозе девушек или вдов», в адатах Ункратль-Чамалальского наибства в главе VIII «Об увозе женщин и прелюбодеяниях», в адатах Гумбетовского наибства в главе VII «Об увозе девушек» и др.220
Рассматривая дела по похищению девушек, адаты предполагали два возможных выхода из ситуации – кровомщение или брак с похитителем221. При этом бралось во внимание обстоятельства похищения девушки, что существенно сказывалось на участи преступника. Так, без согласия девушки – похититель изгонялся кровником (канлы), по обоюдному согласию – изгонялись оба.
В случае, если семья похищенной девушки или вдовы не соглашалась на брак с похитителем, его могли ожидать самые разные последствия: денежный штраф или изгнание в канлы222. Размер штрафа зависел от желания обиженной стороны.
По сведениям Н. Львова, у аварцев похититель должен был заплатить штраф в виде скотины для джамаата, 100 овец или 30 рублей серебром для хана, изгнание из аула на трехмесячный срок для родственников похищенной223. Как видим, похититель нес ответственность за содеянное не только перед семьей девушки, но и перед обществом и самим правителем ханства. По возвращении из изгнания похититель должен был угостить всех родственников похищенной девушки224. Надо заметить, что за похищение замужней женщины в обществе карали как за убийство225. Похититель наносил двукратное оскорбление – мужчинам рода женщины и мужу, будь даже он членом этого рода.
Что касается похитителя, из‑за возможных материальных последствий он все усилия прилагал для признания брака родственниками девушки, что было возможным в случае совершенного в отношении девушки насилия.
Вместе с тем и семья девушки, как правило, старалась склонить ее к браку с похитителем. С одной стороны, для семьи очень важно было сохранить репутацию, а брак в какой-то мере такую возможность давал. С другой, выдав дочь за похитителя, семья не наживала себе очередного кровника. В реалиях времени это было очень важным обстоятельством. В случае кровомщения виновницей стала бы похищенная девушка.
Что оставалось девушке в этих обстоятельствах? Единственно правильный путь смыть позор с семьи и с себя – выйти замуж за похитителя. При этом никого не волновали моральные переживания и эмоциональное состояние девушки.
Шариатские законы стали искоренять эти адаты, вводя разного рода наказания для тех, кто нарушает запрет. По сведениям Н. Львова, обычай похищения женщин, сильно распространенный в дошариатское время, при дагестанских имамах был весьма редким, даже забытым226. Мулл, которые оформляли брак между похитителем и похищенной девушкой, ожидало самое суровое наказание. В лучшем случае они могли рассчитывать на тюремное заключение, но не исключалась и смерть227. Кроме того, эти санкции распространялись не только на случаи насильственного похищения девушки, но и в случае побега по обоюдному согласию.
Шариатские нормы делали упор на санкции, преимущественно денежные штрафы228. С одной стороны, имам вроде и смягчил наказание, что давало избежать кровной мести, но, с другой стороны, финансовые штрафы становились весьма затруднительными в условиях тяжелого материального положения горцев. По мнению Дубровина, несмотря на успех, которого достиг Шамиль путем жестоких мер, горцы с большим трудом свыкались с идеей «об удовлетворении обид путем коммерческим»229. Безусловно, Шамиль прибегнул к этим мерам, руководствуясь условиями военного времени, стараясь не допустить человеческих жертв, что могло спровоцировать кровную месть230.
Тем не менее, несмотря на все эти запреты и жестокие наказания, случаи похищения девушек повсеместно происходили, поскольку «шариатская норма привилась слабо»231.
После окончания Кавказской войны вопросы похищения регламентировались российскими властями. По имперскому закону («Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года и в новой редакции от 1885 года»), были существенно упорядочены и дополнены нормы, касающиеся преступлений против семьи. В частности, в главе I «О противозаконном вступлении в брак» отдельный раздел «О преступлениях против прав семейственных» касался преступлений, связанных с принуждением к вступлению в брак232. В статье 2040 «Похищение женщины» кража невесты рассматривается как преступление против брака233, в связи с чем российские власти придерживались принципа, что похищение девушки ни при каких обстоятельствах не должно быть урегулировано примирением сторон234.
Так, например, только в Даргинском окружном суде за 1861 год было рассмотрено 94 судебных дела по факту похищения девушек235. Обычно на похитителя налагали штраф, после чего могли отправить на каторжные работы в Сибирь.
Анализ применения наказания по фактам похищения в округах Дагестанской области свидетельствовал, что при вынесении наказания похитителю власти апеллировали к нормам адатного права. Размер выплаты семье похищенной разнился в зависимости от ее семейного достатка и статуса женщины: замужняя, девушка или вдова.
По адатам южно-дагестанских обществ Кюринского округа похищение женщины приравнивалось к убийству мужчины236. Мало того, родственники похищенной женщины имели полное право убить похитителя, не понеся за это никакой ответственности237.
Судя по архивным данным, были нередки случаи убийства похитителя, о чем имеются сведения в материалах «Годовых отчетов начальников округов Дагестанской области»238. Так, например, из материалов дела следует, что из ответчиков 99% составляли мужчины от 15 до 40 лет, небольшой процент – женщины того же возраста. В то же время потерпевших мужчин от 15 до 40 лет было 85%, а молодых женщин всего 15%239.
Более строго к похищению девушки относились в Самурском и Кюринском округах, где ответственность за похищение приравнивалась к смерти женщины. Так, например, по адатам южнодагестанских обществ похититель девушки должен был заплатить ближайшим родственникам девицы сумму в 150 рублей240. Как следует из адата, сумма выплаты была аналогичной сумме за убийство женщины, что явно свидетельствовало о строгости наказания за похищение.
Свои отличия имелись в Даргинском округе, где сумма материальной компенсации зависела от семейного положения похищенной. Так, например, за увоз девушки с похитителя взыскивалась сумма в размере 30 рублей в пользу родственников похищенной, а за увоз замужней женщины – 50 рублей в пользу мужа241.
Аналогичную сумму взыскивали с похитителя и в Кумыкском округе242. В Гунибском округе похититель, обвиненный в насильственном похищении девушки, платил в общественную казну штраф в сумме 25 рублей, а за похищение замужней женщины – 50 рублей243.
Как же общество санкционировало факты похищения женщин? По имеющимся сведениям, дагестанцы часто принимали участие в примирении сторон. В частности, по адатам южнодагестанских обществ джамаат села прилагал немало усилий для примирения сторон, в том числе обеспечивал похитителю безопасность до разрешения конфликта244. Как мы видим, общество, учитывая обстоятельства похищения, старалось примирить враждующие стороны. Налицо доминанта адатного права над шариатом в наказаниях за похищение девушек.
Наряду с похищением с целью женитьбы был распространен еще один обычай, который многими исследователями называется – брак прикосновением. По имеющимся сведениям, в исследуемый период этот обычай был распространен у многих народов Дагестана245. По дагестанским адатам прикосновение постороннего мужчины к женщине означало для нее бесчестие и могло стать причиной кровомщения. Нередки были случаи, когда мужчины прибегали к прикосновению из‑за озорства, но чаще причиной являлась месть девушке.
По сведениям Абдуллы Омарова, общество рассматривало прикосновение как похищение, поэтому и наказывало виновного так же строго, как похитителя246.
Безусловно, у каждого народа имелись свои различия в видах прикосновения-оскорбления, что нашло отражение в адатных нормах. Так, по адатам Тиндальского общества мужчина преднамеренно, с дурной целью обнимет или тронет женщину247, по адатам Ункратль-Чамалальского наибства, адатам шамхальства Тарковского и ханства Мехтулинского – мужчина с головы женщины снимет платок248. При этом виновному грозило за содеянное не только материальное возмещение за бесчестие девушки, его также изгоняли на три месяца в канлы249.
По адатам Технуцальского наибства, если женщина заявляла, что к ней прикоснулся мужчина, виновник должен был очиститься 12 соприсягателями250. При этом не бралось во внимание то обстоятельство, что два свидетеля, которые находились на месте происшествия, отрицали факт прикосновения к женщине251.
У аварцев аула Бежта, если до родителей доходили слухи, что их дочери преднамеренно коснулся мужчина, то они требовали взять ее в жены252. В противном случае оскорбленные родители воспринимали это как повод к кровной мести253.
По новым шариатским нормам была скорректирована форма наказания за прикосновение постороннего мужчины к женщине. В отличие от адатных норм Шамиль запретил признавать прикосновение к женщине бесчестием и заменил его трехмесячным арестом и денежным штрафом254. По сведениям очевидца Гаджи-Али, такими мерами Шамилю удалось существенно уменьшить междоусобицы, родовую вражду и в итоге объединить народ255.
Существенной трансформации подверглись вопросы, касающиеся калыма. Как известно, у многих народов Дагестана брак был покупным, традиционно за невесту давали выкуп в денежной форме. Широко распространен был калым у тюркских народов и народов Южного Дагестана.
По сведениям С. Ш. Гаджиевой, калым давали за девушку у кумыков, ногайцев, дагестанских азербайджанцев, табасаранцев, агулов, рутулов, цахуров и у некоторых лезгин256. В горном Дагестане калым за девушку, как правило, не предполагался. Обычно обходились подарками со стороны жениха и его родственников.
Размер калыма мог варьироваться в зависимости от достатка брачующихся, от их сословной принадлежности, а также от договоренности сторон257. Чем выше статус жениха, тем больше ему приходилось потратить средств на свадьбу, включая калым невесте. По сведениям М. М. Ковалевского, по древним дагестанским обычаям беки шамхальской крови должны были дать на калым невесте от 600 до 1000 рублей258, что становилось собственностью девушки.
По сведениям Д. М. Шихалиева, у кумыков женитьба вместе с калымом и другими расходами обходилась князю в 720 рублей серебром. Уздень (представитель свободного сословия) на калым невесте должен был дать от 200 до 100 рублей, а представитель среднего класса от 100 до 50 рублей серебром259.
В бытность Шамиля само понятие «калым» претерпело изменения, что выражалось в его двойственности: одна часть калыма полагалась родителям невесты, а другая часть (кебин) была предназначена самой девушке. Кебин был неприкосновенен и служил гарантом материального обеспечения женщины в случае смерти мужа или же развода, инициированного мужем. В адатах Самурского округа можно прочитать, что «кебинные деньги – неприкосновенная собственность женщины»260.
Величина кебина зависела от многих факторов, в том числе от личного статуса женщины – девушка на выданье, разведенная женщина или вдова. При этом устанавливался твердый размер калыма и кебина как для девушек, так и для вдов.
По сведениям С. Ш. Гаджиевой, в денежном эквиваленте размер кебина у разных народов составлял от 3 до 100 рублей. Так, по сведениям автора, размер кебинных денег у аварцев составлял от 3 до 5 рублей, у табасаранцев был более существенным – от 15 до 40 рублей, а у лакцев и у кумыков был самый высокий – от 30 до 90–100 рублей261. Как видим, самый высокий размер кебина был у лакцев и кумыков, а самый незначительный – у аварцев. С. Ш. Гаджиева также обращала внимание на тот факт, что у лезгин девушке полагалось 15 рублей кебинных денег, а вдове – не менее 7 рублей 50 копеек262.
Вместе с тем у некоторых народов сумма кебина могла быть и более существенной. Так, в архивном деле имеются сведения о том, что в селении Цмур Кюринского округа девушке полагался кебин в размере 200 рублей и калым в размере 60 рублей263. Что касается вдовы, то размер кебина и калыма был вдвое ниже: кебин – 100 рублей, калым – 30 рублей264.
Как видно из материалов архивного дела, за вдову платили в два раза меньше, чем за незамужнюю девушку. Разумеется, невинность девушки в данном примере определила существенную разницу суммы ее кебина и калыма.
Нередко сумма кебина становилась предметом обсуждения сторон еще в процессе сватовства. Так, в Южном Дагестане, по сведениям С. Ш. Гаджиевой, имели место случаи, когда сумма кебина записывалась в брачный договор во время бракосочетания при двух свидетелях сторон265.
Безусловно, архаическая плата семье невесты, закрепленная в нормах адата, являлась нередко существенным препятствием на пути к браку. Особенно остро стояла эта проблема в период военных событий в имамате, в связи с чем Шамиль был вынужден регламентировать размер кебина.
На подконтрольных имамату территориях Шамиль ввел твердый размер калыма – в пределах от 10 до 20 рублей. По мнению А. В. Комарова, Шамиль, видевший в крепкой семье залог благосостояния горцев, всячески старался облегчить заключение браков, уменьшив калым и кебин266. По сведениям автора, в селениях Гимры, Харикуни и других, бывших вблизи русской передовой линии, кебин-хакк был установлен в весьма незначительном размере – от 25 копеек до 1 рубля267. А. В. Комаров полагал, что Шамиль был вынужден регламентировать размер кебина в этих селах, потому что число женщин значительно превышало число мужчин, которые попадали в плен или были убиты при набегах268.
Конечно же, такая символическая сумма калыма являлась следствием сложной демографии в период Кавказской войны. По мнению М. Гаммера, это не могло не заботить Шамиля269. Поэтому все, что касалось вопросов кебина и калыма, находилось в поле зрения имама и его наибов.
А. М. Халилов утверждал, что по соглашению сторон сумма калыма могла сокращаться бесконечно270. Кроме того, в случае нарушения предписаний низама, если сумма выкупа превышала установленную норму, то разницу следовало изъять в доход общественной казны имамата (байтулмала). Специальные комиссии строго следили за соблюдением этого порядка, а обнаружив нарушение, виновных наказывали, невзирая на их социальное положение.
Так, наиб Шамиля Ахверды Магома нарушил прописанные в низаме требования к калыму: вместо положенных 20 рублей он решил заплатить невесте 90 рублей серебром271. Заметим, что это был уже четвертый брак наиба.
Разумеется, такое самоуправство пришлось не по душе имаму Шамилю: узнав об этом, он велел наказать наиба, отняв всю сумму калыма в пользу казны имамата272. Этот пример – показатель того, что в имамате наказания не могли избежать и влиятельные люди, такие как наиб Ахверды Магома.
После пленения Шамиля размер калыма перестал быть строго регламентированным273. Он зависел от многих факторов: сословной принадлежности жениха и невесты, условий заключения брака, традиций народа. Например, самый большой размер калыма был у кумыков и ногайцев, который к концу XIX века доходил до внушительных сумм.
Русские власти неоднократно пытались выработать специальные правила, регламентирующие уплату калыма, но все было безуспешно. С другой стороны, было очевидно, что материальные издержки на калым являлись существенным препятствием разводам среди народов Дагестана.
Распространение шариатских норм отразилось и на разводе. Парадоксально, но в дошариатское время расторжение брачных союзов было нередким явлением в семейном быту дагестанских народов. Веками сложилась практика, когда муж без особых на то причин имел право дать развод своей жене274. По мнению А. А. Руновского, легкость, с которой совершались разводы, зависели от постановлений религии, «окружившей мусульманскую женщину самыми неблагоприятными условиями»275.
Безусловно, это приводило к злоупотреблению со стороны мужчин, которые с этим правом нередко обращались очень легкомысленно, не задумываясь о последствиях. Разумеется, меньше всего мужа волновали чувства жены. Поводом к разводу могли послужить ничтожные, очень редко основательные причины. Часто муж произносил известные слова «талак, талак, талак» бессознательно, будучи в нетрезвом виде, после чего свершался разводный акт. Конечно же, отрезвев, муж сожалел о содеянном поступке. Мало того, он спешил повторно заключить брак со своей прежней женой. Женщина не имела возможности противиться данной практике. По справедливому замечанию А. А. Руновского, такой практикой «женщина получала доказательство своего бессилия и беззащитности»276.
Наиболее распространенным видом развода считался талак. По сведениям Г. М. Керимова, у кумыков, для того чтобы развод признать действительным, муж обязан был трижды произнести вслух «жена моя (имярек) свободна»277. По сведениям Ю. М. Гусейнова, у кумыков в XIX – начале XX века муж мог произнести и другие слова: «ты отрезана», «ты запретна», «поводья брошены на твою шею», «я отдаю тебя твоему семейству», «твои дела в твоих руках», «соединись со своим родом», «иди к себе домой» и др.278
М. Ш. Ризаханова утверждала, что у лезгин при разводе инициатором всегда выступал мужчина, который вправе был дать развод жене без всякого повода279. Мужу достаточно было произнести в присутствии свидетелей трижды «талак», а также сказать слова «ты мне больше не жена, а сестра», и развод считался совершенным280. После этого женщина считалась разведенной и могла уйти в дом своего отца, оставив детей в доме мужа281.
С введением шариатских норм предусматривались четыре вида развода: хуль, фасх, лиан и талак. Здесь, в отличие от адатов, женщина получила защиту во время развода. Во-первых, была пресечена инициатива развода со стороны пьяного мужа. Со стороны имамата жестко пресекалось пьянство, что повлияло на сокращение разводов среди населения. Но говорить о том, что их не было совсем, было бы неверным.
Что же это давало женщине? По мнению А. Руновского, одним из положительных последствий шариата было избавление женщины от пьянства мужа282. Автор полагал, что это приносило ей надежду на улучшение ее положения в будущем283. Не вызывает сомнения, что это была маленькая, но победа для дагестанских женщин.
По новым шариатским нормам оговаривалась сумма калыма, которая должна была быть возвращена жене после развода. По шариатским нормам при бракоразводном процессе непременно учитывалось важное обстоятельство – по чьей инициативе происходил развод. В случае если развод происходил по инициативе мужа, то за женщиной закреплялось право возвращения ее кебина и приданого, которое она принесла с собой из отцовского дома, без препятствий со стороны мужа284.
Многие мужья, ссылаясь на правила шариата, по которым жена, нетронутая мужем на брачном ложе, при разводе должна была получить только половину калыма. Нечестные мужчины старались любыми способами получить свою половину285. Указывая на эти обстоятельства, А. Руновский писал в своем дневнике, что многие горцы пользовались природной стыдливостью своих невест, чтобы не возвращать всю сумму286. При этом он подчеркивал, что свидетельствование о растлении девушек, которое существовало среди русских, у горцев не допускалось287. В том числе и по этой причине, как полагал Руновский, бедные женщины вынуждены были отказаться от права на единственное свое состояние – половину калыма288.
Разумеется, девушка в силу своей скромности не старалась публично доказать факт потери невинности в первую брачную ночь, чем и пользовался муж.
В противовес этой практике Шамиль, «вооружившись против плутовского своевольства мужей»289, обязал мужа возвращать жене весь калым, даже в случае, если муж был с женой наедине только несколько минут290.
В том случае, если имелись жалобы со стороны жены на попытки мужа лишить ее части калыма, следовали санкции по отношению к мужу. Так, например, имаму Шамилю пришлось разбирать жалобу женщины, которая, прожив с мужем восемь лет, была лишена части калыма, как не имевшая от него детей291. Реакция имама была незамедлительной: он не только разрешил это дело в пользу женщины, но и не исключал наказание мужа в случае ложных показаний292.
Кроме того, Шамиль специальным низамом обязал горцев, инициировавших развод, возвращать женам их калым, а также принадлежащее им имущество293. В случае, если после развода наступала смерть жены, все ее имущество, в том числе кебинная сумма, переходило к ее детям.
Если же жена получала развод, будучи беременной, то муж был обязан обеспечивать ее материально до рождения ребенка294. Этими мерами имам не только укрепил имущественное положение женщины, но и дал ей определенную самостоятельность и моральную поддержку.
С целью защиты разведенных горянок Шамиль принимал и другие меры: дети разведенной жены, по желанию отца, могли остаться при нем или же уйти с матерью295. В случае, если дети оставались с матерью, муж должен был обеспечивать их до достижения совершеннолетия296. Мало того, на мужа возлагалась обязанность обеспечивать и мать детей до ее нового замужества297.
В частности, по адатам келебских селений, в случае спора о содержании ребенка после развода мать имела право содержать его у себя, пока он не достигнет годичного возраста298. При этом отец ребенка был обязан дать на его содержание «8 мерок пшеницы и 6 фунтов внутреннего жира»299.
По адатам Ункратль-Чамалальского наибства, если у разведенной женщины оставался грудной ребенок, то его в течение двух лет обязана была содержать мать, а по адату муж должен был давать ей все необходимое на содержание300.
По адатам Технуцальского наибства, после развода родителей ребенок находился на содержании матери до трех лет. А муж обязан был давать в месяц малолетнему ребенку разведенной жены «по 1 сабе зерна и ¼ ратла сала или курдюка в течение 3 лет»301.
Надо отметить, что в рассматриваемый период у многих народов Дагестана дети, как правило, после развода оставались с отцом: исключение делалось лишь для детей, находящихся на грудном вскармливании. На примере тюркоязычных народов такую практику описывала М. Б. Гимбатова302.
Муж мог проявить инициативу развода по двум существенным обстоятельствам – нарушение целомудрия и бесплодие женщины. Например, по адатам шамхальства Тарковского и ханства Мехтулинского муж имел право инициировать развод, если новобрачная не была девственницей303.
Учитывая, что кровная месть на женщин не распространялась, виновную изгоняли из аула, как порочащую своим недостойным поведением моральные устои не только семьи, но и всего общества.
В случае если муж инициировал развод по причине измены жены, то у кумыков и терекеменцев женщина, помимо имущества и кебина, лишалась и волос с головы304. Желая опозорить женщину, уличенную в прелюбодеянии, муж прибегал к этому наказанию.
Учитывая, что в культуре народов Кавказа женские волосы обладали определенной магической силой, лишение которых свидетельствовало о ее потере, то такое наказание было морально тяжелым. Желая публично наказать женщину за недостойное поведение, мужья прибегали к такой унизительной практике. Безусловно, общественное мнение порицало блудниц, положительно санкционируя поступок мужа. При этом женщина-блудница, получившая развод, должна была выйти замуж за мужчину, с которым у нее была любовная связь. У некоторых народов отказ женщины мог восприниматься общественным мнением как оскорбление. Так, в селении Терекем Кайтаго-Табасаранского округа, если женщина после получения развода не желала выходить замуж за человека, к которому убежала, то она считалась кровником всему обществу305.
Заметим, что при любых причинах развода женщина не могла долго оставаться одной. Семья старалась повторно выдать ее замуж.
По новым шариатским нормам женщины получили право инициировать развод. При этом женщина не имела права сказать мужу лично о желании развестись, за нее это должны были сделать ее братья или старшие родственники-мужчины.
Что касается причин, по которым женщина могла потребовать развод, они практически у всех дагестанских народов были схожими. Инициатива женщины была ограничена тремя случаями: жестокое обращение, измена мужа, неспособность к брачному сожительству306. Так, по адатам Кайтаго-Табасаранского округа женщине дозволялось подать на развод при следующих обстоятельствах: 1) муж не выполняет своих супружеских обязанностей; 2) муж заражен «прилипчивою» болезнью; 3) муж по причине бедности не может содержать свою жену307.
По адатам шамхальства Тарковского и ханства Мехтулинского женщине дозволялось подать на развод в следующих случаях: нерасположение к ней мужа, утрата супружеских способностей, сумасшествие, чесотка, проказа или другое заболевание308.
По сведениям С. Ш. Гаджиевой, у кумыков жена могла подать на развод как по причине импотенции мужа, так и по причине его бедности, и, как следствие, невозможности содержать семью309. Как видим, жестокое обращение мужа не учитывалось в качестве серьезного обстоятельства для развода у кумыков.
Грубое отношение мужа как повод жене подать на развод отмечается исследователями у ногайцев. В частности, среди причин, по которым ногайские женщины могли инициировать развод, М. Б. Гимбатова отмечала безосновательные обвинения жены в измене со стороны мужа, что должны были подтвердить свидетели310. При этом ногайская женщина, получившая развод, не возвращала мужу калым. Как правило, таких случаев было очень мало. Редко кто мог выступить в качестве свидетеля, рискуя попасть под гнев супруга.
По дагестанским адатам, если же кто-то из супругов требовал развод без всякого на то основания, то они подвергались денежному штрафу в размере 80 рублей311. По сведениям Ф. И. Леонтовича, покидая дом мужа, жена должна была оставить там все, что ей полагалось по кебину, в том числе и свое личное имущество312.
По адатам шамхальства Тарковского и ханства Мехтулинского, в случае нежелания жены сожительствовать с мужем без уважительных причин она лишалась всего личного имущества313. Подарки жениха (альхам), приданое, кебинные деньги, калым и даже верхняя одежда переходили «в полное владение оставленного ею мужа»314.
В этих же адатах говорилось, что муж имел право отрезать прядь с волос уходящей от него жены315. Так как волосы обладали сакральной силой, то это воспринималось и женщиной, и обществом как оскорбление чести женщины.
Следует обратить внимание, что женщина должна была в шариатском суде привести убедительные доводы, которые могли удовлетворить ее желание развестись. Если таковых у женщины не имелось, то развод она не получала. Единственное, что ей оставалось, – уйти без согласия мужа, заплатив ему вознаграждение. Так, например, в адатах шамхальства Тарковского и ханства Мехтулинского говорилось, что мужу, от которого без его согласия на развод уходила жена, дозволялось требовать вознаграждение за его согласие на совершение развода316. Форма вознаграждения могла варьироваться у разных народов.
Так, по адатам южнодагестанских обществ, в случае развода по инициативе жены мужу полагалась моральная компенсация в денежном выражении. Например, терекеменские женщины, помимо своего имущества и кебинных денег, должны были уплатить мужу 25 рублей за моральный ущерб317.
По адатам Ункратль-Чамалальского наибства, не любящая своего мужа женщина могла получить развод от мужа, уплатив ему в качестве компенсации денежную сумму, равную стоимости семи коров, а также отказавшись от кебинных денег318. Если развод происходил в зимнее время по требованию жены, муж «по суду обязан был дать ей платье»319.
Несмотря на разрешение бракоразводной инициативы женщины, в традиционном дагестанском обществе разводы были крайне редким явлением. Во-первых, развод, инициированный женщиной, лишал ее возможности получить причитающееся ей имущество. Во-вторых, сдерживающим фактором являлись дети, которые в большинстве случаев оставались с отцом. По справедливому замечанию М. Б. Гимбатовой, женщина, рискуя потерять детей, была вынуждена мириться с грубым отношением мужа и не подавать на развод320.
Кроме того, учитывая отношение в обществе к разведенным женщинам, они нелегко решались на этот опрометчивый шаг. Семья жены также всячески старалась отговорить ее от развода, заботясь в первую очередь о репутации. Как правило, женщины были вынуждены покориться воле своих родителей, терпя и дальше тяжелую жизнь в доме мужа.
Под влиянием военного фактора возрождались некоторые архаические традиции дагестанского народа, обусловленные патриархальными, религиозными и военными обстоятельствами. Одной из таких традиций в брачной политике имамата стало многоженство, которое было санкционировано и одобрено шариатом. Несмотря на все меры, многоженство широкого распространения так и не получило, люди по-прежнему придерживались моногамии.
Главным препятствием был калым за невесту, размер которого, в условиях многоженства, был эквивалентен количеству жен. Следовательно, только способность уплатить выкуп давала возможность мужчине завести несколько жен. Только состоятельный человек мог позволить себе это. Указывая на это обстоятельство, Б. К. Далгат отмечал, что многоженство было присуще зажиточным мужчинам321.
Указывая на обстоятельства экономического характера, Н. Львов также полагал, что в ауле Ботлих многоженство мало распространено по причине бедности населения322. По мнению автора, среди горцев едва ли находилась десятая часть тех, которые за всю свою жизнь не женились бы хоть три раза323. При этом он резонно замечал, что были среди них мужчины, которые разновременно женились «на десяти и более женах»324.
Характеризуя семейные отношения у лакцев, С. Габиев отмечал, что они не имели понятия о многоженстве, а мужья с женами обращались очень хорошо325. По мнению автора, численное превосходство женщин над мужчинами должно было привести к полигамии или проституции, но этого в народе не наблюдалось326.
Одной из неприглядных сторон многоженства, по мнению Н. Львова, были склоки между женами327.
Описание семейных отношений многоженца на примере даргинской семьи приводит в своем очерке Г.‑М. Амиров. По сведениям автора, привод в семью второй жены Рокие стал причиной страшной ненависти к мужу со стороны первой жены Айши328. По мнению Амирова, муж не уделял женам одинакового внимания и заботы, что приводило к недовольству со стороны первой жены Айши, к постоянным скандалам329. Одна из таких семейных ссор закончилась трагически. Айша решила высказать мужу все, что успело накопиться в ее сердце за двадцать лет совместной жизни, но разъяренный муж вонзил в грудь несчастной кинжал330. По сведениям Амирова, убийство первой жены не осталось безнаказанным: Саид был изгнан в канлы из аула и вскоре умер331.
Кроме того, военная администрация с момента утверждения в крае не оставляла без внимания вопросы, связанные с многоженством. Представляет интерес письмо генерала Ермолова Мехти-Шамхалу Тарковскому от 1 февраля 1824 года за № 24, где он сообщает, что некий прапорщик
Мирза-Исмаил, имея 4‑х жен, хочет еще взять 5‑ю из Карабудага. Всякими плутовствами содержал он прежних, ибо бедное состояние его было мне неизвестно, – следовательно, на те же и теперь надеется плутовства, если число жен умножить332.
Ермолов просил Мехти-Шамхала Тарковского не допустить сего примера разврата в земле, где люди, подобные ему низким состоянием, «доселе многоженства не терпели»333. Мало того, генерал наказывал взять этот вопрос под контроль полковнику князю Бековичу-Черкасскому и поставить в известность родственников невесты, что Мирзе-Исмаилу запрещено жениться334. Самым строгим образом предупреждались родители невесты: если они выдавали дочь, то сразу же изгонялись из селения335. Что касается Мирзы-Исмаила, в случае ослушания его должны были посадить в крепость «как подающего пример неповиновения»336.
Как видно из текста письма, генерал Ермолов не был против многоженства. Главным условием было, чтобы мужчина был в состоянии, как ему полагалось по обычаям, достойно содержать своих жен. А за неповиновение власти наказание ожидало всех участников – незадачливого жениха и меркантильных родственников невесты.
В реалиях сложной демографической ситуации, которая усугубилась многолетней Кавказской войной, требовалось волевое решение данной проблемы. Многоженство должно было эффективно сказаться на демографии. В имамате понимали, что несколько жен гарантировали увеличение потомства.
Несмотря на все усилия, которые прилагались для утверждения этого института в Дагестане, оно так и не получило распространения, в связи с чем в имамате были предприняты более радикальные меры – «принуждение к замужеству засидевшихся в девках». Что в итоге и предполагало двоеженство. К категории «засидевшихся» были причислены все женщины детородного возраста: юные девушки, старые девы, вдовы, проживающие на территории имамата.
В Военном сборнике за 1859 год вышла статья «Шамиль и Чечня», где такая политика Шамиля была названа насильственной и объяснялась сложной демографической обстановкой337. Автор статьи, указывая на эти обстоятельства, писал:
Мера эта, принятая Шамилем по случаю значительного уменьшения народонаселения, вследствие истребительных войн, носила характер чисто вынудительный, и состояла в том, чтобы каждая девушка в известное время года, по достижении совершеннолетия, должна была избирать себе жениха и выходить замуж338.
Безусловно, сложившийся дисбаланс между мужчинами и женщинами являлся следствием демографического кризиса, вызванного Кавказской войной. Одинаково сложная ситуация была в наибствах Дагестана и Чечни, которые в ходе военных событий потеряли значительное количество мужского населения.
В опустевших аулах сплошь и рядом оставались вдовы, возраст которых составлял от 18 до 30 лет. Учитывая, что вдовы находились в детородном возрасте, то в имамате стали проводить политику, направленную на улучшение демографии.
Оправдывая такую радикальную политику, имам Шамиль приводил веские аргументы, среди которых – человеческие потери за более чем тридцать лет. М. И. Ибрагимова в своем историческом романе не скупится на краски, описывая атмосферу, при которой осуществлялись мероприятия по улучшению демографии имамата339. По сведениям автора романа, главным аргументом Шамиля было то, что вскоре в имамате подрастающим девицам не за кого будет выходить замуж340.
Первым делом во всех наибствах была проведена перепись населения, которая показала, что мужского населения было в три раза меньше, чем женского. Следующим шагом, после широкого обсуждения на меджлисе сложной демографической ситуации в имамате, начали внедрять в жизнь практику «принуждения к замужеству».
Безусловно, такое вмешательство в личную жизнь не могло понравиться ни женщинам, ни тем более мужчинам. Несмотря на недовольство, оспорить законы меджлиса никто бы не осмелился. Вся ответственность за выполнение этих предписаний была возложена на представителей общинной администрации. В их обязанности входил контроль над девушками брачного возраста, незамужними женщинами и вдовами.
В некоторых аварских и цезских селениях местные власти должны были регулярно устраивать опрос, за кого они желали бы выйти замуж. При этом не исключалось, что женщины могли выбрать и женатого мужчину. Учитывая, что шариат допускал мужчине иметь и четырех жен, то такой выбор считался вполне нормальным явлением. Заметим, что желание мужчины тоже никого не волновало.
Но не только демографические проблемы вынудили Шамиля прибегнуть к таким радикальным мерам. По сведениям А. Руновского, причина заключалась в стремлении улучшить нравственные устои общества, которые в период войны пошатнулись. А. Руновский полагал, что Шамиль хотел спасти девушек, которые были замечены в предосудительных связях, и их семьи от бесчестия341.
М. Гаммер в причинах, побудивших Шамиля прибегнуть к столь радикальной практике – «принуждение к замужеству», усматривая также стремление Шамиля оздоровить мораль горской молодежи, не исключал и причин демографического характера342.
Отдельным пунктом в политике имамата был вопрос относительно замужества вдов. В объективных исторических реалиях это был гуманный шаг со стороны имама. Шамиль постановил, что ни одна вдова не могла больше трех месяцев находиться в статусе вдовы. По истечении этого срока он обязал их выбирать себе мужей. При этом выбранные вдовами мужчины в обязательном порядке должны были заключить с ними брак. Этот процесс находился под контролем специальной комиссии имамата. Совет старейшин аула, руководствуясь этими списками вдов и вдовцов, рекомендовал вдовствующей паре вступить в новый брак343.
Если же по каким-то причинам мужчины, которых назвали в ходе подобного опроса, отказывались от брака с вдовами, то они были обязаны уплатить солидный штраф в пользу казны имамата. Этим штрафом могли быть как деньги, так и зерно, мука или курдючное сало. Такие штрафы были довольно обременительны для мужчин, а чтобы избежать штрафных санкций, мужчинам ничего не оставалось, как заключить брак с нежеланной женой.
В то же время в качестве поощрения мужу полагалось выплатить в момент заключения брака двадцать туманов344. Очевидно, что такими мерами в имамате пытались уменьшить число недовольных мужей. Учитывая тяжелое материальное положение, меркантильные интересы брали верх. Кроме того, по нормам шариата, по прошествии оговоренного срока, мужчинам предоставлялось право на развод.
Вместе с тем мужчинам из бедных слоев, которые не могли себе позволить взять в жены девушку, за которую нужно было уплатить внушительный калым, перспектива женитьбы на вдове пришлась по душе.
Так, по сведениям Н. Львова, мужчины, не имея возможности жениться на юных девушках, особые чувства испытывали к вдовам345. Отмечая влечение пожилых горцев к вдовам, автор приводил поговорку: «Можно печь куриные яйца в пазухе вдовы и даже зажарить голубя»346.
Как же общество воспринимало вмешательство имамата в дела семейные? Конечно, это было не по нраву горскому обществу. Народ не желал такого рода перемен, которые грозили потрясти вековые устои общества. Учитывая менталитет девушек-горянок и их природную скромность, они и сами не спешили переступать через адаты. Новые правила встречали сопротивление как со стороны женщин, так и мужчин. Несмотря на то что специальные комиссии строго следили за соблюдением новых правил, нередкими были случаи неповиновения. Безусловно, это вынуждало имама Шамиля прибегать к силовым методам. Так, по сведениям Д. Хожаева, в случае отказа ослушницам грозило заключение в яму, где они должны были находиться, пока не произнесут имя мужчины, за которого согласны выйти замуж347. Если девушка не называла имя избранника, то ей подыскивали другую кандидатуру; если она соглашалась, то заключали брак348.
Указывая на такую практику в чеченских наибствах, Д. Хожаев описывал инцидент, имевший место между родителями девушки и муллой мечети. По сведениям автора, мулла Шоаип принял решение насильно выдать девушку замуж, несмотря на отказ ее отца. Мало того, угрожая ему, что не отпустит ее до тех пор, пока она не выйдет замуж за того, кого он ей указал, мулла приказал ее посадить в яму349. Пойдя на такие радикальные меры, имам мечети, безусловно, нарушил вековые чеченские обычаи, чем дал повод для кровной мести, которая была неминуема со стороны тейпа (рода) девушки.
В результате «принципиальный» мулла мечети был убит весной 1844 года мужчинами тейпа девушки, не желавшими «навлекать позор на свой род»350. При этом автор подчеркивал, что сам Шамиль извлек урок после убийства муллы. Он был вынужден пересмотреть некоторые положения низама. В частности, по новым правилам вся ответственность за проступки дочерей была возложена на отцов или мужчин рода351.
По сведениям А. Руновского352, Шамиль отрицал тот факт, что в случае неповиновения наибам со стороны родителей последние подлежали аресту и заключению в тюрьму, как писали об этом некоторые авторы. Понимая важность данных мероприятий, Шамиль решил учитывать мнение брачующихся и их родителей353. По сведениям А. Руновского, все это достигалось только «благоразумными увещаниями»354. Автор отмечал, что в яму ослушниц никогда не сажали и никаких других принудительных мер не принимали355. Он резонно полагал, что этого «никто бы и не позволил»356.
Разумеется, стремясь заключить как можно больше браков, наибы могли переусердствовать в своих стремлениях, вызывая тем самым недовольство у населения. Указывая на эти нарушения, А. Руновский отмечал в дневнике, что некоторые наибы слишком старались, особо не вникая в суть распоряжения имама357. По сведениям автора, требовали от родителей заключения брака с их юной дочерью, ссылаясь, что она уже созрела для брака358. А. Руновский полагал, что выведать, насколько девушка созрела для брака, могли через сельских старух359.
Иллюстрацией этого тезиса являются материалы архивного дела (РГВИА), где содержится обзор сведений о Дагестане, составленный генералом штаба капитаном А. Вранкеном. Он пишет, что «тленсерухцы неохотно повинуются Шамилю, иногда даже не исполняют его приказаний»360. Мало того, жители аула Тленсерух проявили свое неповиновение, когда «в 1842 году Шамиль потребовал от них девушек для замужества для своих мюридов. Тленсерухцы объявили, что в домах остались только малолетние. Посланники Шамиля тому не верили и хотели убедиться в зрелости девушек осязанием их грудей, но за такую остроумную выходку были прогнаны палками»361.
Здесь явно прослеживается отступление от адатных норм, согласно которым женщины не должна была касаться рука постороннего мужчины, что для него было чревато кровной местью. Разумеется, общество оказывало сопротивление, рискуя навлечь гнев Шамиля. Честь семьи была важнее страха и даже смерти.
Когда до Шамиля доходили слухи о злоупотреблениях и превратных действиях наибов, их ожидали взыскания и строгое предписание «исполнять его приказания в настоящем смысле»362.
Возвращаясь к практике принуждения девушек к замужеству, следует отметить, что проявление женщиной инициативы в выборе мужа не могло появиться спонтанно. Очевидно, что данный обычай имел место в культуре некоторых дагестанских народов в архаичные времена, а в реалиях военного времени он возродился в новой форме.
Описанные обычаи и обряды были зафиксированы исследователями преимущественно в горном Дагестане. В частности, сохранившиеся реликты древнего обычая отмечались у аварцев, андийцев, даргинцев и, за редким случаем, у лакцев363. Некоторые исследователи усматривали в этих обычаях отголоски материнско-родового культа, где была сильна брачная инициатива девушки364.
Сохранившиеся обычаи имели форму игры. Так, например, в селении Тлалух Чародинского района в старину бытовал обычай, по которому ежегодно в центре аула собирали всех незамужних девушек и женщин, а также мужчин брачного возраста. Обряд начинался со слов ведущего. Он вызывал девушку, которая должна была произнести имя избранника из числа присутствующих мужчин. Если же девушка долго не решалась, то толпа закидывала ее мелкими камушками до тех пор, пока она не скажет имя жениха365. Без сомнения, девушки стеснялись, не каждая могла осмелиться на такой шаг. Единственное, что смягчало проведение обряда, – это игровая атмосфера.
Представляет интерес обряд, распространенный у аварцев селения Цада Хунзахского района, в котором принимали участие все молодые юноши и девушки. Суть обряда, который также проводился в игровой форме, заключалась в том, что юноши должны были закидать папахами дом девушки, пока она не выберет одну из них. Если выбор девушкой был сделан, дальше следовало сватовство. Аналогичный обычай тIагърал рехи («забрасывание папах») был широко известен и у ахвахцев366.
Нередко выбор девушки мог пасть на того мужчину, который уже имел семью. И в этом случае он был обязан на ней жениться. Нередко мужчина до последнего был не в курсе, что он стал избранником девушки, – эту новость ему приносили сельчане.
Ю. Ю. Карпов, исследовавший обычаи цезов, отмечал, что при выборе избранника женщины должны, произнося имя мужчины, бросить в него свою вязаную обувь гедоби367.
Очевидно, что к такому обычаю, сохранившемуся реликту эпохи матриархата, в объективных реалиях военного времени рационально прибегнул имам Шамиль.
Мнения исследователей разнятся в оценке этой практики. По мнению А. Руновского, она была направлена на борьбу с распущенностью. Кроме того, она распространялась исключительно на легкомысленных девушек, одаренных веселым характером368. Руновский полагал, что такие радикальные меры должны были избавить семьи девушек от бесславия, а их самих от неминуемого наказания369. Необходимо отметить, что автор в своих доводах ссылался на имама Шамиля, с которым провел длительный период в Калуге.
Заботясь о моральном облике общества, Шамиль не только предписывал своевременно выдавать замуж веселых девиц «во избежание блудства», но и обязывал родителей это делать по первому же указанию наибов. Но, с другой стороны, это противоречило нормам шариата, согласно которым судьбой дочери имел право распоряжаться только ее отец. Только отец мог совершить действия в отношении своей «легкомысленной дочери», желая смыть позор с семьи и тухума.
Как писал Руновский, Шамиль и сам понимал, что из‑за столь радикального вмешательства в семейные дела горцев он рисковал нажить себе очень много врагов370. Имам понимал, что таким образом он подвергал свою жизнь риску371.
После пленения Шамиля новые брачные нормы были забыты, за исключением двоеженства, которое у некоторых народов Дагестана сохранилось. Но опять-таки это зависело от множества факторов: сословной принадлежности брачующихся, материальных возможностей, менталитета.
141
Смирнова Я. С. Семья и семейный быт // Культура и быт народов Северного Кавказа. М., 1986. С. 186.
142
Смирнова Я. С. Семья и семейный быт народов Северного Кавказа (вторая половина XIX – ХХ в.) М., 1983; Цыбульникова А. А. Казачки Кубани в конце XVIII – середине XIX века.
143
Рагимова Б. Р. Женщина в традиционном дагестанском обществе. С. 39.
144
Там же.
145
Гаджиева С. Ш. Семья и брак у народов Дагестана. С. 72.
146
Там же.
147
Рагимова Б. Р. Женщина в традиционном дагестанском обществе. С. 39.
148
Там же.
149
Ковалевский М. М. Закон и обычай на Кавказе. М., 1890. Т. 2. С. 204.
150
Там же.
151
Там же.
152
Алибеков М. Адаты кумыков / Пер. Т. Бейбулатова. Махачкала, 1927. С. 30.
153
Там же.
154
Цадаса Г. Адаты о браке и семье аварцев в XIX – начале XX в. // Памятники обычного права Дагестана XVII–XIX вв.: Архивные материалы / Сост., предисл. и прим. Х.‑М. Хашаева. М., 1965. С. 55.
155
Законы вольных обществ XVII–XIX вв.: Архивные материалы / Сост., предисл. и прим. Х.‑М. Хашаева. Махачкала, 2007. С. 48.
156
Там же.
157
Агларов М. А. Сельская община как эндогамный круг в Дагестане // Брак и свадебные обычаи у народов Дагестана в XIX–XX вв. Махачкала, 1986. С. 11.
158
Законы вольных обществ… С. 80.
159
Там же. С. 99.
160
Ковалевский М. М. Закон и обычай на Кавказе. С. 171; Далгат Б. К. Обычное право и родовой строй народов Дагестана // РФ ИИАЭ Ф. 5. Оп. 1. Д. 22. Л. 67; Никольская З. А. Из истории семейно-брачных отношений у аварцев // Кавказский этнографический сборник. 1949. Вып. VIII. С. 59; Агаширинова С. С. Свадебные обряды лезгин в XIX – начале XX века // Ученые записки Института истории, языка и литературы. Махачкала, 1964. Вып. XII. С. 134; Курбанов К. Э. Брак и свадебные обряды цахуров в XIX – начале XX века // Вопросы истории и этнографии Дагестана. Махачкала, 1974. Вып. V. С. 132; Гаджиева С. Ш. Семья и брак у народов Дагестана. С. 147.
161
Гаджиева С. Ш. Семья и брак у народов Дагестана. С. 145.
162
Агаширинова С. С. Свадебные обряды лезгин в XIX – начале XX века. С. 134.
163
Гаджиева С. Ш. Семья и брак у народов Дагестана. С. 147.
164
Ризаханова М. Ш. Гунзибцы. С. 98.
165
См.: Алигаджиева З. А. Современная свадебная обрядность аварцев (традиции и инновации). Махачкала, 2015. С. 19.
166
Дагестанские пословицы и поговорки. Режим доступа: https://citatyok.ru/poslovitci/dagestan.html.
167
Блиев М. М. Россия и горцы Большого Кавказа. На пути к цивилизации. М., 2004. С. 9.
168
Смирнова Я. С. Семья и семейный быт. С. 104.
169
Гаджиева С. Ш. Семья и брак у народов Дагестана. С. 89.
170
Там же.
171
Львов Н. Домашняя и семейная жизнь дагестанских горцев; Свечин Д. И. Очерк народонаселения; Дубровин Н. Ф. История войны и владычества русских на Кавказе.
172
Дубровин Н. Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. С. 577.
173
Там же.
174
Там же.
175
Там же.
176
Львов Н. Домашняя и семейная жизнь дагестанских горцев. С. 4.
177
Там же.
178
Там же.
179
Там же.
180
Кон И. С. Маскулинность как история // Гендерные проблемы в общественных науках. М., 2001. С. 9.
181
Там же.
182
Свечин Д. И. Очерк народонаселения. С. 63, 641.
183
Косвен М. О. Семейная община и патронимия. М., 1963. С. 50.
184
Там же.
185
Там же.
186
Ковалевский М. М. Родовое устройство Дагестана. С. 542.
187
См.: Далгат Б. К. Материалы по обычному праву даргинцев // Рукописный фонд Института истории, языка и литературы ДНЦ РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 28. Л. 44.
188
Там же.
189
Там же.
190
Там же.
191
Дебиров Г. М. Дагестанские предания и суеверия. С. 33.
192
Там же.
193
Там же. С. 32.
194
Там же.
195
Там же.
196
Халифаева А. К. Государственные и правовые институты. С. 93.
197
Там же.
198
Львов Н. О нравах и обычаях дагестанских горцев // Кавказ. 1867. № 71.
199
Там же.
200
Далгат Б. К. Материалы по обычному праву даргинцев. С. 113.
201
Ковалевский М. М. Закон и обычай на Кавказе. С. 204.
202
Лезгинский фольклор / Сост. А. Гаджиев; на лезгин. яз. Махачкала, 1941; Лакские народные песни / Подгот. текста, сост., предисл. и коммент. Х. М. Халилова; на лакском яз. Махачкала, 1970; Даргинские народные песни / Подгот. текста, сост., предисл. и коммент. З. Магомедова и Ф. Алиевой; на даргин. яз. Махачкала, 1970; Свод памятников фольклора народов Дагестана: В 20 т. / Под ред. проф. М. И. Магомедова. М., 2017. Т. 6. Обрядовая поэзия / Сост. Х. М. Халилов, Ф. А. Алиева; отв. ред. А. М. Аджиев.
203
Халилов Х. М. Гендерные роли в фольклоре лакцев // Гендерные отношения в культуре народов Северного Кавказа: Материалы региональной науч. конф. Махачкала, 2008. С. 117–118; Абакарова Ф. З. Мужественность и женственность в детском фольклоре народов Дагестана // Там же. С. 123–124; Мутиева О. С. Отражение социально-правового статуса женщины в духовной культуре и фольклоре народов Северного Кавказа // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. Краснодар, 2014. № 2. С. 246–248.
204
Дагестанские пословицы и поговорки.
205
См.: Гимбатова М. Понятие «настоящая женщина» в дагестанском сознании // Вестник Института ИАЭ. 2015. № 2. С. 141.
206
Там же.
207
Там же.
208
Там же.
209
Воронов Н. И. Критико-библиографический обзор географическо-статистического материала, накопившегося в газете «Кавказ» в 1863–1865 годах // Записки Кавказского отдела Императорского Русского географического общества. Тифлис, 1866. Кн. 7, отд. 2. С. 50.
210
Алиханов-Аварский А. М. В горах Дагестана.
211
Там же.
212
Карпов Ю. Ю. Взгляд на горцев. Взгляд с гор: Мировоззренческие аспекты культуры и социальный опыт горцев Дагестана. СПб., 2007. С. 186.
213
Там же.
214
Прушановский К. И. Выписка из путевого журнала Генерального штаба штабс-капитана Прушановского. Кавказский сборник. 1902. Т. 23. С. 60–61; Шамиль и Чечня // Военный сборник. 1859. Т. 9. С. 143.
215
Леонтович Ф. И. Адаты кавказских горцев; Алимова Б. М. Табасаранцы; Курбанов М.‑З. Ю. Сюргинцы. XIX – начало ХХ в.: Историко-этнографическое исследование. Махачкала, 2006; Лугуев С. А. Балхарцы. XIX – начало ХХ в.: Историко-этнографическое исследование. Махачкала, 2008.
216
Леонтович Ф. И. Адаты кавказских горцев. С. 172; Дубровин Н. История войны и владычества русских на Кавказе. С. 428; Шаманов И. М. Брак и свадебные обряды карачаевцев в XIX – нач. XX в. // Археология и этнография Карачаево-Черкесии. Черкесск, 1979. С. 82.
217
Халифаева А. К. Государственные и правовые институты. С. 22.
218
Ковалевский М. М. Закон и обычай на Кавказе. Т. 2. С. 132.
219
Магомедов Р. М. Общественно-экономический и политический строй Дагестана. С. 51, 52; Ковалевский М. М. Родовое устройство Дагестана. С. 542.
220
Памятники обычного права Дагестана. XVII–XIX вв. Архивные материалы / Сост., предисл. и примеч. Х.‑М. Хашаева. М., 1965.
221
См.: Памятники обычного права Дагестана. С. 65–66; См.: Алигаджиева З. А. Формы заключения брака у аварцев. С. 274.
222
См.: Львов Н. О нравах и обычаях дагестанских горцев. С. 21.
223
Там же.
224
Там же.
225
Ковалевский М. М. Закон и обычай на Кавказе. С. 168.
226
Львов Н. Домашняя и семейная жизнь дагестанских горцев. С. 20.
227
См.: 100 писем Шамиля. Памятники письменности Дагестана. Махачкала, 1997. Вып. 1. С. 78.
228
Гаммер М. Шамиль. С. 318.
229
Дубровин Н. Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. Т. I. С. 612–613.
230
Руновский А. Канлы в немирном крае // Военный сборник. 1860. № 7. С. 199–216.
231
См.: Першиц А. И., Смирнова Я. С. Положение кавказской женщины по адатам, христианским канонам и шариату // Государство и право. 1997. № 9. С. 105.
232
Таганцев Н. С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. М., 2012. С. 352.
233
Там же.
234
Там же. С. 353.
235
ЦГА РД. Ф. 126. Оп. 2. Д. 71-а. Л. 38.
236
Адаты южно-дагестанских обществ. Кюринский округ // Сборник сведений о кавказских горцах. Тифлис, 1875. Вып. VIII. С. 9.
237
Там же.
238
ЦГА РД. Ф. 21. Оп. 3. Д. 50. Л. 106.
239
Там же.
240
Адаты южно-дагестанских обществ. С. 9, 68.
241
Адаты Даргинского округа. Общие адаты // Адаты Дагестанской области и Закатальского округа. Тифлис, 1899. § 163, 164.
242
Адаты жителей Кумыкской плоскости. Очерки народных обычаев кумыков. Очерк второй.
243
Адаты Гунибского округа. Частные адаты обществ Андалалского наибства // Адаты Дагестанской области и Закатальского округа. § 5.
244
Адаты южно-дагестанских обществ. С. 9.
245
Чурсин Г. Ф. Свадебные обычаи и обряды на Кавказе // Весь Кавказ. Ч. 1. Тифлис, 1903. С. 36; Гаджиева С. Ш. Семья и брак у народов Дагестана в XIX – начале XX в. М., 1985. С. 176.
246
Омаров А. Как живут лаки. С. 21.
247
Там же. С. 122.
248
Там же. С. 106, 157.
249
Там же.
250
Законы вольных обществ XVII–XIX вв.: Архивные материалы. С. 167.
251
Там же.
252
Лугуев С. А., Магомедов Д. М. Бежтинцы. С. 112.
253
Там же.
254
Дубровин Н. Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. Т. I. С. 477.
255
Гаджи-Али. Сказание очевидца о Шамиле. С. 36.
256
Гаджиева С. Ш. Семья и брак у народов Дагестана. С. 180.
257
Кумык (Шихалиев). Рассказ кумыка о кумыках // Кавказ. 1848. № 43; Памятники обычного права Дагестана. С. 209; Семенов Н. Очерки народных обычаев у кумыков Терской области // Туземцы Северо-Восточного Кавказа. СПб., 1895. С. 299; Гаджиева С. Ш. Кумыки. С. 271; Адаты Кайтаго-Табасаранского округа // Адаты Дагестанской области и Закатальского округа. Тифлис, 1899. С. 560.
258
Ковалевский М. М. Закон и обычай на Кавказе. С. 145.
259
Кумык (Шихалиев). Рассказ кумыка о кумыках.
260
Адаты южно-дагестанских обществ. Самурский округ. С. 72.
261
Гаджиева С. Ш. Семья и брак у народов Дагестана. С. 178.
262
Там же.
263
ЦГА РД. Ф. 2. Оп. 5. Д. 60. Л. 104.
264
Там же.
265
Гаджиева С. Ш. Дагестанские терекеменцы. С. 168.
266
Комаров А. В. Адаты и судопроизводство по ним. С. 52.
267
Там же.
268
Там же.
269
См.: Гаммер М. Шамиль. С. 319.
270
Халилов А. М. Национально-освободительное движение горцев. С. 101–102.
271
Хожаев Д. Чеченцы в Русско-Кавказской войне. Грозный, 1998. С. 87.
272
Там же.
273
См.: Далгат Б. К. Материалы по обычному праву даргинцев // РФ ИЯЛ ДНЦ РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 28. Л. 44.
274
Адаты Кайтаго-Табасаранского округа // АДОЗО. Тифлис, 1899. С. 560.
275
Дневник полковника Руновского. С. 1455.
276
Там же.
277
Керимов Г. М. Шариат: Закон жизни мусульман. СПб., 2009. С. 140.
278
Цит. по: Гусейнов Ю. М. Адат и шариат в семейном и общественном быту кумыков в XIX – начале XX в.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Нальчик, 2012. С. 18.
279
Ризаханова М. Ш. Лезгины XIX – начало XX в.: Историко-этнографическое исследование. Махачкала, 2005. С. 124.
280
Там же.
281
Там же.
282
Дневник полковника Руновского. С. 1455.
283
Там же.
284
Шамиль и Чечня // Военный сборник. № 9. 1859. С. 159; Берже А. Чечня и чеченцы. С. 13; Леонтович Ф. И. Адаты кавказских горцев. С. 99.
285
Дневник полковника Руновского. С. 1405.
286
Там же.
287
Там же.
288
Там же.
289
Там же.
290
Там же. С. 33.
291
Там же. С. 1405.
292
Там же.
293
См.: 100 писем Шамиля. С. 33.
294
Там же.
295
Дневник полковника Руновского. 1904. С. 1456.
296
100 писем Шамиля. С. 33.
297
Там же.
298
Законы вольных обществ. С. 99.
299
Там же.
300
Там же. С. 194.
301
Там же. С. 167.
302
См.: Гимбатова М. Б. Брак и семейно-правовые отношения. С. 107.
303
Адаты шамхальства Тарковского и ханства Мехтулинского. С. 211.
304
Гаджиева С. Ш. Башлы: Историко-этнографическое исследование. Махачкала, 2009. С. 308.
305
Халифаева А. К. Государственные и правовые институты. С. 145.
306
Смирнова Я. С. Семья и семейный быт. С. 35.
307
Адаты Кайтаго-Табасаранского округа. С. 560.
308
См.: Законы вольных обществ. С. 270.
309
См.: Гаджиева С. Ш. Кумыки. С. 141.
310
Гимбатова М. Б. Брак и семейно-правовые отношения. С. 106.
311
ЦГА РД. Ф. 133. Оп. 2. Д. 2. Л. 20.
312
См.: Леонтович Ф. И. Адаты кавказских горцев. С. 99, 200.
313
Законы вольных обществ. С. 270.
314
Там же.
315
Там же.
316
Там же.
317
Адаты южно-дагестанских обществ. С. 51.
318
Памятники обычного права. С. 193.
319
Законы вольных обществ. С. 194.
320
Гимбатова М. Б. Брак и семейно-правовые отношения. С. 107.
321
Далгат Б. К. Материалы по обычному праву даргинцев. С. 87.
322
См.: Львов Н. Домашняя и семейная жизнь дагестанских горцев. С. 20.
323
Там же.
324
Там же.
325
Габиев С. Лаки: Их прошлое и быт. С. 11.
326
Там же. С. 99.
327
См.: Львов Н. Домашняя и семейная жизнь дагестанских горцев. С. 20.
328
Амиров Г.‑М. Среди горцев Северного Дагестана // Сборник сведений о кавказских горцах. 1873. Вып. 7. С. 32–33.
329
Там же.
330
Там же. С. 34.
331
Там же. С. 36.
332
Акты Кавказской археографической комиссии. Тифлис, 1875. Т. VI. Ч. II. С. 99.
333
Там же.
334
Акты Кавказской археографической комиссии. Т. VI. Ч. II. С. 99.
335
Там же.
336
Там же.
337
Шамиль и Чечня // Военный сборник. № 9. 1859.
338
Там же.
339
См.: Ибрагимова М. И. Имам Шамиль. С. 386–387.
340
Там же.
341
Дневник полковника Руновского. С. 1398.
342
Гаммер М. Шамиль. С. 319.
343
См.: Лугуев С. А., Магомедов Д. М. Бежтинцы. С. 112; См.: Алигаджиева З. А. Формы заключения брака у аварцев. С. 279–280.
344
См.: 100 писем Шамиля. С. 86.
345
Львов Н. Домашняя и семейная жизнь дагестанских горцев. С. 20.
346
Там же.
347
Хожаев Д. Чеченцы в Русско-Кавказской войне. С. 87.
348
Там же.
349
Там же.
350
Там же.
351
Там же. С. 88.
352
Дневник полковника Руновского. С. 1398.
353
Там же.
354
Там же.
355
Там же.
356
Там же.
357
Там же.
358
Там же.
359
Там же.
360
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 6514. Л. 45.
361
Там же.
362
Дневник полковника Руновского. С. 1398.
363
Агларов М. А. Формы заключения брака и некоторые особенности. С. 136; Он же. Андийская группа народностей в XIX – начале XX в.: Дис. … канд. ист. наук. Махачкала, 1968; Лугуев С. А. Дидойцы (цезы): Историко-этнографическое исследование (XIX – нач. XX в.). 1987 // Рукописный фонд Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра Российской академии наук. Ф. 3. Оп. 3. Д. 671. Л. 89; Лугуев С. А., Магомедов Д. М. Бежтинцы. С. 112; Курбанов К. Э. Брак и свадебные обряды. С. 132.
364
Курбанов К. Э. Брак и свадебные обряды. С. 132.
365
См.: Алигаджиева З. А. Формы заключения брака. С. 280.
366
Семейные адаты народов Дагестана.
367
См.: Карпов Ю. Ю. Женское пространство. С. 73.
368
Дневник полковника Руновского. С. 1398.
369
Там же.
370
Там же.
371
Там же.