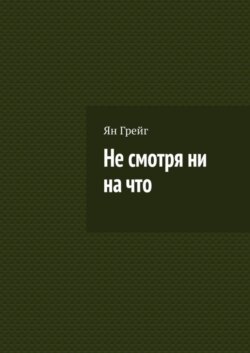Читать книгу Не смотря ни на что - - Страница 15
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Школа Грота
Наши коррекционные занятия в школе
ОглавлениеПосле обеда у нас в школе были так называемые «коррекционные занятия», где нас учили ориентироваться на местности, социализироваться и т. п.
Двумя самыми, на мой взгляд, важными занятиями стала ориентировка в пространстве и социально-бытовая ориентировка – СБО. В начальной школе оба этих занятия вела одна педагог Ольга Брониславовна, а в средней школе ориентировку у нас стала вести Ногина Любовь Борисовна, а СБО во-первых, вошло в урочное время (было как урок), а во-вторых, его вели две преподавательницы: Медведева Любовь Борисовна и Строгонова Наталья Николаевна.
Но обо всем по порядку. Начнем с ориентировки в младшей школе. Как нас учили ориентироваться в начальных классах? Даже на уроках физкультуре или в столовой нам говорили: «Идем по стеночке. Чувствуем рукой стеночку, идем по правой стороне» (последнее было актуально, когда идем по лестнице). Это уже были основы основ ориентировки в пространстве: чувствовать ориентир поблизости, чтобы не сбиться с пути. Со временем нам рассказали, что есть ориентировочные трости белого цвета, которые при выпрямлении руки вдоль туловища являются как бы ее продолжением, и по звуку стука об асфальт или о другие окружающие поверхности подсказывают, где мы сейчас находимся. Существуют также люминесцентные трости (это трости с красными и белыми звеньями, в темноте красные звенья светятся, что указывает автомобилисту, что идет незрячий человек). Бывают также звуковые трости, на которых расположены улавливатели звука по всей длине. Как это выглядит? Вставляется наушник в ухо незрячему, а другой конец идет в трость и соединяется с улавливателями.
Если мы приближаемся к препятствию, в наушнике начинает тикать, или щелкать звук, показывающий, что мы идем на какой-то объект. И чем ближе, мы подходим, тем громче звук. Но был в этом и один крупный минус: под дождем улавливатели могут сломаться из-за попадания воды. Для этих же целей существуют звуковые броши и очки-локаторы, которые работают по такому же принципу, но их надо предварительно заряжать. Крепится на грудь брошь или надеваются очки, в карман кладется улавливатель звука (как небольшая коробочка), а в ухо наушник. И он также при приближении к объекту и заряженности аккумулятора срабатывает, реагируя на звук.
Первое время в начальной школе нам просто про них рассказывали и показывали, но на улицу мы с ними почти не выходили. А в средней школе ориентировка уже началась посерьезнее, но об этом будет чуть позже. Еще одной интересной темой касательно ориентировки является прибор-ориентир. На нем можно выкладывать маршрут, по которому идем из маленьких кубиков, деталек, чтобы лучше сформировать представления о том месте, где находимся и куда идем.
Выглядит это примерно так: большая, даже огромная коробка с деталями, закрытая не менее громадной крышкой. Крышка открывается и кладется рядом, на ней выкладывается маршрут. Крышка магнитная, и к ней легко примагничиваются детали и кубики. Здание можно изобразить из нескольких прямоугольников, поставив их друг на друга, тем самым показав количество этажей. Вход в здание – полукруг. Окошки в здании – небольшие черные полоски. Зеленые насаждения – прямоугольники зеленого цвета с шершавой поверхностью. Представляя себе маршрут, незрячий человек может выложить его на приборе с помощью тех или иных деталей. Здания, окна, деревья, зеленые насаждения – это все ориентиры, и, выкладывая их на приборе-ориентир, человек закрепляет представления о маршруте на примере этих самых ориентиров.
Теперь по поводу СБО. СБО – этосоциально-бытовая ориентировка. Здесь незрячих учат ходить самостоятельно в магазин, платить за покупки, подбирать себе одежду, планировать бюджет и т. п. В начальной школе у нас было это тоже как теория, а в средней уже началась теория с практикой. Даже готовить там учат. Помню, в третьем классе мы все готовили горячие бутерброды, а в четвертом – торт. Каждому надо было принести что-то из ингредиентов. Для бутербродов я приносил колбасу, для торта – шоколад. Помню, этот торт мы делали трехслойным, я взял кусочек домой, чтобы дать попробовать своим, а он у меня рассыпался по дороге. Потом я такой же торт с бабушкой и сестрой делал летом к своему дню рождения.
Еще одним коррекционным занятием в нашей школе является развитие зрительного восприятия – РЗВ. Не знаю, правда, как оно поможет полностью незрячим или тем, у кого зрение крайне плохое и ничего с ним сделать уже нельзя, но как факт, предмет этот у нас был. Ходили на него, правда, не все, но я ходил, если у меня не было в этот момент музыкальных занятий. Нас водили в темную комнату (в blackbox) и показывали различные предметы разных цветов, а мы должны были сравнить их: по цвету, по размеру, по толщине и т. п. и делать это следовало глазами.
Еще у нас были такие занятия, как:
– психология (это просто работа и общение со школьным психологом);
– пескотерапия (нас приводили в комнату, где стояла песочница с чистейшим песком. Мы могли опускать в песок руки, «общаться» с ним);
– плоскостная лепка и т. п. на последние можно было ходить по желанию.
Но основными нужными для жизни незрячего занятиями были СБО и ориентировка в пространстве.
«Прошлое на кончиках пальцев»
Со второго по четвертый класс раз в год нас возили в фондохранилище Эрмитажа, где показывали всяческие исторические и археологические объекты. Их можно было потрогать, пощупать, и, главное, попытаться раскопать из песка. Там был почти такой же песок, как в классе пескотерапии. Нам давали специальные кисточки, и мы копали песок, и в конечном итоге что-то находили. Словом, давали нам почувствовать себя археологами.
С четвертого по шестой класс эти занятия у нас проводились каждый месяц.
В конце шестого класса был выпускной вечер, как подведение итогов всех занятий. Занятия проходили в рамках проекта, выдвинутого Петербургским Зимним дворцом под названием «Прошлое на кончиках пальцев». Само название говорит нам о том, что здесь незрячие могут изучать историю наощупь, полагаясь только на кончики пальцев.
Кстати, в сам Зимний дворец (Эрмитаж) нас тоже водили, раз в год в конце каждого года, пока шел этот проект.
В седьмом классе мы в фондохранилище уже не ездили.
«Опять лает?» и другие казусы К.
К. – единственный незрячий одноклассник с очень большими странностями, обусловленными, возможно, психическими нарушениями.
Мы уже говорили, что он все время по поводу и без повода смеялся, но это еще далеко не все. Он придумывал разные крайне странные фразы, и также сквозь смех говорил их.
В третьем классе мы писали диктант про лисенка. И когда Анна Владимировна проверяла работу Никиты, то увидела, что он случайно наколол лишнюю точку в букве л, и из л получилась буква п. Анна Владимировна ему на это указала, и Кирилл, услышав, какое слово получилось у Никиты вместо слова «лисенок», начал дико смеяться. После этого случая он стал на уроках ругаться матом: придумал так называемый «бладинский счет», и, приседая на физкультуре, он, подсчитывая разы, сколько он раз присел, перед каждой цифрой ставил «бл».
Соответственно, можно догадаться, что было вместо цифры пять!
Учительница его и с урока выгоняла, и с родителями разговаривала – все без толку. В пятом классе было какое-то родительское собрание, и кто-то из учителей напрямую сказал его маме: «Ваш К. лает на уроке», на что мама с грустным и обреченным видом, вздохнув, спросила: «Что, опять лает?» Эта фраза стала «крылатой», когда речь идет о К. Чего он только ни делал: лаял на уроках, бился головой об парту, когда у него отклеилась обложка от словаря по литературе, говорил тупые фразы не к месту на уроках, стучал ногами и визжал, если понимал, что не успевал за классом… Раз, сидели на уроке истории в школе (историю вела наша классная руководительница Ирина Юрьевна) и писали конспект. И он отстал от нас. Как он начал визжать, кричать и стучать… В итоге Ирина Юрьевна сквозь зубы сказала: «Ну все, ты меня достал!» Так, визжащего и орущего, его и увели к папе.
Кроме того, он был ужасно несамостоятельным. Понятно, что он был незрячим, и ему было тяжелее всех нас вместе взятых, но родители делали за него буквально все. Папа так же, как меня, привозил и забирал из школы, но если мой папа не ходил со мной по школе и не нянчился со мной повсюду, то его папа так делал. Я не раз видел, как он буквально раздевал его… придя в класс с папой, К. садился за парту, а папа за него доставал его тетради, на переменах он сопровождал его по всей школе. Разве это дело?
Еще бывало, что все домашние работы у него сделаны были «на пять», а в классе он сам не мог сделать ровным счетом ничего. В итоге выяснялось, что за него даже домашку делают дома. Зато он мог в тетрадках на диктантах и на сочинениях писать маты и всякие другие неприличности. Я уже понимал, что если он что-то пишет и смеется при этом, значит, все – там что-то непристойное. И я почти всегда оказывался прав. В итоге, он не доучился с нами до конца. Ушел в другую школу, где проще программа, но это уже другая история.
Читатель, позже ты поймешь, зачем я так подробно расписал про К., стоит только подождать.