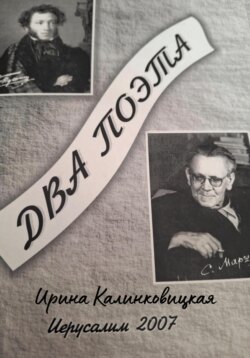Читать книгу Два поэта - - Страница 6
В беспредельной вышине… А. С. Пушкин
"19 октября" 1825 года
4
ОглавлениеРазве вы не знали, что стихи сбываются?
Марина Цветаева – Анне Ахматовой
Комната была такая же, как прежде. Хотя, нет. Не совсем такая же. Тот же человек сидел за той же конторкой. Нет, не совсем тот же человек, и конторка не та же.
Рэй Брэдбери
Несмотря на то, что будут ещё написаны стихотворения на лицейскую годовщину и в 1827, и в 1828, и в 1831, и в 1836 годах, это стихотворение оказалось прощальным. По разным причинам он больше никогда не встретится с лицеистами, которые упоминаются в стихотворении:
В январе 1825 года состоялась последняя встреча с Иваном Пущиным. Декабрьское восстание навеки разлучило их.
Как и предсказал поэт, их пути с Александром Горчаковым навсегда разошлись. Встреча на "просёлочной дороге "в августе 1825 года также была последней.
"Запоздалый друг "Вильгельм Кюхельбекер не сможет приехать в Михайловское из-за деятельного участия в событиях 14 декабря, и их случайная встреча в октябре 1827 года также окажется последней. Встретятся "братья по судьбам", бывший ссыльный Александр Пушкин и ссыльный до конца дней своих Вильгельм Кюхельбекер, чтобы больше никогда не увидеться.
Исключением будет лишь Дельвиг, дружба с которым прервётся только с его смертью. Эта ранняя смерть потрясёт Пушкина. В стихотворении "19 октября" 1831 года он напишет:
И мнится, очередь за мной.
Зовёт меня мой Дельвиг милый.
И тут он окажется пророком. Между 1831 и 1837 годами не умрёт ни один из лицеистов. Стихотворение начинается перифразом из лицейского гимна, а заканчивается лицейской клятвой.
Оно движется к своему началу, постепенно уходят лицеисты, остаётся один последний, тот, о ком в лицейской клятве говорится достаточно беззаботно: "И один последний лицеист будет праздновать день 19 октября".
Пушкин пытается заглянуть в далёкое будущее, пытается сквозь толщу времени разглядеть последнего лицеиста: как он будет выглядеть, что будет чувствовать, оставшись в полном одиночестве. Оказывается, он и это знает:
Несчастный друг! Средь новых поколений
Докучный гость и лишний, и чужой,
Он вспомнит нас и дни соединений,
Закрыв глаза дрожащею рукой…
Пушкин, конечно, не знает, кто будет последним лицеистом. По-видимому, догадывается, что не он. И всё-таки создаётся впечатление, что какая-то догадка, мгновенное озарение промелькнули в этих строчках: "Кому ж из нас под старость день лицея торжествовать придётся одному?"
Пушкин очень точно чувствовал значение, температуру, вес каждого слова в стихе, то место, которое слово занимает в пространстве.
Место слова «торжествовать» в пространстве строки, строфы, стихотворения, огромно. Если слово «загородил» в стихотворении Пушкина «Обвал», по меткому замечанию Маршака, «загораживает» строку, то на слове «торжествовать» как бы завершаются судьбы лицеистов первого выпуска.
Это слово имеет несколько значений: «праздновать», "праздновать победу", "иметь полный успех".
Первое значение лежит на поверхности: "И один последний лицеист будет праздновать день 19 октября". Особого повода праздновать победу у последнего лицеиста – не будет: пережить всех, остаться одному "средь новых поколений", – это, скорее, пиррова победа. Пушкин и это понимает. Отсюда и выражение – "несчастный друг".
А вот состоявшаяся судьба, одержанные в жизни победы, сохранённое чувство собственного достоинства, наконец, самоуважение, – чем не повод для торжества в конце жизни, когда пора подводить итоги?
Последний лицеист Александр Михайлович Горчаков проживёт ещё почти шесть десятилетий после написания стихотворения "19 октября" 1825 года и умрёт в 1883 году, то есть совсем в другую эпоху.
У последнего лицеиста были все основания торжествовать, а у его друзей (с лицейских лет и на протяжении всей жизни) – все основания сопрягать, связывать это слово с образом "счастливца с первых дней, сиятельного повесы". Горчакову есть чем гордиться: он дипломат, одержавший на дипломатическом поприще блистательные победы, министр иностранных дел, позднее канцлер. "К старости имеет, кажется, всё. В 14 классах "Табели рангов" достиг первого. Его полный титул, звание и список орденов занимают целый газетный столбец"[6].
Но было и то, чем он гордился не меньше:
За семь лет до написания стихотворения, в 1817 году, заканчивая Лицей, он уступает Большую золотую медаль Владимиру Вольховскому, довольствуясь вторым местом, так как незнатному и небогатому Вольховскому будет труднее пробиться в жизни.
За несколько месяцев до написания стихотворения, в августе 1825 года, рискуя карьерой, он встречается с опальным Пушкиным.
Через несколько месяцев после написания стихотворения, а именно 15 декабря 1825 года, на следующий день после восстания декабристов Горчаков, рискуя уже не только карьерой, но и свободой, приезжает к Пущину, привозит ему заграничный паспорт и обещает помочь выехать за границу, от чего Пущин, естественно, отказывается.
"Если бы явились жандармы, дипломату пришлось бы плохо: арест, возможно, отставка, высылка из столицы… Но в состав горчаковского честолюбия входит самоуважение. Если не за что себя уважать, то незачем и карьеру делать"[7].
Через десять лет после написания стихотворения, в 1835 году он разыскивает в Италии могилу Корсакова и устанавливает ему памятник.
Через тридцать лет после написания стихотворения, в 1855 году, когда на престол на смену Николаю Первому восходит Александр Второй, "Горчакова извлекают из небытия" (Н. Эйдельман).
Одна из его первых просьб, обращённых к государю, вернуть из заточения тех декабристов, которые к тому времени ещё живы. Среди них был и Иван Иванович Пущин, который вышел на свободу в 1856 году.
Так на протяжении многих десятилетий стихотворение продолжает свою самостоятельную жизнь уже независимо от воли и жизни автора.
Пушкин пытается представить себе, какие чувства будет испытывать последний лицеист, оставшись в одиночестве. Это несложно. Ведь он сам испытывает нечто похожее. Он сравнивает своё временное одиночество ("промчится год, и с вами снова я") с действительно безвозвратным и безысходным одиночеством последнего лицеиста:
Пускай же он с отрадой хоть печальной
Тогда сей день за чашей проведёт,
Как ныне я, затворник ваш опальный,
Его провёл без горя и забот.
Он ещё очень молод. По сравнению с последним лицеистом, отмечающим лицейскую годовщину, у него есть будущее: встречи с друзьями, любовь, страдания, творчество. Всё так и будет. 8 сентября 1830 года в Болдине он напишет в стихотворении "Элегия":
…Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть – на мой закат печальный
Блеснёт любовь улыбкою прощальной.
А пока, отмечая восьмую лицейскую годовщину, он ещё не догадывается, что жить ему осталось немногим более одиннадцати лет…
Ровно через одиннадцать лет он напишет последнее в своей жизни стихотворение на лицейскую годовщину, посвящённое двадцатипятилетию основания Лицея. Это стихотворение осталось незаконченным. Пушкин попытался прочитать его 19 октября 1836 года на собрании лицеистов у М. Л. Яковлева, но от волнения закончить чтение не смог. В этом стихотворении, как заметил исследователь стихов Пушкина, написанных к лицейским годовщинам, Л. Я. Левкович, "… подведение итогов жизни его поколения".
Была пора: наш праздник молодой
Сиял, шумел и розами венчался,
И с песнями бокалов звон мешался,
И тесною сидели мы толпой.
Тогда, душой беспечные невежды,
Мы жили все и легче и смелей,
Мы пили все за здравие надежды
И юности и всех ее затей.
Теперь не то: разгульный праздник наш
С приходом лет, как мы, перебесился,
Он присмирел, утих, остепенился,
Стал глуше звон его заздравных чаш;
Меж нами речь не так игриво льется.
Просторнее, грустнее мы сидим,
И реже смех средь песен раздается,
И чаще мы вздыхаем и молчим.
Всему пора: уж двадцать пятый раз
Мы празднуем лицея день заветный.
Прошли года чредою незаметной,
И как они переменили нас!
Недаром – нет! – промчалась четверть века!
Не сетуйте: таков судьбы закон;
Вращается весь мир вкруг человека, —
Ужель один недвижим будет он?
Припомните, о други, с той поры,
Когда наш круг судьбы соединили,
Чему, чему свидетели мы были!
Игралища таинственной игры,
Металися смущенные народы;
И высились и падали цари;
И кровь людей то Славы, то Свободы,
То Гордости багрила алтари.
Вы помните: когда возник лицей,
Как царь для нас открыл чертог царицын,
И мы пришли. И встретил нас Куницын
Приветствием меж царственных гостей, —
Тогда гроза двенадцатого года
Еще спала. Еще Наполеон
Не испытал великого народа —
Еще грозил и колебался он.
Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас… и племена сразились,
Русь обняла кичливого врага,
И заревом московским озарились
Его полкам готовые снега.
Вы помните, как наш Агамемнон
Из пленного Парижа к нам примчался.
Какой восторг тогда [пред ним] раздался!
Как был велик, как был прекрасен он,
Народов друг, спаситель их свободы!
Вы помните – как оживились вдруг
Сии сады, сии живые воды,
Где проводил он славный свой досуг.
И нет его – и Русь оставил он,
Взнесенну им над миром изумленным,
И на скале изгнанником забвенным,
Всему чужой, угас Наполеон.
И новый царь, суровый и могучий,
На рубеже Европы бодро стал,
[И над землей] сошлися новы тучи,
И ураган их………………………
Незаконченное стихотворение… Прерванное чтение… Прерванная жизнь…
И снова Михайловское. Пылающий камин. Вино. Но что-то неуловимо изменилось. Изменился сам Пушкин, его настроение, его мироощущение. Под воздействием стихов изменился окружающий мир.
6
Эйдельман Н. Я. Вьеварум. Лунин. – М.: Мысль. – 1995. – с. 96.
7
Эйдельман Н. Я. Вьеварум. Лунин. – С. 66.