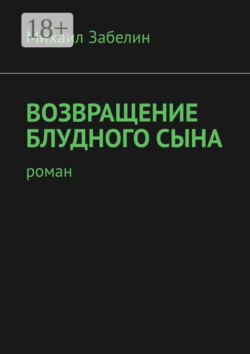Читать книгу Возвращение блудного сына. Роман - - Страница 4
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ДОРОГА
I
ОглавлениеВ доме тихо, в доме никого нет, кроме Дарьи Степановны. Она сидит у оконца, и взгляд ее скользит мимо засугробленного двора, за дырявый полосчатый забор, дальше за околицу, туда, где за белым полем, у края неба, перечеркивает окраину дорога. Трасса здесь проходила всегда, урчала издалека моторами – отголосками больших городов, и несла на себе вереницу машин, увозящих кого-то туда, где грохочет жизнь, и изредка прибивающих к их тихому берегу какого-нибудь заблудившегося чужестранца из далеких столиц.
Дарье Степановне это старое шоссе казалось дорогой во времени. Она смотрела на него, и годы раскручивались вспять, зиму сменяла осень, а за осенью наступало лето. И тогда вместо заметеленного асфальта она представляла себе речку Шачу, а вместо голого поля цветущий, зеленый, крутой берег, забрызганный солнцем, дремлющий в теплой неге.
История семьи Головиных начиналась в лето 1983 года, более тридцати лет назад. Даше было семнадцать лет.
Стройная, темноволосая, кареглазая, она притягивала взоры. Когда знакомые или чужие люди бросали на нее даже мимолетный взгляд, им хотелось остановиться, посмотреть еще раз в ее глаза и улыбнуться. На нее было трудно взглянуть без улыбки. В ее лице было столько открытости и огня, будто даже в пасмурный день пробился к ней сквозь тучи лучик солнца, отпечатался на ее губах и зажег глаза. Они, как темный янтарь, лучились, порой беспричинно и по-детски радостно. Она будто несла в себе искру и дарила ее каждому встречному. Она сама была, как пламя, как летний ветер, как шаровая молния – быстрая, непредсказуемая, яркая, как солнечный зайчик.
Длинные, темно-русые волосы шалью обнимали плечи, руки порывисто прижимались к груди, загорелые ноги не могли усидеть на месте. Светлый сарафан раздувался от ветра, она выглядела соблазнительной и изящной, непосредственной, свежей, юной и очень красивой.
Поддубное, на берегу Шачи, было ее любимым местом в погожие теплые дни. Речка протискивалась меж зеленых холмов, своевольно изгибалась, как змея, и бежала, огибая город, к Волге. На крутом берегу березы ровным строем шагали вверх по травяному ковру. Даша любила гулять меж ними бездумно, бесцельно. На другом берегу, более ровном, издалека подступали заливные луга, отороченные сосновой рощей, и замирали на самом обрыве. Здесь Даша загорала и купалась, обычно с подругами.
В то лето Даша готовилась поступать в институт, чаще оставалась одна, брала с собой сумку с учебниками, бутербродами и термосом, расстилала подстилку, ложилась, подставляя спину солнцу, и открывала книгу.
Учеба в школе ей давалась легко, и подготовка к экзаменам была для нее, скорее, необходимым ритуалом, а не лихорадочной зубрежкой.
Солнце припекало кожу, Даша с разбегу бросалась в воду, чтобы остудить жар, отвлечься от строчек в учебнике, и плыла на спине по течению, глядя в распахнувшееся голубое небо.
Странная штука память: те далекие дни она запомнила в мельчайших подробностях.
Недалеко плескалась в речке гашА.* Чуть постарше, чикалЯли* мячик, их родители, расстелив на траве покрывало, выпивали и закусывали.
*гаша – маленькие дети (Ивановский диалект)
*чикалять – бить мяч рукой о землю (Ивановский диалект)
Подальше, у леса, жарили шашлыки.
Сверкая каплями воды после купания, от чего казалось, что уже не только лицо ее, а вся она светится и сияет, Даша поднялась на берег и увидела в двух шагах от себя, у обрыва, парня, перед ним мольберт, а в руке его кисть. И сам он, то ли смотрел на противоположный берег, обдумывая композицию, то ли на нее косил любопытным взглядом. Даша подошла и заглянула ему за спину. Она плохо разбиралась в живописи, неизвестно, что это было: эскиз, этюд, но холст быстро заполнялся красками, и вот уже река и зеленая трава на другом берегу проявлялись на нем, как фотография. Голубое небо опускалось на березы и брызгами света кропило деревья и кусты.
– А ту птицу можешь нарисовать?
Парень улыбнулся, посмотрел на Дашу, и птица, широко распластав крылья, замерла на его полотне.
– А полевые цветы?
Ни слова не говоря, он, как волшебник, усыпал берег цветами.
Даша засмеялась и захлопала в ладоши от удовольствия.
– Это же чудо какое-то!
– Любишь цветы и птиц? – спросил он.
– Конечно, как их можно не любить, они такие красивые. А ты не местный, да? Я тебя раньше не видела.
– Ты что, всех здесь знаешь?
– Дак да. Городок-то наш маленький.
– Я здесь первый день, только приехал.
– Откуда же?
– Из Москвы.
Даша посмотрела на него, как на пришельца из космоса. Москва находилась не близко, не далеко, за четыреста километров, но она была даже не столицей, она, как другое государство, как далекая планета, как звезда на небе, представлялась одновременно и сказкой, и мечтой, манящей и недосягаемой. Многие ездили туда на заработки, кто-то там остался, Даша бывала в ней несколько раз, но жить в Москве, даже увидеть человека, который там живет, казалось ей необычным и выдающимся.
Парень был старше ее лет на шесть-семь. Едва взглянув на него, она сразу подумала: не наш. А когда он заговорил, догадка подтвердилась: нет, не местный. В их краях окали немного, а он говорил как-то по-другому. И не сразу было понятно чем, но он отличался даже внешностью. Он явно выделялся среди ее знакомых, не тем, что он был художником, художников здесь бывало много, а взглядом что ли, не нахальным, а внимательным и открытым, или поворотом головы, или сказанными словами. В нем проглядывала какая-то задумчивость и мягкость. Волосы его были светлые, волнистые, нос прямой, губы слегка припухлые.
– А что же ты тут делаешь? – спросила она так, как спрашивают ребенка: «Ты что, мальчик, заблудился?»
Он, по-прежнему, улыбался.
– Меня Ильей зовут. А тебя?
– Даша, – выдохнула она и снова заулыбалась так, будто вместе с именем приоткрыла и свое радостное настроение, и даже немного себя.
– У меня здесь дядя живет, Игорь Васильевич Жилин, у него домик на стрелке. Может быть, знаешь его?
– Жилин, бирюк, знаю.
– Почему бирюк?
– Дак он всегда один и из дома почти не выходит.
– Нет, он прекраснейший человек, я тебя с ним познакомлю. Один, да, так судьба у него сложилась.
– А ты к нему раньше не приезжал, ведь, правда? Я бы тебя запомнила.
На Дашином лице читались такое любопытство и такая бесхитростность, что Илье стало весело. Ему неожиданно захотелось написать ее портрет: у нее было необычно живое и выразительное лицо, а в глазах прыгали солнечные искорки.
Илья Андреевич Головин бывал в этих местах давно, в детстве, с родителями. Они гостили у дяди Игоря. Была жива еще его жена – тетя Клава. Он запомнил, как летними вечерами они выходили в сад, и с высокого берега открывалась бесконечная, в сине-желто-зеленых тонах картина: у подножия холма встречались речки Таха и Шача, одна вливалась в другую, а за рекой, окаймленные с двух сторон лесом, убегали к заходящему солнцу зеленые луга. Он до сих пор помнил то состояние восторга от открытой им красоты, которое, в конце концов, и определило его выбор – стать художником. Почему-то потом он редко вспоминал о тех далеких, теплых вечерах и до нынешнего лета не приезжал сюда. Илья учился на предпоследнем курсе Суриковского училища, и недавно ему пришла в голову мысль снова приехать в эти края на этюды. Как-то вдруг потянуло вернуться даже не в детство, а будто к истокам той когда-то подсмотренной красоты. И сейчас, увидев на берегу березовой речки девушку, похожую на нимфу и наяду здешних мест, Илья вдруг почувствовал радость от того, что приехал, от того, что приехал именно сейчас, и неясное предчувствие добрых, хороших перемен охватило его.
– Что же ты молчишь?
– Да, я давно в этих местах не был, двадцать лет. Я рад, что я здесь.
Даша отметила про себя, как быстро меняется его лицо: то он широко улыбается, глядя на нее, то его улыбка тает, и он, словно погружаясь в воду с головой, уходит куда-то далеко в своих мыслях.
В тот день они купались и загорали вместе, лежали рядом на подстилке, разговаривали, и в их общении не было ни скованности, ни робости. Потом Илья провожал ее до дома, и вокруг всё казалось ему воздушным и приветливым: встречающиеся люди и пыльная дорога, и небо, и солнце, и город.
На следующий день, ближе к вечеру, Илья повел Дашу в гости к дяде Игорю.
– Он не такой бирюк, как кажется. Просто после смерти тети Клавы он мало выходит из дома, но меня любит, и ему хочется выговориться за многие годы. Он тебе понравится.
Дядя Игорь, большой, крепкий, еще не очень старый мужчина, встретил их со старомодной галантностью и любезностью.
Илье он всегда представлялся огромным и незыблемым, как скала, застывшим во времени, как памятник прошлому. Таким дядя Игорь виделся ему еще в детстве, когда бывал наездом в их московской квартире, да и сейчас рядом с ним он ощущал себя мальчиком из сказки, зашедшим в гости к великану. Почему-то он больше всего запомнил из детства, как дядя Игорь ставил на стол огромную коробку с тортом и говорил: «Ну, открывайте, это, Илюша, для тебя». В коробке оказывалось нечто удивительное: что-то квадратное, узорно-коричневое с четырьмя шоколадными зайцами по углам. Ничего подобного в своей жизни Илья никогда не видел, хотя позже часто специально искал такой торт. В комнате стоял резной старинный шкаф под потолок, и перед отъездом дядя Игорь говорил: «Слушайся, Илюша, родителей, а то я тебя посажу на этот шкаф, и до следующего моего приезда никто тебя оттуда не сможет снять». И вправду, Илюшины папа и мама были на голову ниже, и дядины слова воспринимались всерьез. Возможно, еще и потому, что встречались они редко, детское отношение к дяде Игорю, как к доброму волшебнику, сохранилось у Ильи на всю жизнь.
– Проходите, рад вам. Пойдемте лучше в сад, там красиво, присаживайтесь, я сейчас чаю заварю.
В деревянной резной беседке было уютно и чисто. Неторопливо приближающийся вечер разогнал редкие облачка и теплел клонившимся на запад солнцем. Внизу серебрилась рыбьей чешуей Шача. Те же луга и тот же лес из Илюшиного детства расстилались до голубого неба и доносили к ним ароматы мяты и полыни.
Даша пила чай, не торопясь, смакуя, со вкусом, и глаза ее сияли. Ей здесь нравилось. Дядя Игорь оказался никаким не бирюком, а приятным, гостеприимным человеком. Сад был тенистым, уютным, вид с обрыва, действительно, открывался удивительный. Илья присел в сторонке и не отрывал от нее взгляда. Игорь Васильевич облокотился локтем о бордюр беседки и говорил много, будто в Даше неожиданно обрел и благодарного слушателя, и прекрасный повод для воспоминаний о своей молодости, в которой только самые красивые девушки приходят к вам в гости.
– Наш род, Дашенька, мой и Илюшин по материнской линии, жил многие века в этих местах. Недалеко отсюда, в Суздале, сохранился старинный дом наших предков. Они были известными купцами. Но интересно другое: в Суздаль нашего прапрапрадеда сослал еще Иван Грозный из Новгорода. Корень наш произрастал оттуда, а когда царь решил подмять под свою руку своевольный город и много крови пролил, так что, как написано в летописях, не один месяц Волхов был красным от людской крови и черным от плывущих по нему трупов, наш пращур – знаменитый мастер-оружейник был за свое мастерство помилован, но выслан прочь со всем своим семейством, в Суздаль. А мой отец после революции перебрался сюда. Я уже здесь родился, в этом доме. Только окончил школу, и война.
– Игорь Васильевич, мне Илья говорил, что вы воевали. Расскажите, пожалуйста.
– Война – страшная вещь. Убивать людей невозможно, не по-человечески. А тут выбора нет. Или ты его, или он тебя.
Вы только представьте себе этот ужас: лежишь в окопе, а на тебя движется армада, танки и тысячи людей с автоматами. Рядом рвутся снаряды и свистят пули. И чувствуешь себя маленьким и голым против этой неотвратимости смерти. Будто черный великан, грохоча, ступает по твоей земле и уже занес ногу, чтобы наступить на тебя, раздавить и пойти дальше. Изнутри поднимается и сжимает горло страх: что ты можешь один против этой махины? Кто-то, доведенный этим страхом до отчаяния, до потери разума бежит назад, петляя, как заяц, чтобы увернуться от пуль и спрятаться от танков. Такие погибают в первую очередь. Но если ужас от ревущей, убивающей, катящейся на тебя громады превращается в ярость, и ты забываешь в порыве ослепления о собственной жизни, то, может быть, выживешь.
Ты думаешь только о том, чтобы стрелять и убивать врага, чтобы он захлебнулся собственной кровью и остановился, наконец. Стреляешь и убиваешь. Сколько раз такое было: немцы врываются в твой окоп, начинается рукопашная. Из автомата ли, штыком или голыми руками, но кто кого, или ты, или он. На войне нет выбора.
Даша слушала заворожено. Игорь Васильевич говорил, не торопясь, спокойно, вдумчиво, с достоинством. Он смотрел куда-то мимо Даши, будто там, за ее спиной проходила линия обороны и грохотала снарядами и смертью война.
– Сколько людей погибло! Приходит пополнение: после первого боя трети нет, после второго половина осталась, после третьего лишь немногие уцелеют.
– Дядя с начала войны был на фронте и до Берлина дошел, – вставил Илья.
– Да, будто хранил меня кто-то всю войну. Три с половиной года смерть рядышком ходила. Сколько было таких случаев. Уворачивался я от нее.
– Как это, уворачивался? Разве от смерти можно увернуться? – воскликнула Даша.
– Можно, еще как можно. Хотите, расскажу?
– Да.
– Шли бои в Крыму. Был приказ: взять высоту, тихо, ночью. Без шума не получилось, и немцы стали светить в нас прожекторами и забрасывать гранатами. У них гранаты заметные, с длинными ручками. Светало уже. Дважды рядом со мной падали гранаты. До взрыва три секунды. Справа упала, я перевернулся и залег. Взорвалась, не задела. Вторая рядом, опять успел перевернуться. На третий раз совсем близко. Осколками не зацепило, но песком глаза запорошило и камушками лицо посекло, так что кожа лохмотьями свисала. После боя я в медсанбат: глаза промыли, лицо почистили, вроде ничего, и снова в бой. Кстати, однажды я такой немецкой гранатой «языка» взял.
Даша слушала восторженно, будто смотрела фильм про войну.
– Это было на Львовщине. Мы уже наступали. Бои были страшные: за каждый холм, за каждый хутор. Какая-нибудь неизвестная деревня по несколько раз из рук в руки переходила. В тот раз мы отстреливались. Я лежал в ложбине, и вдруг будто дернуло меня выползти, осмотреться. Вылезаю и сталкиваюсь лоб в лоб с немцем. У меня пистолет и немецкая граната за поясом, у него – винтовка наперевес. Оба остановились на секунду и растерялись от неожиданности. Он на меня наставил в упор винтовку, а палец уже на курке. Я пригнулся, пуля рядом прошла. Тогда я выхватил из-за пояса гранату и огрел его по голове. Наверное, так сподручнее было, чем из пистолета. Он упал, я ему руки связал за спиной и потащил в штаб, благо штаб полка метрах в пятидесяти был.
Игорь Васильевич, словно смахнув соринку, провел ладонью по глазам и сказал:
– Хватит о войне. Давайте еще чаю.
С этого времени они стали видеться каждый день. Утром Илья заходил за Дашей, и они шли купаться на Шачу, на то место, где встретились впервые. Даша расстилала на траве покрывало и выкладывала на него термос с чаем и бутерброды, Илья ставил на берегу мольберт. Ей нравилось смотреть, как он работает. В эти минуты лицо его делалось сосредоточенным и отвлеченным, словно в мыслях своих и в фантазиях он переносился на другой берег и еще дальше, за холмы и березы, за горизонт. Он не глядел в ее сторону, и от этого она чувствовала себя свободнее и уверенней, будто подглядывала за ним, а он не мешал ей себя рассматривать. Что-то неуловимое, спрятанное внутри его, то, что Даша никак не могла угадать, что можно было бы назвать вдохновением, притягивало в его лице и начинало ей казаться необычным, удивительным и прекрасным. Ей становилось приятно от мысли, что он рядом и, несмотря на свою серьезность и отстраненность, тоже, конечно, думает о ней и, наверное, улыбается про себя.
Потом, возвращаясь к ней из своего воображаемого далёка, он неожиданно менялся в лице и становился проще, ближе и понятнее.
Постепенно и очень быстро между ними установилась какая-то им самим непонятная связь, похожая на невидимую ниточку, перекинувшуюся, как мысль, из одной головы в другую. Даша, за секунду до того, как он что-то делал или говорил, вдруг угадывала то, что он скажет или сделает в следующее мгновение, будто считывала его мысли: «Вот он сейчас отложит кисть и повернется ко мне», – и он поворачивался, – «вот он сейчас подойдет ко мне близко-близко, возьмет за руку и скажет: „Пойдем, окунемся“, – скажет так, словно в этих словах совсем другой смысл», – и он подходил и брал в руку ее ладошку. От этого прикосновения становилось трепетно и горячо в груди, и током било руку.
Илья за те скоротечные недели, что они были с Дашей знакомы, настолько привык думать о ней и представлять ее постоянно: ночью, рано утром или поздно вечером, когда ее не было рядом, что мысленно видел ее подле себя всегда и торопил утро, чтобы встретиться с ней снова.
Однажды, когда они возвращались после купания, на них обрушился, как это часто бывает в яркий летний день, внезапный, короткий ливень. Они спрятались под деревом, Даша прижалась к нему и сказала:
– Как я люблю дождь. Он такой чистый и светлый. Люблю на него смотреть из окна или идти под зонтом по дороге. Я всякую погоду люблю: и солнце, и дождь, и снег. Если у меня хорошее настроение, я радуюсь, а если плохое, то только не от погоды.
Почему-то Илью поразили эти слова.
Вечерами он провожал ее домой и на прощание уже смелее прижимал к себе, осторожно целовал сладкие ее губы и щекотал губами завитки каштановых волос на шее, там, где сильнее билась голубая жилка. Даше становилось душно от его рук и губ, и жар поднимался от ног к животу и растекался по рукам к груди, и огнем окатывал лицо. Слабость и истома спутывали ноги, и изнутри бил озноб до дрожи в пальцах. Они расставались до следующего утра, но всю ночь не оставлял ее трепет его прикосновений, и горячий уголек жег грудь, а губы хранили и причмокивали во сне пряность его поцелуев.
Они часто заходили к дяде Игорю. Там Илья начал писать Дашин портрет. На эскизы будущих пейзажей он разрешал ей взглянуть, на портрет нет. Тем сильнее раздувалось в ней любопытство: что же там, какая она со стороны, какой он видит ее?
Им нравилось гулять в дядином саду. Им нравилось стоять у обрыва, взявшись за руки, и молча смотреть вниз, вдаль. Им казалось, что с каждым глотком парного воздуха вся красота вокруг вливается в них и передается им покоем и солнечным, ярким ощущением счастья.
Дядя накрывал на стол в беседке, а потом они пили чай и слушали его рассказы о войне. Для них это стало чем-то вроде ритуала, еще больше сближающего их.
– В первый год войны довелось мне плыть в ледяной воде зимой. Это было во время боев за Крым. Между Керчью и Феодосией высадился наш десант, но продержался недолго: полмесяца. Был январь, на море шторма, а с суши наступают немцы: пути снабжения перерезаны, пополнение прислать невозможно. Тогда те, кто остался в живых от этого десанта, прорвались с боем в Керчь и закрепились на горе Митридат. Наша бригада окопалась недалеко, и две роты, мой взвод в том числе, было приказано послать со стороны Керченского пролива им в помощь, обеспечить отступление. Людей эвакуировали на катерах, но вскоре немцы подтянули силы, выбили нас с горы Митридат, и мы, те, кто остался, спустились к бухте. В учебниках написано, что удалось эвакуировать всех, нет, не всех. Немецкие катера уже были в Керченском проливе, правда, и наши «охотники» еще оставались в бухте. С суши наступала немецкая пехота, деваться было некуда: или вплавь, в море, или пулю в лоб. Сдаваться не собирались – это та же смерть, только позорная. Я и еще один боец нашли бревно, сняли с себя ремни, привязали себя за одну руку к бревну, а второй гребли. Было 15 января, вода – 7 градусов. Сколько можно в такой воде продержаться? Мы были не одни, рядом на бревнах плыли еще человек сорок-пятьдесят. Сколько из них выплыли, не знаю. А немцы высвечивали нас прожекторами и стреляли. Напарника моего убило. Я его отвязал от бревна и поплыл дальше. Меня подобрал наш катер. Неделю я пролежал с воспалением легких и опять на передовую, на ту же высоту, где оставалась моя часть. Там уже меня ранило, ранило два раза подряд, я двадцать дней провалялся в госпитале, а потом на десять дней получил отпуск и поехал домой, к родителям. Меня там уже не ждали: незадолго до этого получили на меня похоронку. Мать, увидев меня, чуть в обморок не упала, море слез выплакала. Так вот получилось: когда меня ранили, я упал, и никто не видел, как меня оттащили. В том бою масса людей полегла, высота то к нам, то к немцам переходила. А когда бой кончился, меня уже в госпиталь отправили. Вот и подумали, что я погиб.
Илья присел рядом с Дашей. Что-то он раньше слышал от дяди, когда тот приезжал к ним в Москву, но многого не знал. Странно было видеть перед собой человека, которого давно могло бы и не быть, так спокойно и отстранено рассказывающего о смерти.
– Да, меня словно всю войну кто-то оберегал. Хотя случаев смертельных много было.
Игорь Васильевич помолчал. С его лица давно стерлись тревоги и раны, они будто ушли вглубь, но не исчезли и не забылись.
– Почему-то память особенно цепко держит те пограничные мгновенья, миг, отделяющий жизнь от смерти.
Мы форсировали Вислу. Были большие потери. Мост был полуразрушен, и в тех местах, где образовались провалы, настелили доски. Я со своим взводом был на мосту, когда начался авиа налет. Мы упали плашмя на доски, а рядом рвались бомбы. У меня через плечо была перекинута полевая сумка, в ней пачка тетрадей и карандаши – письма домой писать. Налет закончился, все солдатики целы, а сумка моя изорвана. Карандаши сломаны, а в тетрадях осколок застрял, еще горячий. Они меня и спасли, перерубило бы меня пополам этим осколком.
Даша смотрела на Игоря Васильевича заворожено, как на человека не из этой жизни, из другой, страшной, придуманной.
– Как-то в меня стрелял снайпер. Пуля царапнула по груди и разорвала гимнастерку. Пять сантиметров в сторону и прошило бы меня насквозь.
Да, кто-то меня берег, – повторил Игорь Васильевич.
Он стал задумчив и замолчал. Притихли и Даша с Ильей. В прозрачной тишине стрекотали цикады и пели птицы. Солнце било в чашки на столе и в окна, воздух хотелось глотать и смаковать, как конфету. Война казалось далекой и нереальной, как страшная сказка на ночь.
– Мне до сих пор часто снится один и тот же сон. Я сталкиваюсь с фашистом лоб в лоб, выхватываю пистолет, жму на курок и с ужасом понимаю, что у меня нет патронов, и сейчас выстрелит он. Тогда я просыпаюсь.
Даша прощалась до завтрашнего дня с Игорем Васильевичем, Илья стоял рядом, а дядя смотрел на них как-то особенно, но ничего не говорил. И им вдруг обоим почудилось в его взгляде то, что он, может быть, хотел им сказать: «Подумайте, как хрупка и мимолетна жизнь. Не упустите ее, не пропустите это мгновенье. Оно может никогда не повториться.»
В этот вечер они, не сговариваясь, повернули от города туда, где сразу за околицей расстилались луга, вырастали леса. Перламутровый закат красил кромку неба. Душисто пахло скошенной травой. Они тихо, молча брели в сумеречную прохладу, где уставший день прятал в лесной черноте свое лицо. Таинственные тени расчерчивали тропинку, сверху перешептывались и судачили о них деревья, и бархатная трава манила их прилечь и забыться. Ароматы полевых цветов кружили голову, и голосистый соловей выводил свою любовную трель.
Губы прильнули к губам, лицо утонуло и задохнулось в сладком запахе волос, ладони стиснули ладони и прижались к груди, ноги переплелись и не хотели уже расставаться. Одежды мешали кожей ощутить кожу, и они сбросили их. Аромат горячего тела смешался со свежестью травы и пряностью лугов и задурманил, закружил их в объятьях. Подступающая летняя ночь окутала их легким одеялом и спрятала от посторонних глаз.
На следующий день они опять пришли к Игорю Васильевичу, но по блеску в глазах, по мимолетному прикосновению рук, даже по походке, казалось бы, порхающей, в них чувствовалась перемена.
После обряда чая, в лучах склонившегося к горизонту солнца, Игорь Васильевич сказал:
– Мне хочется рассказать вам историю, связанную с этим самым местом, на котором мы сидим, на котором стоит дом, легенду об Акулине.
Даша, вы ничего о ней не слышали?
– Нет, расскажите, пожалуйста, – и Даша, как маленькая девочка в ожидании сказки, едва удержалась, чтобы не захлопать в ладоши.
– Здесь, на высоком холме у слияния двух рек, в этом красивейшем месте долго никто не строился. Мой отец, твой дед, Илюша, переехал сюда из Суздаля после революции, решил тут обосноваться и выстроил этот дом. Намного позже он узнал, что место это считалось проклятым, ведьминым, и здешние люди избегали и побаивались его. Ведьму звали Акулина, а сама эта история насчитывает уже триста лет.
В конце XVII века эти земли принадлежали молодому князю Борису Куракину. Он был известным транжирой и гулякой. У него был дом в Москве, и сюда он приезжал редко. На этом самом месте, где мы с вами теперь чаевничаем, стоял его охотничий домик или усадьба, точно уже неизвестно, но наезжая в эти края, он останавливался именно здесь. На месте нашего городка располагалось большое село Яковлевское, довольно богатое, и крестьяне, жившие в нем, были крепкими, даже зажиточными по тем временам. Были у них большие наделы земли, а зимой при доме они работали на ткацких станках и неплохо зарабатывали.
Жила в этом селе молодая пара: Петр и Акулина, красивые, ладные, приветливые, открытые, на людях, как говорили. Детей у них не было.
Был однажды князь в селе наездом и случайно увидел Акулину. Увидел и влюбился в нее. Но, видно, не захотел шума поднимать и решил ею тайком завладеть. Точно не знаю, какая тогда война шла, с турками, наверное, но Петра в один из худших его дней схватили и забрили в солдаты. Домой он уже никогда не вернулся, сгинул на чужбине. А к Акулине князь частенько стал приезжать, только не давалась она ему, хоть он и князь.
Тогда в одну ненастную ночь он приказал своим холопам привезти ее силой. Сюда, к этому обрыву, в его хоромы и привезли ее. Он пировал с друзьями и был сильно во хмелю. Встала она перед ним и говорит: «Будь ты проклят, князь, если тронешь меня. Дом твой сгорит, а имение свое потеряешь.» Только не встревожили эти слова князя. Он уже изнемогал от желания, и ее дикая красота, горящие глаза, яростные слова только распалили его. Он схватил ее на руки и понес в спальню.
Рано утром видели, как молодая женщина выбралась из окна и бросилась с обрыва. Тело ее искали, но не нашли. А днем загорелся дом, будто подожгли его с четырех сторон. Князь в эти края больше не возвращался, а через год проиграл в карты свое имение.
Земли выкупил Ипатьевский монастырь, потом они еще кому-то перешли, но на пепелище до моего отца никто больше не строился, и место считалось заколдованным. То ли Акулина оборотилась в русалку, то ли в ведьму, но рассказывали, что ночью или рано-рано утром, когда только плесканет белесой пеленой на землю, она выходит из воды и сидит на этом обрыве, как Аленушка со знаменитой картины Васнецова.
Вот такая любовная трагедия. Правда, я никогда не видел эту Акулину.
Лето клонилось к закату. Но для Ильи и Даши календарь перестал существовать. Они не замечали ни все чаще набегавших на небо туч, ни ранних сумерек, неумолимо съедающих день, ни первых пожелтевших листьев на клене. Они были до головокружения пьяны собой и прекрасно безразличны к окружающим. Их дни и ночи перемешались и перепутались, как старый невод, их любовь до слез, до боли, до немоты перехватывала горло и сильнее заставляла биться сердце, их страсть вспыхнула, как сухие поленья, готовые к топке, время остановилось и сделалось бесконечным.
Как-то Даша привела Илью к себе в дом и познакомила с мамой.
– А, вы тот самый москвич, художник и племянник Бирюка, – сказала она без осуждения и без восторга в голосе.
– Мама!
– Садитесь за стол. Я колобушек напекла.
Марья Ивановна оказалась доброй и хлебосольной женщиной. Можно даже сказать, что Илья ей понравился.
– А как же твои экзамены? – обратилась она к Даше.
– На следующий год поеду. Поработаю годик.
Марья Ивановна только покачала головой.
Лето оборвалось осенними дождями неожиданно и недосказано. Они будто очнулись от сказки и, посмотрев в окно, увидели, что лето кончилось.
Перед отъездом Илья подарил Даше завернутый в тряпку холст.
– Обещай, что посмотришь, только когда я уеду.
– Обещаю.
Поцеловав Дашу в заплаканные глаза и в через силу улыбающиеся губы, Илья уехал в Москву.
II
Прошел месяц, другой. Писем от Ильи не было. Даша пошла работать на завод. Она часто забегала к Игорю Васильевичу, и тот не скрывал своей радости, видя ее.
– Только ты меня, Дашенька, и балуешь своим вниманием.
– Игорь Васильевич, вам Илюша не писал? – и оглядывалась беспомощно, будто надеясь вдруг увидеть его в углу.
– Дашенька, милая, он никогда не писал мне прежде и вряд ли напишет. Не расстраивайся ты так. Он художник, он не любит писать писем. А тебя он любит, это я точно знаю.
– Он говорил вам?
– Нет, я видел, как он смотрел на тебя. Никакие слова не нужны.
Даша успокаивалась на время.
– Спасибо вам.
– За что? Это тебе спасибо. Ты – добрая.
Даша убегала, а через неделю или раньше вновь заходила к Игорю Васильевичу, будто по дороге. Ей был мил этот дом воспоминаниями и незримым присутствием Илюши.
Вечерами она сидела одна перед написанным Ильей портретом и пыталась увидеть в нем себя его глазами.
На портрете за столом в беседке сидела девушка, а за ее спиной тонкой, расплывчатой полосой растекались поля, леса и небо. Они были фоном, а стол лишь оттенял руки, лежащие на нем. Картина была написана так, что внимание зрителя сразу притягивало лицо девушки, ее глаза, прежде всего, потом взгляд скользил по распущенным волосам, шее, груди и снова останавливался на руках. Лицо и руки – вот что было главным на портрете.
Даша это почувствовала и теперь старалась понять себя и его, будто он ей оставил ребус, который во что бы то ни стало надо было разгадать. Иногда ей приходила в голову странная мысль, что он ждет этой разгадки и потому не пишет, и когда она догадается, что он ей хотел передать своим портретом, он тут же приедет к ней.
В какой-то момент ей показалось, что смотрит не на себя такую, какая она есть, а на ту, какой он хочет ее видеть.
Глаза на портрете были внимательные, яркие, быстрые, как искры. В лице чувствовалась доброта и покой, улыбка пряталась в кончиках губ, а длинные, плавно стекающие на плечи волосы, придавали мягкость. Руки были белыми, нежными, заботливыми.
На портрете она была очень на себя похожа и была другой. На портрете она себя увидела новой, созревшей, посерьезневшей, думающей.
Через три месяца от него, наконец, пришло письмо.
Даша пыталась унять дрожь в пальцах, открывая конверт, и не могла. Она держала перед глазами исписанный листок, а строчки прыгали и сливались. В конце концов, они выстроились, как и положено, в ряд, и Даша принялась читать.
«Любимая моя Дашенька!
Прости, что долго не писал: было много учебы и работы. Но это совсем не значит, что я о тебе не думал. Ты всегда у меня перед глазами, и ты даже представить себе не можешь, сколько набросков и рисунков твоего лица и тебя в полный рост, и в движении, и в просвечивающем на солнце платье, и вообще без платья, я сделал, сидя дома этими осенними вечерами.
Осенью меня всегда угнетают дожди и серость за окном. Осенью я болею душой. Наверное, не писал еще и поэтому: не хотел, чтобы ты услышала в моих словах тоску и пустоту. Теперь другое дело: побелело от снега и посветлело на сердце. И я хочу, чтобы ты услышала мою нежность и мою любовь к тебе. Я много думал о нас и о нашей любви. И сейчас могу с уверенностью сказать, что люблю тебя, люблю, потому что ты – настоящая. Это такая редкость и такое счастье, что я тебя нашел.
У меня грандиозные планы касательно нас и нашего будущего. Я тебе о них расскажу, когда приеду. Скоро у меня каникулы, и я собираюсь к тебе на Новый год. Я очень хочу, чтобы мы его встретили вместе. Я знаю: следующий год – это будет наш год.
Не умею писать длинные письма. Это и не нужно, наверное. Ты у меня умная, ты все понимаешь.
Целую тебя крепко-крепко, нежно-нежно. До встречи.»
Даша прижимала листочек к груди и целовала его, даже нюхала, словно это письмо еще хранило его запах. «Любит, любит, любит, – без конца повторяла она. – Скоро приедет, уже совсем скоро.»
Она вдруг засуетилась и стала прибираться по дому, будто уже назавтра он будет здесь. Она побежала в комнату к матери.
– Мама, испеки колобушек, что-нибудь вкусненькое. Илюша приезжает.
– Когда? Завтра?
Марье Ивановне тоже передалось это предпраздничное волнение. Она встала и беспокойно огляделась, словно взглядом проверяя, все ли готово к приезду гостя.
– Нет, мама, на Новый год!
– Уф! Что же ты меня так пугаешь. Я уж думала завтра, как снег на голову.
– На Новый год! На Новый год! Давай придумаем, что бы приготовить. Купим елку, я украшу. Надо побежать к Игорю Васильевичу, сообщить, пригласить его.
– Сядь-ка, успокойся. Новый год еще через месяц. На сколько он приезжает?
– Дней на десять, наверное. У него каникулы.
– Да присядь ты, егоза. Дай подумать.
Марья Ивановна села на стул и оглядела дочь с ног до головы, как бы привериваясь* к ней.
– Мне показалось, что он парень серьезный, хоть и москвич. Погоди. Они там все шалопаи и хорохорятся, как петухи. Но он, вроде, ничего. Про тебя и говорить нечего. Вон, шило в одном месте так и свербит. Что я, слепая? Видела, как ты места себе не находила, пока от него письмо не пришло.
Значит, так. Мы с тобой все приготовим, приберемся, елку нарядим и вместе старый год проводим. Закуску и горячее припасешь* и к Бирюку заранее отнесешь. Вы там Новый год встречайте, там вам лучше будет. А я к подружкам уйду праздновать.
– Мама!
– Помолчи. Я вот что надумала. Первого, на все праздники, я к тете Вале в Толпыгино поеду, я ее предупрежу. А вы здесь эти дни поживите без меня. Приверитесь* друг к другу, я не хочу вам мешать.
– Мама, какая ты у меня добрая.
– Погодь. Не знаю уж, как там у вас дальше сложится, но на соседей и их пересуды внимания не обращай. Я сама скажу: мол, жених приехал.
– Мама, мама, – Даша не находила слов и вертелась, как белка, вокруг стула, на котором сидела мать.
– Вот и решили.
– Привериться – присмотреться (Ивановский диалект)
– Припасти – приготовить (Ивановский диалект)
III
Дом на стрелке показался Илье постаревшим, поседевшим от снега, будто съежившимся до весны. Дни стояли хмурые, солнце не показывалось много дней, во дворе выросли сугробы до пояса. Сам городок тоже как-то помельчал, поскучнел, врос в землю. Прохожих на улице было мало, и создавалось впечатление, что сразу с работы люди невидимо переносились домой и прятались там до утра. К празднику город немного проснулся, оживился. На главной площади поставили елку, стало веселее.
Илья приехал за два дня до Нового года, в первый вечер долго вечерял с Дашей и Марьей Ивановной, но остановился у Игоря Васильевича. Эти первые дни по приезду, встреча и прогулки с Дашей по городу прошли как-то скованно и скомкано, не так как он хотел, как представлял себе. Даша тоже была более задумчивой и напряженной с ним, но радостную улыбку, так и прилепившуюся к ее губам после их встречи, скрывать не могла.
Когда сидели за столом, Марья Ивановна расспрашивала гостя об учебе, о его работах, но ни словом не обмолвилась о его планах и отношениях с Дашей. Даша поминутно вскакивала и что-то приносила на стол, что-то придвигала к нему поближе.
В углу стояла елка и заговорщицки им подмигивала зелеными, красными и желтыми лампочками. Глядя на нее, становилось спокойнее, теплее, и постепенно вырастало ощущение, даже уверенность, что через два дня Новый год, и тогда все изменится к лучшему.
Игорь Васильевич Илье обрадовался, Дашу встретил, будто они расстались накануне. Собственно, так и было. За последний месяц она заходила к нему много раз, даже показала издалека Илюшино письмо, словно он мог ей не поверить. Она сама выбрала елку для этого дома, они вместе определили место для нее, сама украсила ее любовно, тщательно, не торопясь, а Игорь Васильевич сидел рядом и любовался не столько елкой, сколько Дашей.
31 декабря, когда Марья Ивановна вышла на минутку к соседке, Илья с Дашей, наконец, остались одни. До этого как-то не получалось, даже целовались украдкой: рядом всегда были или соседи, или знакомые.
Даша присела к нему на колени и прижалась к нему. Сейчас она казалось старше и рассудительнее. Она отстранилась немного, посмотрела в глаза, провела ладонью по его волосам.
– Милый мой, милый. Как я по тебе соскучилась.
– Дашенька, – он выдохнул ее имя, как заклинание, и словно задохнулся.
– Завтра мы уже будем вдвоем, только ты и я. Мама уезжает на праздники к тетке.
Будто солнце выглянуло из-за туч, и камень скатился с груди. Даша была близка и желанна. Пальцы медленно скользили вниз вдоль позвоночника, и сквозь платье Илья почувствовал, как зыбкая дрожь пробежала по ее спине. Он уткнулся лицом в ее волосы, они пахли летом. Как мало нужно слов, чтобы мир из серого стал светлым. Как немного надо, чтобы в настоящем, как надежда, блеснуло будущее.
Четыре месяца в Москве пронеслись у него сумбурно и незаметно. Первые несколько дней после возвращения в Москву голова кружилась в эйфории воспоминаний. Он закрывал глаза и видел напротив Дашино лицо, а ночью во сне он гладил ее бедро, целовал губы и грудь и млел от блаженства любви. Постепенно страсть его стала не то чтобы забываться, но таять и прятаться в глубине сознания. Он лукавил, когда писал ей, что не хватает времени. Да, он много работал, много занимался, но эти напряженные будни давно стали обычными и смешивались с застольями в кругу друзей, и скрашивались вечеринками в обществе привлекательных девушек. Даша у него была далеко не первой. Он был молод, здоров, недурен собой и полон амбиций. Он еще не вошел в узкий круг художников, поэтов и артистов, но был уже в ближнем круге. До своего летнего путешествия всеми мыслями он был среди московской богемы. Теперь, наконец, туда вернулся. Но окунувшись в прежнюю привольную жизнь, Илья вскоре понял, что воспринимает ее не так, как раньше: не бездумно, не легко. Что-то удерживало его, что-то мешало. Он не сразу догадался, что дело было в нем самом, в том, как он сначала бессознательно, а потом более осмысленно принялся сравнивать. Прежде всего, сравнивать, позже размышлять. Он видел вокруг себя красивых, элегантных, смеющихся девушек – они не изменились, но ему они неожиданно стали казаться фальшивыми, неестественными, искусственными, как мишура. Глядя на них, он вдруг определил для себя, что они делятся на два вида. Одни хотят от него, как и от других мужчин, наслаждений, страсти и бесконечного вальса с шампанским. Другие расчетливее: они пытаются заглянуть в будущее и рассмотреть в нем перспективы своего претендента. Дамы этого второго сорта не спешат, их цель – женитьба, и они, как саперы, осторожно двигаются к ней. И тот, и другой вид окружающих его женщин схож в одном: вместо приманки и аркана они выставляют зад, ноги и грудь. Когда он думал об этих женщинах, ему невольно вспоминалась заводная, непосредственная, безыскусная, открытая Даша.
Теперь, когда он слушал рассуждения своих друзей об упадке классицизма и преимуществах западного авангардизма, они ему начинали казаться бесполезным умствованием. Споры о Малевиче, Кандинском и Пикассо, в которых раньше он принимал живейшее участие, ныне утомляли его бесконечным повторением одних и тех же штампов. Приглушенные вздохи о заграничных вещах и пластинках, о том, как там красиво загнивают, почему-то сравнивались в памяти с рассказами дяди Игоря о войне и казались пустыми и никчемными.
Прошло два месяца, ему стало скучно в своей компании.
Осень стучалась дождем и голыми ветками в окно. Он чаще оставался дома и чаще думал о Даше. В своем воображении он представлял, как она бежит по лугу в светлом платье, распахнув руки ему навстречу. Она сама была, как светлое пятнышко, разрастающееся в его голове и постепенно заслоняющее собой дымную патоку студенческих вечеров.
И вот с этого времени Илья стал грезить о Даше постоянно и рисовать ее карандашом на бумаге. Он набрасывал то, что видел в своей памяти, и то, что придумывал о ней: чаще с обнаженной грудью, распущенными волосами и оголенными бедрами. Ему вспоминалась дядина легенда об Акулине, и он придумывал Дашино лицо с пронзительными ведьмиными глазами.
Выпал первый снег. Илья понял, что хочет быть с ней и уже не представляет себе жизни без нее. И вслед за этим внутренним решением он принялся строить планы их совместной жизни.
Стоит сказать, что, несмотря на некоторый богемный налет, привнесенный его институтской жизнью, и, в меньшей степени, привязанность к вещам, что было, скорее, данью времени, Илья Андреевич не был по своей природе ни стяжателем, ни развратником, а наоборот – наивным и безалаберным мечтателем. Он шагал по жизни легко, удачливо, и будущее представлялось ему таким же. Теперь в своем безоблачном и предсказуемом будущем он видел рядом с собой Дашу. «Встретить Новый год с Дашей и посвататься», – решил он.
Оформившаяся в голове мысль принесла некоторое успокоение и равновесие в душе. Он сел писать письмо и придумывать подарок для Даши.
Дымка московских месяцев, раздумий и решений развеялась, и Илья снова оказался рядом с Дашей, далеко от Москвы, будто на другом конце света.
Она смотрела на него и улыбалась.
– Я уже знаю, что ты иногда пропадаешь. То есть ты здесь, а мысли твои Бог знает где.
– Я думал о том, как я тебя люблю.
В голову ему пришло интересное заключение. Как наше восприятие и людей рядом с нами, и всего того, что нас окружает, зависит от нашего мимолетного настроения, от нас самих. Только что надуманное и придуманное им в Москве оборачивалось на деле не таким хрустальным и праздничным, как он воображал, мир представлялся таким же серым, как небо над головой. Но неожиданно мир преобразился и стал ярким и ослепительным, как новогодняя елка, хотя ведь ничего не изменилось.
Провожали старый год втроем. В нем оставалась их встреча, а чувства их переходили в новый.
В одиннадцатом часу Марья Ивановна засобиралась к подругам, а Даша с Ильей пошли к дяде. Игорь Васильевич их ждал. Марья Ивановна была права, когда говорила, что им будет приятнее встречать Новый год с Бирюком. В этом доме почему-то они оба чувствовали себя раскованнее.
Даша еще что-то готовила, припасенное заранее доставала из холодильника и накрывала на стол. Дядя Игорь и Илья старались ей помогать, но, кажется, больше мешали. Илья про себя отметил, как ловко и споро у Даши все получалось. Ему это было приятно, даже как-то по-домашнему уютно сделалось на душе.
Они успели еще раз проводить старый год. Вспомнили вечера в беседке прошлым летом. Часы пробили двенадцать. Они встали, чокнулись шампанским в зазвеневших бокалах и загадали желание.
Даша вдруг всплеснула руками и бросилась вон, в прихожую. Своими стремительными движениями она напоминала грациозную молоденькую козочку. Илья смотрел на нее, и такая щемящая нежность трогала сердце, что, наверное, впервые он ощутил и подумал: это огромное, солнечное чувство, переполняющее его, и есть любовь.
Дашин голос зазвенел колокольчиком.
– Подарки, подарки, – повторяла она, доставая коробки.
Илья с ужасом вспомнил, что он забыл приготовить подарок дяде, Даше выбрал, ее маме тоже, а про дядю не подумал.
Даша вынула фотоаппарат последнего образца с какими-то зеркалами и автоматикой, в которой она плохо разбиралась, и протянула его дяде Игорю.
– Игорь Васильевич, мы с Илюшей поздравляем вас с Новым годом. Желаем здоровья и счастья. Это от нас.
Илья начал понимать, что сделал правильный выбор относительно своей будущей жены.
Илье Даша протянула перевязанную бантом коробочку.
– Открой, Илюша. Я тебя поздравляю.
В бархатной бордовой коробочке на подушечке в маленьких углублениях лежали серебряные запонки с круглой темно-зеленой яшмой в середине и серебряная булавка для галстука.
Илья ахнул. Он поцеловал Дашу, не стесняясь Игоря Васильевича. В голове выстроилась цена, которую она заплатила, и догадка, что Даша многие месяцы думала об этих подарках, откладывала на них деньги и долго их искала и выбирала.
Но разве в деньгах было дело? Разве можно было их даже сравнивать с тем удивлением и восторгом, с той любовью и радостью в глазах, что нельзя купить ни за какие деньги. Что приятнее: дарить или получать подарки? Кому как. Но и то, и другое, несомненно, прекрасно, когда они от души.
Илюша засунул руку в карман и тоже вытащил маленькую коробочку. В ней горело золотое кольцо с бриллиантом.
– Примерь.
Даша просунула пальчик в кольцо, и оно оказалось впору. Неожиданно она расплакалась, обняла Илью и уткнулась ему в плечо.
– Мне никогда, никогда никто такого не дарил, – каждое слово вылетало отдельно, прерывисто, сквозь рыдания.
– Дашенька, успокойся, ну что ты.
Она на секунду отняла лицо от его плеча и прошептала прямо в ухо:
– Я тебя очень, очень люблю.
И снова уткнулась в него и заплакала сильнее, вздрагивая плечами.
– Подождите, друзья мои. Даша, перестань плакать. У меня для вас тоже есть подарок. Он один на двоих, но я думаю, это правильно.
И Игорь Васильевич вытащил откуда-то из-за дивана коробку уже побольше. В ней оказался знаменитый чайный сервиз «Мадонна», за которым в те годы охотились все советские люди. Они, осторожно беря в руки, рассматривали на свет чашечки и блюдечки и передавали каждую из них друг другу.
Эта была волшебная ночь подарков, коробок и коробочек.
Когда все встали из-за стола, а Игорь Васильевич присел на диван перед телевизором, Даша с Ильей вышли во двор – на мороз, показавшийся им горячим, чистым и сладким.
Илья привлек ее к себе и прошептал, хотя никто не мог их услышать:
– Я тебя люблю. Выходи за меня замуж.
Она уткнулась куда-то ему в грудь, подняла глаза к его глазам и ответила заветное:
– Да.
Из-за туч выплыла луна и нечаянно подсмотрела и подслушала их признание в любви.
Об этом было незамедлительно сообщено Игорю Васильевичу, и были не раз за эту счастливую ночь подняты бокалы в их честь.
Наутро, когда они вернулись домой, об их решении узнала и Марья Ивановна. Она их перекрестила и благословила: «Будьте счастливы, дети», – и снова накрыла на стол, и расцеловала их, и усадила рядом.
Новогодняя ночь эта показалась нескончаемой, сказочной, но никто не уставал от нее. Они успели вздремнуть, погулять по безлюдным улицам, проводить на автобус Марью Ивановну, и уже совсем поздно Даша застелила свежим бельем постель, и они, наконец, легли в свое брачное ложе.
Закружились в зимней метели и в редких ясных часах, в любви короткие праздничные дни и ночи. Днем они катались на лыжах по заснеженному сосновому бору. Деревья, как мачты корабля, упирались в распогодившееся голубое небо и в январское торопливое блеклое солнце. Лыжи шли легко и катились гладко по пологой, длинной горке вдоль берега Волги. Они останавливались, уходя с лыжни, подальше от посторонних глаз, чтобы съехаться лыжа в лыжу, обняться, согреться друг о друга и поцеловаться в морозные щеки и теплые губы.
За обрывом, внизу, затянутая в лед Волга разлеглась белым тюлем до избушек на другом берегу. Сосны, покачиваясь зелеными верхушками, что-то шептали, скрипели и кряхтели. Благодать, тишина, белизна, чистый воздух и свежесть морозного дня дарили покой и целый мир, и он представлялся огромным и бесконечным, как жизнь, и принадлежал, казалось, только им одним.
На третий день Даша сказала:
– Давай поедем сегодня в Толпыгино, к маме. Ей будет приятно, что мы приехали. А у тети Вали всегда весело, собирается родня, песни поют. Ты таких песен и не слыхал, тебе понравится. Послезавтра на работу. Заберем ее оттуда и вместе домой поедем. Ты как?
– Да я с тобой хоть в Толпыгино, хоть куда.
Это правда, такого застолья Илья не видывал никогда. Он был в восторге. Ему всегда нравились шумные компании, но здесь все было особенным, другим: простым, искренним, задушевным. Наверное, люди в этих краях жили по-другому – более открыто, доброжелательно и бесхитростно. На столе стояли бутылки беленькой, в комнате гудел незлобливый галдеж, а молодые бабенки и те, что постарше, и совсем старые, видно, много раз спевшиеся и сладившиеся между собой, затягивали песни. Мужики иногда подхватывали, но вели бабы на несколько голосов:
Вот кто-то с горочки спустился —
Наверно, милый мой идет,
На нем защитна гимнастерка,
Она с ума меня сведет.
Они пели, глядя друг другу в глаза, протяжно, душевно, серьезно, немного подвывая. Наверное, только в русских деревнях еще умеют так петь: безоглядно, самозабвенно, с надрывом, сердцем.
Его Даша пела вместе с другими, и казалось, что она была далеко, словно окунулась в песню, как в воду, и в то же время Илья думал, что она поет о нем, о любви к нему, для него. Это было сладкое, упоительное чувство радости и какой-то неведомой доселе душевной свободы.
Свадьбу назначили на лето. Зимние каникулы подошли к концу. Они расставались на несколько месяцев.
IV
Свадьбу пришлось отложить. Весной умерла Марья Ивановна. Она умерла внезапно, без всяких признаков болезни. Будто ворвался ветер в распахнутую дверь и задул свечу. Она была энергичной и жизнелюбивой. Даша вспоминала, как она зимой, в валенках на босу ногу и в полушубке, накинутом на халат, бегала с ведрами на колодец. Она заботилась обо всех, кто был рядом, лишь на себя не обращала внимания. Даша рассказывала, что у нее было высокое давление, и врачи советовали лечиться. Куда там. Она умерла неожиданно, еще совсем молодой.
Илья приехал на похороны. Отпевали Марью Ивановну в Красинском, ближней к городу деревушке, откуда она была родом. Священник Михаил стоял у гроба с кадилом, а она лежала спокойно и тихо, и белое лицо ее было серьезно. Словно смерть согнала с ее губ обычную приветливую улыбку и заставила в последний раз задуматься: а так ли, как надо, как хотелось бы, она прожила свою жизнь? А все ли, что было задумано, что хранилось на сердце, она исполнила? Все ли передала и завещала единственной дочери? Всему ли научила ее, чтобы не так трудно и одиноко было ей жить на земле?
Даша стояла у гроба, в последний раз смотрела на маму большими, чуть удивленными от этой несправедливости глазами, и беззвучно плакала.
Илья стоял рядом, глядел в закрытые глаза Марьи Ивановны и видел ее живой, суетящейся на кухне, усаживающей его за стол, мелко крестящей их с Дашей в родительском благословении. И слышал ее мягкий голос: «Будьте счастливы, дети». Он знал, что она очень любила Дашу, полюбила и его, будущего зятя, и был благодарен ей за ее понимание, доброту и любовь.
Марью Ивановну похоронили на деревенском кладбище, среди берез, на высоком берегу Тахи. Солнечные блики прыгали на могиле и, как могли, утешали живущих.
Были поминки. Даша сдерживала слезы, а когда они остались вдвоем, уткнулась в Илюшино плечо и зарыдала в голос. Илья гладил ее по головке, держал за руку и не находил слов утешения. Нет таких слов.
На следующий день он ей сказал:
– Дашенька, поехали со мной в Москву. Нельзя тебе одной здесь оставаться.
Она покачала головой:
– Нет, Илюша. Поезжай. Заканчивай институт и возвращайся. Я тебя буду ждать.
И снова они расстались. Бог ли испытывал их, судьба ли так распоряжалась, но приходилось ждать и верить.