Расчет и страсть. Поэтика экономического человека
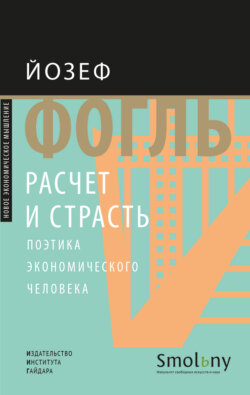
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Группа авторов. Расчет и страсть. Поэтика экономического человека
Предисловие
Глава 1. Тела политики
1. Государство-театр
2. Политическая физика
3. Экономическое
Глава 2. Эмоциональные ситуации
1. Нежные узы
2. Обмен символами
Глава 3. Система происшествий
1. Возможный мир
2. Нарративная экономика
Глава 4. Жизнь экономики
1. Циркуляция
2. Круги регуляции
3. Романтическая экономика
Глава 5. Экономический человек
1. Модернизации
2. Потребление и желание
Литература
Отрывок из книги
Когда новогвинейский папуас из племени арапешей выходит из своей хижины, его взгляд останавливается на нескольких кокосовых и бетелевых пальмах, которые ему не принадлежат. Он не притронется к их плодам. Он попробует их лишь с позволения владельца или лица, которому владелец предоставил на это особое право. Свиньи перед входной дверью, которых кормит его жена, также принадлежат одному из его или ее родственников. При этом мы должны знать, что этот мужчина-арапеш обычно живет в двух или трех разных деревнях, в шалашах, в хижинах вблизи охотничьих зарослей или хижинах рядом с его саговыми пальмами, однако значительную часть своего времени проводит и на земле, которой сам не владеет. Временами он охотится в буше своего племянника или шурина, а в собственных угодьях он, в свою очередь, может охотиться только в сопровождении других. Свое саго он получает как из чужих, так и из собственных насаждений. В его доме имеются весьма ценные вещи – большие сосуды, резные тарелки и хорошие копья, которые он, однако, уже передал своим сыновьям, даже если те еще совсем маленькие. Его собственные свиньи находятся далеко отсюда, в других деревнях. Его собственные пальмы разбросаны на три мили в одном и на две мили в другом направлении. Еще дальше отсюда его саговые пальмы; широко и далеко разбросаны и различные его огородные грядки, находящиеся по большей части на земле чужих людей. Мясо, коптящееся над огнем, добыто и передано ему кем-то другим: братом, шурином или племянником – поэтому он имеет право съесть его со своей семьей. Или же это мясо, которое он сам добыл на охоте; в таком случае он коптит его лишь для того, чтобы подарить его кому-то другому, поскольку есть собственную добычу, даже если это крошечная птичка, преступление, на которое идут лишь отверженные (которые сверх того еще и душевнобольные). Даже если дом, в котором он по большей части живет, принадлежит ему самому, столбы и доски в нем взяты из домов других людей, домов, которые были разобраны или покинуты. Дерево, так сказать, одолжено. Поэтому он не станет отпиливать чердачные балки, даже если те чересчур длинные, ведь позднее их используют другие для домов иных габаритов.
В этом мире, который таким или сходным образом описывала Маргарет Мид, а это описание, в свою очередь, интерпретировал Карл Поланьи, имеет место весьма своеобразное распределение вещей, благ, действий и отношений. Отдельное действие кажется разбитым на части и отнесенным к самым разным местам, и даже вещи и изделия лишены элементарных свойств объектов, которыми может владеть тот или иной человек[1]. Они доступны, пригодны к употреблению и полезны лишь потому, что в них пересекаются самые разные притязания и права самых разных лиц и групп. Даже если здесь осуществляются сделки или виды деятельности, которые можно назвать экономическими: возделывание земли, охота, ремесло, потребление, разделение труда между мужчиной и женщиной, то едва ли мы сможем найти такую точку зрения, позволяющую увидеть в них какое-либо хозяйственное единство. События, по видимости, являющиеся частями одного и того же процесса, остаются мозаично фрагментированными, а ситуации, в которых нечто дается и берется, изготовляется и приобретается, чрезвычайно тесно связаны с действиями и опытом совершенно другого рода. Элементы хозяйственного обращения включены в неэкономические институты и отношения, они встроены в контекст родства, брака, религиозных и публичных церемоний, благодаря которым поддерживаются и определяются такие виды деятельности, как производство и обмен. Таким образом, даже если в историях подобного рода и можно увидеть обилие локальных и предметных операций, гарантирующих поддержание жизни людей, лоскутный ковер из этих разнородных ситуаций и видов активности невозможно свести к единому гомогенному экономическому порядку[2].
.....
Таким образом, при переходе от «Театрального призвания» к «Годам учения» возникает ряд противопоставлений и оппозиций, затрагивающих ход развития личности Вильгельма Мейстера, его «учение», а равно и аргументацию политического слоя романа. Так, например, целенаправленным действиям протагониста противостоит контингентность множества событий, расстраивающая его жизненный план и тем не менее гарантирующая исполнение многих его желаний (женитьба, благосостояние, признание); и подобно тому как в «экономике» миссионерской системы гернгутеров «незримая рука», «незримый» друг и наставник направляет душу на провиденциальный путь, в миссионерской системе экономики Башни невидимые руки, глаза, агенты и функционеры словно бы подгоняют провидение, исправляющее решения, пробуждающее и направляющее желания, укрощающее страсти, создающее альянсы и устанавливающее стабильные отношения с объектами[69]. При этом «общественное лицо» как маска и апатичный субстрат сингулярных существований контрастирует с индивидом, который именно в своих страстях и интересах, потребностях и желаниях вовлекается в игру политического планирования, и не случайно в финале этого последовательного разоблачения должны оказаться уже не «видимость» и актер, а врач и нагота, «человек без покровов» и «истинный» человек[70]. Тем самым перспектива сдвигается с притязаний репрезентации и ролевой игры на материальный базис, определяющий расчеты и проекты Общества башни. Публичное взаимодействие по модели театра сталкивается с закулисными действиями Башни, которая посредством своих посланцев тайно управляет индивидами и проникает в персональные взаимоотношения внутри социальной коммуникации. Поэтому в конце концов инсценировке и театру противопоставляются письменные формы и аппарат фиксации данных, который используется для организации нового сообщества, хранения информации и ведения его архивов. Уже указывалось на специфическую структуру этого общества, мутировавшего из страховой компании в международный концерн и превратившего отпрыска патрицианской семьи, да еще и с аристократическими амбициями, в «равноправного налогоплательщика»[71]. При этом существенными представляются три момента: во-первых, это как раз дисфункциональные на первый взгляд элементы и контингентные события романа, цепь «ошибок» и «несуразностей», которые влекут за собой ироническую ситуацию развязки и позволяют тому, кто как Саул, «пошел искать ослиц отца своего», в конце концов найти «царство» – «в нашем мире тщетно отстаивать собственную волю»[72]. Во-вторых, тем самым комплекс бессознательных склонностей и взаимосвязей становится предметом политических и нарративных регуляций, обстоятельств, складывающихся в систему за спиной субъектов и определяющих их судьбы. И в-третьих, Башня организуется в совокупную сеть всех случайных событий, в место управляемой контингентности, отвечающее за высочайшую плотность в связях между всеми индивидами, вещами и мотивами, производящее и «репрезентирующее» эти «связи». Во всяком случае благодаря этому всецело земному провидению в конечном счете желания и намерения почти каждого человека подвергаются коррекции, каждому отводится его место, а того, кому не удалось найти места, выпроваживают из этого мира. И именно поэтому Башня становится тем органом, который и есть сам роман и который может теперь поместить «годы учения» Вильгельма Мейстера внутрь себя самого, сохранить в своем архиве и инициировать бесконечно рекурсивное и – как в продолжении «Годов учения» «Годами странствий» – бесконечно уплотняющееся чтение. Поэтому Башня не просто связывает рассеянный в функциональном отношении замысел сюжета романа, скорее она инкорпорирована в саму его структуру[73]. Театр и Башня, репрезентация и архив (а в конечном счете и спектакль, и роман) определяют варианты биографии и различные способы изображения протагониста, и кроме того, они включают в себя различные уровни описания и даже различные поэтики политического, которые формируются, с одной стороны, с помощью модели публичности, персонализма и договорной обоюдности, а с другой – посредством регулирования, контроля и управления материальными, физическими, либидинозными и экономическими движениями. В «Годах странствий» Гёте даже акцентировал это различие и на одном фланге разместил «право», связанное с взаимностью, «долгом» и «отдельными лицами», а на другом – «политическую власть», предметом которой является «пристойное» и «общество»[74]. Тем самым, как представляется, наряду с репрезентативным принципом, наряду с символическим телом политического существа, которое, законодательствуя и устанавливая нормы, диктует хореографию отдельных персон, сложился некий корпус иной плотности и иной консистенции, тело, благодаря силам и действиям которого как будто бы составляется физика общественной жизни.
Разумеется, нельзя не отметить, что и в естественно-правовых теориях XVII–XVIII веков речь идет отнюдь не только об объединении отдельных воль в государство-личность, о секулярной легитимации политического господства и о репрезентации и ограничении суверенной власти. Уже начиная с Макиавелли создатели учений о политическом благоразумии, и в первую очередь теоретики государственного интереса, стремились к рационализации политики, которая апеллирует к специфическим техникам и знаниям, касающимся установления, укрепления и увеличения государственной власти[75]. Но лишь с XVII столетия конституируется знание, непосредственно связывающее вопрос о строении государства с политической эпистемологией, которая формирует определенный систематический тип рациональности и рассматривает законы, которым подчиняются государственные дела и политические тела, как два аспекта одного и того же поля знания – в надежде, что вслед за прогрессом в математике, физике или медицине могут быть открыты и законы, точно так же движущие человеческими поступками, как те, что руководят движением светил или животных тел[76]. Открытие всеобщих закономерностей в природе – астрономия Коперника, физика Галилея и Ньютона – соотносится с представлением о некоей особенной рациональности политического существа, которая расстается с моделью божественного правления и должна искать свои принципы в себе самой. Это ведет не только к попыткам построения системы, которая должна more geometrico восходить от движений природных вещей к движениям человека и далее к движениям corpus politicum[77]; и не только к тому, что – как в знаменитом введении Гоббса – знание о «Левиафане» описывается как политическая физика и политическая физиология, обещающая найти способ конструирования великого «искусственного человека» по модели естественного[78]. Здесь важным представляется прежде всего сам факт двойного – интенсивного и экстенсивного – развития комплекса политических знаний, в которых речь идет не столько о хорошем или плохом правлении, сколько о своего рода самопознании государства, – например, Монкретьен еще в 1615 году жалуется, что при всем изобилии государству недостает одного, а именно, точного знания о себе самом, а тем самым адекватного представления о своих силах[79]. Заблуждения, иллюзии, предрассудки, суеверия, нестрогие понятия или сугубо приватные мнения не могут не привести не только к ошибочным политическим решениям или к ослаблению монарха, но и к гибели самого политического существа; и если отсутствие метода или невежество порождает величайшие катастрофы, например гражданскую войну, то способ политического познания, который отныне в равной мере апеллирует как к самому человеку, так и к природным вещам, живым существам и материальным благам, ручаясь при этом за корректность наблюдений и выводов, обосновывает то рискованное и критическое знание, которое одно только объясняет предпосылки функционирования государства и судит о возможности его сохранения или распада[80].
.....