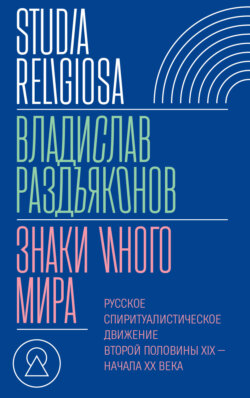Читать книгу Знаки иного мира. Русское спиритуалистическое движение второй половины XIX – начала XX века - - Страница 11
Часть I
Русский спиритуализм как феномен истории религии
Глава 1
Русские спиритуалисты в поисках идентичности
ОглавлениеВопрос о том, как именно называть движение, к которому принадлежат спиритуалисты: спиритуализм и/или спиритизм, обсуждался ими на протяжении всего рассматриваемого в этой книге исторического периода. Этот вопрос имел три значимых аспекта – религиозный, научный и публичный. С точки зрения истории религиозных идей спиритуалистическое движение началось в 1848 году в США под названием «спиритуализм», в то время как «спиритизм» указывал на конкретное религиозно-философское учение Аллана Кардека. С точки зрения научных и философских исследований под «спиритизмом» довольно скоро начали понимать эмпирические способы изучения духовного мира, противопоставляя их идеалистической позиции «спиритуализма». Публичный контекст определялся распространением в России континентальной историографической традиции, а также иных, помимо спиритуализма, религиозно-философских учений, конструировавших собственное противопоставление «спиритуализма» и «спиритизма».
Еще в 1857 году общение с духами при помощи «крутящихся столов» в русских источниках называли «спиритуализмом»[90], однако ситуация изменилась к середине 1860-х годов. К примеру, «Отечественные записки» отмечали, что, хотя американские спиритуалисты называют себя именно так, редакция, поскольку слово «спиритуализм» «хорошо известно в философском учении», будет называть последователей спиритизма «спиритистами»[91]. Согласно указанию А. Н. Аксакова, ориентировавшегося изначально на англо-американскую традицию, неправильный «обычай» называть «спиритуализм» «спиритизмом» укоренился в начале 1870-х годов[92].
Неологизм «спиритизм» был предложен Кардеком в 1857 году в сочинении «Книга Духов», для того чтобы отличать учения, полученные от духов, от спекулятивного понимания спиритуализма[93]. Необходимость такого размежевания была обусловлена его критическим отношением к «отвлеченной» философии, в то время как спиритизм позиционировался им как учение о бессмертии человеческой души, основанное на опыте и способное предъявить эмпирические доказательства[94]. Такое различение приобрело популярность среди русских философов-спиритуалистов, которые, в свою очередь, не желали иметь хотя бы и понятийное отношение к спиритической практике[95]. Существенное влияние на взгляды русских спиритуалистов оказывала немецкая спиритуалистическая философия, которая в лице критика спиритуализма Эдуарда фон Гартмана и сторонника спиритуализма Карла Дюпреля склонялась к тому, чтобы закрепить за словом «спиритизм» значение всего религиозного движения в целом:
Мне кажется удобнее обозначение «спиритуализм» сохранить за метафизическим воззрением, противоположным материализму, и… назвать новым выражением «спиритизм» объяснение медиумических явлений содействием духов с того света[96].
В 1870-е годы в дискуссию о категории «спиритуализм» вступили представители нового религиозного движения теософии. Е. П. Блаватская, ссылаясь на английский журнал «Спиритуалист», поставила под сомнение возможность использования категории «спиритуализм» как родового понятия применительно к учениям и практикам общения с духами. Выражая сомнение в возможности общения с умершими через медиумов, оставшийся неизвестным критик, перечислив различные понимания «спиритуализма», указывал, что
широкая публика считает спиритуалистом любого, кто принимает <медиумические> факты, изучив их, неважно, принимает ли он или не принимает какой-либо объясняющей их теории[97].
Блаватская характеризовала некоторые философские положения индийских религий как «спиритуализм» и стремилась дистанцировать это слово от идеи возможной коммуникации с умершими людьми[98]. Понятие «спиритуализм» в теософии получило другое значение – «философия», объединяющая различные школы «тайного знания» и утверждающая существование человека в той или иной форме после смерти физического тела[99].
В 1890-е годы, когда русские спиритуалисты столкнулись с ростом влияния теософии и французского оккультизма, им пришлось также переосмыслить соотношение понятий «спиритуализм» и «спиритизм». С одной стороны, некоторые спиритуалисты указывали, что понятие «спиритуализм» в англо-американской историографии используется для обозначения лиц, верящих в общение с духами, и потому считали его использование для обозначения универсальной религиозной философии произвольным нововведением[100]. С другой стороны, в отечественной спиритуалистической периодике стало распространенным различение между «спиритами», под которыми понимались лица, верящие в возможность общения с духами, и «спиритуалистами» – теми, кто верил в существование духовного мира. А. Н. Аксаков предложил считать «спиритизм» специфической разновидностью «спиритуализма»:
Полагаю, что спиритизм есть направление обратное материализму, то есть признающее существование духовного мира. Всякий спирит – спиритуалист, потому что признает существование духовного мира, но не всякий спиритуалист – спирит. Спиритизм есть, так сказать, частный случай спиритуализма… сравнение же их равносильно сравнению христианства с католичеством[101].
Такая точка зрения на соотношение спиритуализма и спиритизма в общем и целом доминировала в журнале «Ребус» к началу XX века:
Выходит, что человек существует и после своей смерти, хотя и в другой, эфироподобной форме, и далее: он может сообщаться с нами живущими, что и составляет основные положения: первое – спиритуализма, а оба вместе – спиритизма[102].
Испытывая влияние культурного контекста, публичные лидеры русских спиритуалистов, принадлежащие к первому поколению русских спиритуалистов, прежде всего в лице А. Н. Аксакова, отказались от попыток введения слова «спиритуализм» для публичного обозначения движения[103]. При переводе англоязычных сочинений они меняли «спиритуализм» на более понятный русскоязычному читателю «спиритизм», подчеркивая тем самым, что сочинения эти поддерживают их взгляды и практики[104]. Показательным для такой практики «культурного перевода» представляется случай с брошюрой спиритуалиста Василия Васильевича Маркова (1834–1883) «Новейший спиритуализм, его феномены и учение»[105]: редакция «Ребуса», несмотря на то что «новейший спиритуализм» был переводом английского обозначения «modern spiritualism», в середине 1880-х годов изменила название брошюры на «Новейший спиритизм»[106]. Для русских спиритуалистов той эпохи утверждение «спиритизма» как собственного обозначения было обусловлено потребностью в консолидации и признании, а также необходимостью проведения дискурсивной границы между «спиритизмом» и другими учениями, которые также выступали под эгидой «спиритуализма».
Рецепция понятия «спиритизм» русскими спиритуалистами могла быть мотивированной и с религиозно-философской точки зрения. Понятие «спиритуализм» соотносилось не только с теизмом, но и с пантеизмом, в котором не находилось места ни для Творца, ни для – что казалось спиритуалистам еще более существенным – идеи посмертного сохранения индивидуальности. Известный спор А. Н. Аксакова с Э. фон Гартманом в 1880-е годы был с этой точки зрения спором «спирита» со «спиритуалистом»: в то время как последний считал, что
цель человеческой жизни состоит в спасении, которое понимается как посмертное растворение в онтологических глубинах бессознательной самости (Абсолютного)[107],
первый защищал идею индивидуального человеческого бессмертия. С этой точки зрения лишь «спиритизм», говоривший о возможности посмертной коммуникации с «отошедшей» личностью, прямо утверждал ее сохранение как основное положение собственной доктрины.
Существенное влияние на решение вопроса о самоназвании оказывал А. Н. Аксаков, посвятивший свою жизнь поиску научных доказательств существования человеческой индивидуальности после разрушения физического тела. Слово «спиритизм», с его точки зрения, не подходило для обозначения исследований этого вопроса, поскольку заранее предрешало ответ. А. Н. Аксаков был солидарен со значимым для понимания его позиции Карлом Дюпрелем, признававшим, опираясь на кантианскую метафизику, что даже и «выражение „спиритизм“ далеко не точно, так как о духах (spirits) как таковых мы ничего не знаем»[108].
Вместо слова «спиритизм» А. Н. Аксаков предлагал использовать слово «медиумизм», которое указывало на явления, возникающие в присутствии человека (медиума), которые не могут быть объяснены при помощи теорий современной науки, однако доступны научному изучению. «Спиритизм», с точки зрения предлагаемой А. Н. Аксаковым классификации сверхъестественных «феноменов», являлся лишь одним из разделов «медиумизма», специально трактующим о фактах и доказательствах существования индивидуальности после разрушения физического тела. В 1890-е годы А. Н. Аксаков стремился популяризовать «медиумизм» как исследовательскую программу, поэтому слово неоднократно использовалось в рекламе журнала «Ребус» как синоним спиритизма: указывалось «медиумизм (спиритизм)»[109]. Использование этих понятий как синонимов и, одновременно, желание их развести как общее и частное были продиктованы, с одной стороны, основополагающим для А. Н. Аксакова требованием научного изучения «явлений», с другой – запросом широкой публики, интересовавшейся именно спиритизмом. К концу 1890-х годов понятие «медиумизм» приобрело права гражданства в психологии: к примеру, его использовал в своем учебнике по психологии Уильям Джеймс, и, как следствие, его применение представлялось спиритуалистам вполне оправданным с научной точки зрения.
Мнение А. Н. Аксакова оказало значимое влияние на русских спиритуалистов, закрепив за словом «спиритизм» ассоциацию с научным, объективным способом исследования духовного мира. Согласно мнению В. П. Быкова, спиритизм «всеми русскими и иностранными спиритами» понимается как «только лишь физические проявления потусторонних существ, в какой бы форме они ни проявлялись», в то время как «под словом „спиритуализм“ спириты подразумевают самые разнообразные, самые разносторонние сообщения духов, получаемые на спиритических сеансах»[110].
Хотя в отношении иностранных спиритуалистов В. П. Быков определенно ошибался, вполне можно допустить, что подобная интерпретация была распространенной, поскольку самими спиритуалистами, как показывают вышеприведенные примеры, спиритизм считался частью спиритуализма, понимаемого как вера в существование духовного мира.
Хотя ведущие русские спиритуалисты первого поколения часто использовали слово «спиритизм» для обозначения движения, – как свидетельствует пример В. В. Маркова, среди них не было абсолютного согласия по этому вопросу. Иные, например значимый для истории русского спиритуализма Н. П. Вагнер, могли использовать слова «спиритизм» и «спиритуализм» как синонимы:
Каждая фаза его (человека. – В. Р.) духовного прогресса – в этой или будущей жизни – навеки написана золотыми буквами на небесном своде, в виде заповеди Господа: «Любите друг друга!» Вот в этом учении и заключается сущность и содержание спиритизма, или спиритуализма[111].
Ситуация изменилась с выходом на историческую арену второго поколения спиритуалистов в конце XIX – начале XX века: его лидеры стали гораздо чаще использовать слово «спиритуализм» для обозначения своей позиции. П. А. Чистяков на I съезде русских спиритуалистов в 1906 году сформулировал «принципы» спиритуализма следующим образом:
1) Человек есть разумная духовная личность, которая лишь временно находится в соединении с физическим организмом и проявляется через это тело. 2) По смерти видимого физического тела жизнь разумной духовной личности не прекращается. 3) Все в окружающем нас мире подчинено закону прогресса и развития. Прогресс духовно-разумной личности не прекращается и после того, как она оставляет свое физическое тело[112].
Для программы планировавшегося II съезда русских спиритуалистов его организационным комитетом было предложено понимание «спиритизма» как «новейшего спиритуализма»[113].
Другой лидер русского спиритуализма начала XX века В. П. Быков издавал сочинения Кардека с подзаголовком «Философия спиритуализма». При этом он определял «спиритизм», под которым понималась практика опытного взаимодействия с духовным миром, как низшую форму спиритуализма[114], предназначенную для апологетических и миссионерских целей:
Спиритизм представляет собою только лишь ограниченную частичку огромного спиритуалистического учения[115].
Позицию В. П. Быкова разделяли близкие его взглядам спиритуалисты из города Благовещенска, заявлявшие, что «спиритуализм» предполагает развитие способностей человеческой души, а «спиритизм» как средство общения с «отошедшими» является всего лишь средством религиозной конверсии:
Из спирита можно стать быстро спиритуалистом, но, если спиритуалист станет снова спиритом-испытателем, – это уже грубое падение, равносильное отречению христианина от его церкви и обращению его снова в язычество[116].
Обращение русских спиритуалистов начала XX века к категории «спиритуализм» было вызвано разными обстоятельствами. Во-первых, в это время в русском спиритуалистическом движении начинается критика явлений «физического медиумизма», в том числе в контексте обсуждения приобретшего скандальную европейскую известность дела «цветочного медиума» Анны Роте в 1902 году. В дискурсе русских спиритуалистов появляется характерное различение «нечистого» и «чистого» спиритуализма, о котором говорили представители Московского спиритического кружка, рассуждавшие «о невозможности абсолютно-доказательных физических манифестаций и о степени пользы их для доктрины чистого спиритуализма»[117].
Под «чистым спиритуализмом» имелся в виду спиритуализм «психический», предполагающий получение посланий из иного мира посредством транса, или автоматического письма. Критика «физического медиумизма» сделала категорию «спиритизм», ассоциированную в отечественной историографии с опытными исследованиями духовного мира, гораздо менее популярной. Спиритуалисты, дистанцировавшиеся от принципа научного объективизма, стремились к разграничению медиумизма, ассоциированного с научным подходом, и спиритизма как практики общения с духовным миром[118]. Слово «спиритуализм» использовалось для обозначения «психической», или «духовной», стороны общения спиритуалистов с духовным миром.
Во-вторых, важную роль играло то обстоятельство, что в условиях серьезного ослабления цензуры русские спиритуалисты старались привлечь под свои знамена представителей разных движений. Под категорию «спиритуализм», понимая его расширительно, П. А. Чистяков подводил всех, кто в той или иной степени придерживался обозначенных им на I съезде русских спиритуалистов принципов «спиритуализма»: «теософов», «оккультистов», «психистов» и «спиритов»[119]. Согласно риторике П. А. Чистякова, на «общей ниве» спиритуализма трудились представители разных движений. Потребности в широкой социальной консолидации хорошо соответствовал «спиритуализм», однако никак не мог служить «спиритизм», ассоциированный, с одной стороны, благодаря А. Н. Аксакову с научными исследованиями физического медиумизма, с другой стороны – с учением Кардека. К примеру, П. А. Чистяков предпочитал называть себя представителем «чистейшего спиритуализма»[120].
В-третьих, для русских спиритуалистов «спиритуализм» в начале XX века был куда более приемлем для обозначения их веры, поскольку он позволял и утверждать ее широкое распространение, и сопрягать ее с христианством, и выяснять ее национально-культурную специфику. В то время как «спиритизм» ассоциировался с историей XIX века, «спиритуализм» казался универсальным и делал возможным рассуждение о специфике его разных «исторических» и «национальных» видов. Николай Петрович Киселев, акцентируя внимание на универсальной истории спиритуализма, прямо предложил в ходе I съезда спиритуалистов выявить
отличительные черты русского спиритуализма по сравнению с западным. Есть ли, в чем выражаются и чем обусловливаются[121].
С его точки зрения, такая процедура была невозможной без сравнения идей разных спиритуалистов, поэтому он предложил одновременно печатать сочинения американского спиритуалиста Э. Дж. Дэвиса.
В-четвертых, следует предполагать, что категорию «спиритуализм» могли поддержать и те участники движения, кто не хотел какой-либо ассоциации со «спиритизмом» как религиозным учением. Хотя отношения между последователями Кардека и иными русскими спиритуалистами не прерывались, последователи обоих течений явным образом проводили между собой различие и время от времени вступали в дискуссию друг с другом. Некоторые русские спиритуалисты отрицали характерную для учения Кардека идею перевоплощения[122], в то же время противопоставляя себя спиритизму, используя обозначение «кардекизм» как пейоратив:
Прискорбно мне то, что кардекизм так въелся в мозги европейских спиритов! Ужасное учение это, всеконечно, не изменит истины непрерывно и все вперед идущего «там» совершенствования, без необходимости вновь воплощаться в грубо-материальное тело; но обидно, что раскол берет верх над чистой воды первобытным американским спиритуализмом. А Кардек – сколько слез раскаяния должен он там проливать! Европу он сгубил![123]
В ситуации дискуссии спиритуалистов с представителями иных религиозно-философских движений важное место в определении их собственной специфики занял вопрос о соотношении «спиритуализма» и «оккультизма». Неологизм «оккультизм» был популяризован во второй половине XIX столетия благодаря сочинению французского мистика Элифаса Леви «Учение и ритуал высшей магии» (1856)[124]. Понятие приобрело широкую известность со второй половины 1870-х годов, когда его активно начали применять теософы для обозначения «древней практической философии», в том числе в связи с распространением в Европе сведений о восточных психопрактиках[125]. Сочинения известных французских мартинистов (Папюс, Седир, Пеладан и др.) иногда называли «нео-оккультизмом» и противопоставляли сочинениям «древнего оккультизма», к которому относили, например, труды Агриппы Неттесгеймского и Иоганна Тритемия.
Спиритуалисты считали оккультистов союзниками в общей борьбе против материализма, при этом хорошо осознавая существующие между двумя движениями различия: к примеру, участникам II съезда русских спиритуалистов предлагалось поразмыслить на тему «Спиритизм и пункты его сходства и различия с учениями теософии и оккультизма»[126]. Вопрос о соотношении оккультизма и спиритуализма обсуждался спиритуалистами еще в 1880-е годы в связи с вопросом о теософском пантеизме, вызывавшем негативную реакцию со стороны христианских спиритуалистов: согласно свидетельству Т. Стоянова (псевдоним Константина Евстафьевича Истомина?), в Америке получило развитие направление
спиритов-«оккультистов», т<о> е<сть> отвергающих всякий религиозный спиритический культ и вместо личных духов признающих единый бездушный (seelenlose) элементарный дух[127].
Главным камнем преткновения между «оккультистами» и спиритуалистами был вопрос о бессмертии индивидуальной души. Этот вопрос не утратил своей актуальности и в 1910-е годы, поэтому русский астролог В. Н. Запрягаев в комментарии к переводу книги Томаса Генри Далтона (псевдоним – Бургойн; другие транслитерации: Бургонь, Бергойн, Бургон) специально отметил в связи с полемикой о душе между спиритуалистами и теософами:
Мы просим обратить внимание на эти слова оккультиста: «Общение с духами умерших есть факт, и при этом радостный и преславный факт». И что вера спиритов в возможность общения с духами, оккультистами поддерживается, а не отрицается[128].
Следует отметить, что «спор о пантеизме», частью которого был спор между «оккультистами» и спиритуалистами, имеет давнюю историю в европейской христианской философии[129].
Другим проблематичным вопросом стал вопрос о природе Бога, прежде всего в связи с распространением в оккультных учениях разных версий теогонии[130]. Серьезные вопросы у спиритуалистов могла вызывать также популярная среди оккультистов «тринитарная логика», усматривавшая в троичности универсальный принцип мироздания, который отразился в разных религиозных системах и, в некоторых случаях, лишал искупительную жертву Христа ее онтологического значения. Отдельные положения учения каббалы, активно использовавшегося оккультистами, вступали в противоречие с христианскими представлениями о природе Бога и человека. Наконец, некоторых спиритуалистов не устраивала специфическая метафизика пола – например, характеристика популярного среди русских оккультистов сочинения секретаря Герметического братства Луксора Томаса Далтона звучит так: «Он подделывает своих фаллических богов под христианский культ и тем самым профанирует истину»[131].
Еще одним важным вопросом, разделявшим спиритуалистов и оккультистов, стал вопрос о том, насколько спиритуалистические практики могут быть подведены под категорию «магия». Подобное позиционирование спиритуализма восходило к трудам самих оккультистов, усматривавших для него – под именем «спиритизма» – особое место среди других оккультных искусств:
Нынешний магнетизм и спиритизм – только две отрасли очень обширной, практической науки, известной под именем психургии и теургии и в общежитии – магии[132].
В России подобная оценка спиритуализма как разновидности магии также была популярной среди авторов-оккультистов:
Мудрецы древнего мира располагали несколько иными средствами для получения откровений, нежели современный спиритизм, который составлял часть наук, обозначаемых общим именем «магии»[133].
Отнюдь не все спиритуалисты были убеждены в истинности «оккультной философии» и сопряженной с ней теургической практики. Наиболее когерентная и целостная спиритуалистическая система – учение Аллана Кардека – критически оценивала магию и в целом не поддерживала изучение оккультных наук[134]. Н. П. Вагнер разграничивал спиритизм и магию, подчеркивая, что создание условий для «откровения духов» еще не гарантирует самого откровения[135]. Как следует из замечания В. П. Быкова, такая риторическая стратегия была широко распространена среди русских спиритуалистов:
Спиритические сеансы должны рассматриваться не как способ для вызывания Духов нами, а как почва для общений Духов с нами, если им нужно и дозволено дать нам какие-либо наставления…[136]
Критика оккультизма русскими спиритуалистами строилась по тем же лекалам, что и его православная критика, с тем отличием, что спиритуалисты допускали существование «ложного» и «истинного» оккультизма:
Путей этих два: один путь – само-я-утверждения; этим путем и идут обыкновенно люди. Второй путь, очень редко избираемый, путь В-Боге-я-утверждения[137].
Если оккультизм рассматривался как практика, позволяющая достичь сверхспособностей путем культивирования личной силы воли, его могли сопоставлять с буддизмом, который противопоставлялся в этом отношении христианству. Московские спиритуалисты критиковали «светский оккультизм» за его «отступление от древних западноевропейских традиций и связь с теософией, буддизмом и восточными учениями»[138].
Специально критиковались популярные «оккультные» учения, основанные на гипнотических техниках, например ментализм, и обещавшие своим адептам личное благополучие – такой оккультизм критиковался за «грубый, конкретный образ мышления», который «доводит их сплошь и рядом до нелепейших смешений духа и материи»[139].
А. И. Боброва, делая акцент на необходимости развития нравственности как условия духовного прогресса, увещевала спиритуалистов:
Не ищите экстраординарных путей для проникновения в мир невидимого, напр<имер>, таких какие предлагает современный оккультизм. – Эти пути скользки и не ведут к благу[140].
Особенно ярко антиоккультный уклон проявлял себя в традиции спиритизма:
…они просят духов посвящать их беспрестанно в новые тайны, не справляясь о том, достойны ли они того, чтобы им были открыты тайны Создателя. Это те несовершенные спириты, из которых некоторые отстают от своих собратьев по верованию…[141]
С момента его возникновения спиритуализм позиционировался как демократическое и миссионерское движение, противостоящее практике индивидуальных посвящений:
В оккультизме перевоплощение зиждется… просто на авторитете посвящающего. Достаточно верить этому последнему, чтобы быть, ipso facto, посвященным, а чтобы быть и остаться профаном, достаточно требовать доказательства и объяснения[142].
В то время как оккультисты самое пристальное внимание уделяли символизму, А. И. Боброва критиковала его как «жалкий пережиток», характерный для «древних эзотерических обществ», поскольку он служил цели «скрыть от глаз профанов тайные знания общества», и, таким образом, согласно ее мнению,
язык символов узок и может быть применяем в тесном кругу лиц, условившихся между собою давать известную, одну форму тому или другому понятию[143].
В своей негативной оценке «тайного знания» некоторые русские спиритуалисты, на мой взгляд, наследовали христианской традиции критики «гнозиса».
В то же время не следует абсолютизировать характерное для спиритуалистов различение оккультизма и спиритуализма. В начале XX века многие спиритуалисты интересовались «оккультизмом» как «древней философией», чьи крупицы можно найти в сочинениях различных авторов разных религиозных и философских традиций. Такая оценка оккультизма совпадала со взглядами известных оккультистов, позиционировавших оккультизм как законченную «философскую систему»[144]. Спиритуалисты также изучали «оккультную историю», однако могли критически относиться к ее теософской и антропософской интерпретациям[145] ввиду различий в понимании цели, задач и характера эволюционного процесса. К примеру, П. А. Чистяков на заседании Русского спиритуалистического общества делал доклад с характерным названием «Высшие организмы по традициям древнего оккультизма»[146]. Некоторые представители движения проявляли серьезный интерес к оккультным учениям: например, близкая французским мартинистам В. И. Крыжановская, чьи тексты позиционировались в журнале «Ребус» как «введение в изучение оккультных наук»[147]; более того, как свидетельствует ее собственный пример, они могли «переходить» из казавшегося узким и слишком научным «спиритизма» в казавшийся универсальным оккультизм[148]. П. А. Чистяков проявлял серьезный интерес к масонской традиции, контактировал с русскими мартинистами, по-видимому, пытался организовать ложу и одобрительно говорил о «мистическом» масонстве.
Кроме того, прилагательное «оккультный» в конце XIX – начале XX века могло использоваться для обозначения явлений, которые интересовали спиритуалистов, но не были признаны наукой. Традиция такого использования восходила к трудам натурфилософов раннего Нового времени, писавших о скрытых, «оккультных» качествах вещей и способах их раскрытия[149]. Многие спиритуалисты, высоко оценивавшие «Философию мистики» К. Дюпреля[150], верили в то, что магия – это раздел естествознания, который способен раскрыть механизм считавшихся ранее чудесными явлений природы. Как следствие, например, практика христианского экзорцизма приравнивалась С. Д. Бобровым к магическому искусству, так как «знание, называющееся магией, очень высоко стояло в ту эпоху первых веков христианства»[151].
Овладение этим «знанием» – ввиду того, что некоторые спиритуалисты стремились восстановить правила общежития первых веков христианства, – могло считаться одной из важных задач восстановления христианства в целом.
90
Санкт-Петербургские ведомости. 1857. 11 янв. № 9. С. 42.
91
Неизведанные места и новые люди в Америке // Отечественные записки. 1867. № 7–8. С. 319. Та же точка зрения была проговорена в статье: Лавров П. Л. Северо-американское сектаторство // Там же. 1868. № 7. С. 301.
92
Аксаков А. Н. Спиритуализм и наука: Опыт. Исслед. над псих. силой Уильяма Крукса <…>; Подтверд. свидетельства химика Р. Гера <и др.>; Удач. и неудач. сеансы Д. Д. Юма с англ. и рус. учеными. СПб.: Тип. А. М. Котомина, 1872. С. 1.
93
Кардек А. Книга Духов. 2-е изд., доп. и испр. Нижний Новгород: Москвичев А. Г., 2017. С. 13.
94
См.: Руксель. Спиритизм и оккультизм // Ребус. 1902. № 11. С. 106.
95
См.: Страхов Н. Н. О вечных истинах: (Мой спор о спиритизме). СПб.: Тип. бр. Пантелеевых, 1887; Грот Н. Я. О душе в связи с современными учениями о силе. Одесса: Тип. «Одесский вестник», 1886. С. 5, 45; Трубецкой С. Н. Основания идеализма // Трубецкой С. Н. Сочинения. М.: Мысль, 1994. С. 671; Флоренский П. Спиритизм как антихристианство // Новый путь. 1904. № 3. С. 149–167.
96
Гартман Э. Спиритизм / Пер. А. М. Бутлерова. СПб.: Изд. А. Н. Аксакова, 1887. С. 5.
97
A Spiritualist (?). What is a Spiritualist // The Spiritualist. 1879. № 24 (June 13). P. 287.
98
См.: Blavatsky H. Echoes from India: I. What is Hindu Spiritualism? // Banner of Light. 1879. № 4. Oct. 18. P. 1. См. также о взглядах Е. П. Блаватской: Желиховская В. П. Елена Петровна Блаватская: Биогр. очерк // Русское обозрение. 1891. № 11. С. 274–275.
99
См.: Теософский международный конгресс // Ребус. 1905. № 32. С. 4. О различиях между теософией и спиритуализмом в теософской перспективе см.: The Drift of Western Spiritualism // The Theosophist. 1879. Oct. P. 7–8.
100
См.: Сербов [Бобров С. Д.]. Новые книги: И. Фермана (—ъ?). Спиритизм, спиритуализм, оккультная наука и их соотношение (я?): Крат. излож. учения спиритов и объяснение спирит. феноменов с точки зрения оккульт. науки. (Пер. с нем. д-ра медиц<ины> Н<иколая?> Б<оянуса?>). Изд. Б. К. 1908 г. Тип. Калуж. губ. земства // Ребус. 1908. № 35. С. 6.
101
Несколько слов по поводу статьи Рукселя // Ребус. 1902. № 23. С. 221–222.
102
Кайбль Ф. Современный спиритуализм // Ребус. 1903. № 25. С. 212.
103
См.: Аксаков А. Н. Анимизм и спиритизм. М.: Аграф, 2001. С. 31.
104
См.: Что такое собственно новейший спиритуализм (спиритизм) // Ребус. 1886. № 51. С. 481; Опыты прямого письма: (Из журнала «Light» от 4-го февраля 1888 г.) // Ребус. 1888. № 37. С. 331.
105
См.: Марков В. Новейший спиритуализм, его феномены и учение: Приятельские беседы. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1877.
106
Николай Александрович Львов // Ребус. 1887. № 16. С. 171.
107
Золотухин В. В. Эдуард фон Гартман: Постхристианская религия и немецкий идеализм // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Философия. 2017. Т. 21. № 1. С. 7.
108
Дю-прель К. Спиритизм // Ребус. 1886. № 31. С. 298.
109
Ломизе К. Кое-что о медиумизме (спиритизме) // Ребус. 1902. № 29. С. 267.
110
Быков В. П. К чему мы пришли? С. 5.
111
Вагнер Н. П. О медиумизме // Ребус. 1893. № 18. С. 186.
112
Чистяков П. А. Современная наука и спиритуализм // Ребус. 1906. № 43–44. С. 2.
113
Ко II-му съезду спиритуалистов // Ребус. 1910. № 7. С. 4.
114
После своего публичного разрыва со спиритизмом В. П. Быков изменил свою точку зрения: спиритизм он определял как «метафизическое учение», а спиритуализм – как «один из подотделов идеалистической философии» (Быков В. П. К чему мы пришли? С. 5).
115
Быков В. П. О цели и задачах учрежденного в России кружка «Спиритуалистов-Догматиков» // Ребус. 1906. № 12. С. 549.
116
Вестник общества спиритуалистов в г. Благовещенске: Трехнед. журн. по исслед. спиритуализма. 1910/1911. № 1 (апр.). С. 4.
117
Прибытков В. В Москве // Ребус. 1902. № 22. С. 211.
118
«С того берега» // Ребус. 1902. № 23. С. 218.
119
Чистяков П. А. Современная наука и спиритуализм. С. 6.
120
Русский франк-масон. 1908. № 1. С. 5.
121
Н. К. [Киселев Н. П.] Дополнение к программе съезда // Ребус. 1906. № 32. С. 3.
122
См.: Л. Е. О. [Чистяков П. А.] Что необходимо сделать на первом Съезде Русских Спиритов // Ребус. 1906. № 16–17. С. 4.
123
Письмо М. П. Сабуровой (автора «Спиритического дневника») А. Н. Аксакову от 27 окт. 1900 г. // ИРЛИ. Ф. 2. Оп. 16. № 15.
124
См.: Hanegraaff W. Occult / Occultism // Hanegraaff W. (ed.) Dictionary of Gnosis and Western Esotericism. Leiden: Brill, 2006. P. 887.
125
См.: Eastern Magic and Western Spiritualism: A Lecture Delivered by H. S. Olcott in 1875. Madras: Theosophical Publishing House, 1933 (Adyar Pamphlets. № 169).
126
Ко II-му съезду спиритуалистов. С. 4.
127
Цит. по: Прибытков В. Богословско-философский журнал о спиритизме: Науч. подтверждение реальности медиум. явлений // Там же. 1885. № 14. С. 132.
128
Бургонь Т. Г. Свет Египта, или Наука о душе и о звездах: В 2 ч. Вязьма: Тип. Писаревской, 1910. С. 130.
129
См.: Лейбниц Г. В. Опыты теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале зла // Лейбниц Г. В. Сочинения: В 4 т. М., 1982–1989. Т. 4. С. 80. Высокая оценка позиции Лейбница дана в тексте, предположительно атрибутируемом П. А. Чистякову; см.: Нечто о магии и психизме // Ребус. 1911. № 23. С. 4.
130
См.: Сент-Ив д’Альвейдр Ж. А. Ключи Востока; Пол и любовь; Тайны смерти: Тайны рождения: Согласно указаниям вост. каббалы. СПб.: Журн. «Изида», 1912. С. 20–21.
131
Соколов. Современный эзотеризм и оккультизм: По поводу кн. «Свет Египта» // Ребус. 1915. № 24–25. С. 10.
132
Папюс. Оккультизм // Ребус. 1903. № 2. С. 19.
133
Русский астролог [Хрущев М. И.?]. Астрология в наши дни // Ребус. 1897. № 27. С. 226.
134
См.: Л. Д.-Г. Астрология, каббалистика и магия с точки зрения спиритизма // Ребус. 1908. № 36–37. С. 8.
135
См.: Вагнер Н. Что такое спиритизм? / Предисл. к публ. В. Раздъяконова // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2015. № 4. С. 271–293.
136
Спиритуалист. 1906. № 7. С. 266.
137
А. и Б. [Боброва А. И.] Две дороги // Ребус. 1908. № 5. С. 6. См. также: Чистяков П. А. Современная наука и спиритуализм. С. 6.
138
Вопросы и темы для обсуждения на первом съезде спиритуалистов в городе Москве в октябре 1906 г. // Ребус. 1906. № 26. С. 6.
139
С. Б. Библиография. Мельфорд. Ваши непознанные силы // Ребус. 1904. № 5. С. 7.
140
А. и Б. [Боброва А. И.] Указания для образования спиритических кружков // Ребус. 1908. № 17. С. 4.
141
Кардек А. Евангелие от Спиритизма: Разъяснение нравств. основ учения Христа, их согласование со Спиритизмом и применение к различ. жизн. положениям. Нижний Новгород: Москвичев А. Г., 2019. С. 273.
142
Руксель. Спиритизм и оккультизм // Ребус. 1902. № 16. С. 157.
143
А. и Б. [Боброва А. И.] Символизм в духовном мире // Ребус. 1906. № 31. С. 4.
144
А. В. Т. Что такое оккультизм? // Анкос Ж. Первоначальные сведения по оккультизму. СПб.: Г. П. Пожаров и Л. И. Дохман, 1904. С. VI.
145
См.: Штейнер Р. «Акаша-хроника»: История происхождения мира и человека. М.: «Московская» типо-литогр., 1912. С. 6.
146
См.: Русское спиритуалистическое общество // Ребус. 1906. № 22–23. С. 4.
147
Библиография // Ребус. 1901. № 1. С. 13.
148
См.: Раздъяконов В. С. Литературное творчество В. И. Крыжановской как феномен популярного оккультизма конца XIX – начала XX века // Studia Religiosa Rossica. 2023. № 1. С. 35–51.
149
См.: Hanegraaff W. Occult / Occultism. P. 884–885.
150
См.: Два новые иностранные отзыва о г-же Блаватской // Ребус. 1894. № 38. С. 283.
151
Сербов. Демоны у древних христиан и демоны в наше время // Ребус. 1908. № 18–19. С. 8.